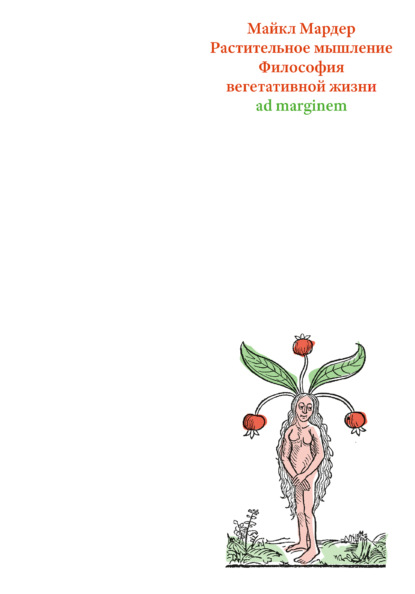000
ОтложитьЧитал
Και γαρ ζώα και φυτά και λόγου και ψυχής και ζωής μεταλαμβάνει.
ПЛОТИН, «Эннеады» 3.2.7
«…Ибо и животные, и растения участвуют в Логосе, и душа, и жизнь»
Плотин. Третья эннеада. 138 (пер. Т. Сидаша). – Примеч. пер.
Plant-Thinking.
A Philosophy of Vegetal Life
by Michael Marder
with a foreword by Gianni Vattimo and Santiago Zabala
Columbia University Press New York
2013
Перевод
Денис Шалагинов

© Michael Marder, 2013
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2024
Предисловие Джанни Ваттимо и Сантьяго Забала
29 августа 2009 года демократически избранный президент Боливии Эво Моралес был объявлен Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций «Мировым героем Матери-Земли» в знак признания его политических инициатив, направленных против разрушения окружающей среды, вызванного глобальной гегемонистской экономической системой. По словам президента Ассамблеи, преподобного Мигеля Д’Эското Брокмана, боливийский политик стал «предельным выразителем и эталоном любви к Матери-Земле»[1]. Однако Моралес – не единственный южноамериканский лидер, выступающий в защиту окружающей среды; вместе с другими социалистическими политиками, такими как Кастро и Чавес, он последовательно призывал к прекращению насильственного навязывания капитализма окружающей среде и к выработке устойчивой социальной политики, бережно относящейся к нашим самым жизненно важным ресурсам. Тот факт, что западные демократии постоянно делегитимируют[2] такую политику, свидетельствует об их безразличии к экологическим бедствиям (и финансовым кризисам), которые порождает их собственная логика извлечения прибыли, не говоря уже о том, что эта делегитимация показывает, прежде всего, насколько глубоко эти демократии укоренены в ограничивающей их метафизике. Если, по видимости, существует соответствие между либеральными капиталистическими государствами и метафизическими философскими установками, исходя из которых окружающая среда рассматривается как нечто такое, чем дóлжно манипулировать в своих собственных целях, философия обязана разорвать этот предосудительный союз.
Хотя Майкл Мардер не упоминает этих политиков в своем исследовании, политическая сущность их экологических инициатив не чужда его философскому начинанию – проекту, укорененному в «слабой мысли»[3], то есть в философии слабых, которые полны решимости разорвать связь между политикой и метафизикой. Но что именно представляет собой слабая мысль?
Слабая мысль, в отличие от других философских позиций, таких как феноменология или критическая теория, не развилась в организованную систему, стараясь избежать всех тех чреватых насилием последствий, которые неизбежно влечет за собой такая систематизация. Насилие систем часто выражается в метафизических установках, которые стремятся подчинить всё своим собственным мерам, стандартам и программам. Но, как философия «слабых» (утверждающая право угнетенных на интерпретацию, голос и жизнь), слабая мысль не только следует логике сопротивления, но и способствует прогрессивному ослаблению сильных структур метафизики. Ослабление, подобно деконструкции, не ищет верных решений, в которых мысль может окончательно успокоиться, а стремится к онтологическому освобождению от истины и других концептов, которые ограничивают возможности новых философских, научных или религиозных революций. Сам факт этих революций, как объяснял Томас Кун, указывает на то, что наука проходит через различные фазы и вместо «продвижения к истине» меняет «парадигмы». Но последние постоянно сменяются не только в науке, но и в философии, религии и прочих дисциплинах, так что одни теории уступают место другим не потому, что стали неверными; в этом состоянии «постмодерна» истина исходит не от мира «как он есть», а от того, что несет ответственность за его состояние, а именно от «действенной истории»[4]. В свете этих «научных революций», или, как еще до Куна обозначил их Хайдеггер, «деструкций метафизики», мышление перестает быть демонстративным, но становится диалогическим, интерпретирующим и наставляющим. Что влечет за собой такое освобождение от метафизики и почему «слабая мысль» склоняется к слабости?
Вопреки некоторым критикам слабой мысли[5], такая эмансипация[6] не означает простого отказа от метафизики, что неизбежно породило бы другую ее разновидность. Скорее, речь идет о том, что Хайдеггер называл Verwindung – то есть об искажении или скручивании, которое призвано дистанцировать нас от метафизических координат. Это дистанцирование свидетельствует не о всеобщем провале или «слабости мышления» как такового, а, напротив, о возможности полностью раскрыть герменевтический потенциал философии. Герменевтика (ныне присутствующая во всей современной философии и как философия постмодерна, и как подтверждение того, что наша глобализированная культура характеризуется конфликтом интерпретаций), как правило, защищала слабое, а значит, и право различных интерпретаций на существование. Так, например, филологическая революция Мартина Лютера (перевод Библии), равно как и психологическая революция Зигмунда Фрейда (подчеркивание бессознательных психических процессов) – если убрать в скобки метафизические ограничения (церковный истеблишмент и эмпирический позитивизм) их эпох, – заключались в требовании самостоятельного чтения Библии в первом случае и углубления наших собственных психологических различий во втором. Эти два примера из истории герменевтики указывают как на ее склонность к реабилитации того, что отброшено и оставлено на произвол судьбы, позади или вне метафизики, так и на ее основную политическую мотивацию. Как мы можем видеть, герменевтика защищает исключенных, вычеркнутых или, как сказал бы Вальтер Беньямин, «исторически побежденных», не по теоретическим причинам, а скорее потому, что они требуют эмансипации – освобождения, на которое у них нет шанса в рамках метафизики, где рациональность устанавливает свои границы, правила и определяет победителей. Вот почему, подчеркивал Хайдеггер, «преодоление метафизики оказывается достойным делом мысли лишь в той мере, в какой мысль помнит о превозмогании забвения бытия»[7]; именно слабость бытия позволяет нам преодолеть метафизику, а не наоборот.
Что связывает слабую мысль и растительное мышление, так это политическая мотивация герменевтики. Хотя именно слабость бытия позволяет Мардеру освободить философию вегетативной жизни от наших категорий, мер и рамок, такая свобода была бы бесполезна, если бы предполагала негерменевтический концепт природы. В конце концов, природа всегда была нормативным понятием, как в том, что касается вегетативной жизни, так и в отношении самого существования, определяя, как мы должны действовать и какими нам быть, независимо от наших различий. Вот почему с первых страниц этой книги Мардер представляет свое исследование как призыв «уделить особое внимание растениям, стараясь избегать их объективного описания и тем самым сохраняя их инаковость. Задача в том, чтобы позволить растениям являться и быть в том „регионе“, что сопряжен с глубокой неясностью, которая на протяжении всей истории западной философии была признаком их жизни» (введение). И как раз поэтому, в отличие от прежних метафизико-философских описаний вегетативной жизни (обсуждаемых в первой части книги), где сущность растений определяется лишь при помощи прикладных и навязанных категорий, Мардер предлагает (во второй части своего исследования) представить себе эту сущность как нечто «радикально отличное от всего, что измеряется в человеческих терминах», поскольку «[растения] не только есть, но и экзистируют» (глава 2). Именно экзистенция растений позволяет нам представить свое отношение к ним не в терминах «нашего мира» (следуя хайдеггеровскому пониманию этого термина), стоящего перед «не-миром», а в терминах взаимодействия двух миров («нашего» и того, который Мардер называет «растительным»).
Опирающаяся на экзистенциальные последствия хайдеггеровской деструкции метафизики, мардеровская онтология – это не онтология растения, а онтология для растения, и в этом она противостоит прежним метафизическим позициям. Более того, онтология вегетативной жизни отличает бытие растений от самих растений в качестве сущих, то есть от тех онтических категорий, которые всегда навязывала им метафизическая традиция. Хайдеггер называл это «онтологическим различием» между бытием и сущим, и как раз в этом различии Мардер усматривает жест деконструкции, ставящий под вопрос «метафизический раскол между душой и телом, устраняя тем же самым жестом классическую оппозицию между теорией и практикой» (эпилог). Вслед за разрушением метафизической традиции Хайдеггером и Деррида, Мардер требует «бесконечного расшатывания, ослабления границ самости, соизмеримого с бессилием (Ohnmacht) самих растений» (глава 4).
Отвечая на конец метафизики ослаблением онтических категорий вегетативной жизни, Мардер не столько демонстрирует их ошибочность, сколько предполагает, что они были ограничены в политическом отношении, например, в том смысле, что их регулировал исключительно «капиталистический агронаучный комплекс» (эпилог), эксплуатирующий растения сверх всякой меры, которую можно было бы извлечь из окружающей среды. В своей новой книге он выступает за политическую эмансипацию от этого комплекса посредством герменевтической политической философии, соприкоснувшейся с бытием растений – которое является не сущностью, а скорее «коллективным сущим», чье тело – «нетотализируемый ассамбляж множественностей, в корне политическое пространство конвивиальности» (глава 2). Мардер именует это политическое пространство «растительной демократией», что не слишком отличается от экологических политических инициатив, выдвигаемых так называемыми маргинальными правительствами Южной Америки. Подобно тому, как эти экологические политические инициативы постоянно дискредитируются и подрываются капиталистическими демократиями, метафизика противостоит неудобным философским позициям, таким как слабая мысль, ярким примером которой является эта книга.
Благодарности
В процессе написания «Растительного мышления» мне помогли беседы с Александром Франко де Са, Сантьяго Забалой, Луисом Гарагальсой, Сантьяго Слабодским, Артемием Магуном, Марией-Луизой Портокарреро, Марсией Кавальканте-Шубак, Адамом Ковачем, Энрике Бонете Пералесом и Кармен Велайос Кастело. Обсуждение моей работы по философии растений на конференции «Политика Единого» в Санкт-Петербурге, Россия, а также в ходе интенсивного семинара «Вегетативная антиметафизика» в Коимбрском университете, Португалия, в 2010 году, существенно обогатило эту рукопись. В издательстве Колумбийского университета постоянная поддержка Венди Лохнер и фантастическая работа Кристин Данбар, Керри Салливан и Сьюзен Пенсак были жизненно важны для этого проекта. Многочисленные идеи, нашедшие свое место в книге, подпитывались моими постоянными интеллектуальными обменами с Патрисией Виейрой, чье мышление устремлено к корням вещей.
Части главы 1 были опубликованы под названием «Растительная душа: неуловимые смыслы вегетативной жизни» в журнале Environmental Philosophy 8.1 (spring 2011): 83–99, и воспроизводятся с разрешения правообладателя. Ранний вариант главы 2 появился в статье «Вегетативная антиметафизика: учиться у растений» в Continental Philosophy Review 44.4 (November 2011): 469–489. Здесь он представлен с любезного разрешения Springer Science+Business Media B.V. Более ранний вариант главы 5 послужил основой для статьи «Что такое растительное мышление?», опубликованной в двадцать пятом томе журнала Klēsis: Revue philosophique (2013), посвященном философиям природы. Здесь он воспроизводится с разрешения правообладателя.
Введение
Встретиться с растениями…
Наверное, из всего сущего, какое есть, всего труднее нам осмыслить живое существо, потому что, с одной стороны, оно неким образом наш ближайший родственник, а с другой стороны, оно всё-таки отделено целой пропастью от нашего эк-зистирующего существа.
Мартин Хайдеггер, «Письмо о гуманизме»
Ab herbis igitur que terre radicitus herent, radicem disputationis sumam.
Аделард Батский, Questiones naturales[8]
Недавний взрыв философского интереса к «вопросу о животном»[9] поспособствовал в то же время и расширению области экологической этики (где подходы варьируются от защиты Томом Риганом прав животных до утилитарного аргумента Питера Сингера в пользу освобождения всех представителей фауны), и децентрированию метафизического представления о человеке, который, как мы теперь осознаём, состоит в конститутивном отношении со своими нечеловеческими другими.
Несмотря на сильные тенденции к замалчиванию онтологических проблем в некоторых этических подходах к животности, было бы ошибкой распределять эти две группы работ по разным философским доменам. Онтологические подходы к вопросу о животном несут в себе значительные этические импликации как в плане нашего отношения к этим нечеловеческим «другим», так и в плане человеческого самовосприятия и отношения к себе, а этические дебаты по этому вопросу неизбежно включают в себя базовые предположения относительно самого бытия животных и людей. Именно это пересечение этики и онтологии позволяет современным философским исследованиям животности сохранять свою критическую остроту, благодаря которой они не скатываются в крайне спекулятивный метадискурс о биологии, но и не завершаются набором нормативных и, в конечном счете, пустых предписаний. И на этом же пересечении возникают новые и более смелые требования: расширить рамки этического рассмотрения, обратившись к разнообразным модусам бытия всех живых существ, многие из которых считаются слишком незначительными и привычными, чтобы в принципе называть их «другими».
Однако вышеупомянутое двойное требование еще не услышано. Если на протяжении всей истории западной мысли животные подвергались маргинализации, то нечеловеческие, неживотные живые существа, такие как растения, населяли окраину окраины, зону абсолютной неясности, не обнаруживаемую на радарах наших концептуализаций. А после того, как научная парадигма с трудом завоевала независимость от теолого-философских догм в начале эпохи модерна, философы по большей части вообще отстранились от проблематизации вегетативной жизни, которую они доверили заботам ботаников, а позднее генетиков, экологов и микробиологов. Бытие растений больше не вызывало вопросов; оно не представлялось проблемой для тех, кто уделял время его созерцанию, не говоря уже о тех, кто непосредственно использовал плод или цветок, корень или части ствола дерева.
Но там, где дремлет импульс вопрошания, без промедления поднимают головы онтологические химеры и этические чудовища. В отсутствие воли к осмыслению логики вегетативной жизни, выходящей за пределы ее биохимических, клеточных или микромолекулярных процессов и экологических паттернов, философы охотно допустили, что в рамках общего эволюционного процесса растения менее развиты (или менее дифференцированы), чем животные и люди, а значит, растительные существа безоговорочно пригодны для неограниченного использования и эксплуатации. Такое подавление наиболее фундаментального вопроса о растениях создало питательную среду для этического пренебрежения по отношению к ним; несмотря на то, что они, как и мы, живые существа, мы не можем обнаружить в их жизни ни малейшего сходства с нашей и, как следствие, постоянно выносим негативное суждение об их ценности, а также о месте, занимаемом ими в современной версии «Великой цепи бытия», от которой всё еще не полностью освободились ни обыденный, ни научный образы мышления. Вопреки не подвергаемой сомнению знакомости растений, они для нас всецело другие и чужие, покуда мы, скажем так, не встретимся с ними на их собственной почве – не позволим им быть, цвести и проявляться такими, какие они есть, и не отдадим им должное посредством этого самого онто-феноменологического «позволения-быть».
Таким образом, наша первоначальная задача двояка: во-первых, придать новое значение вегетативной жизни, проследив сдвиг парадигмы, который уже произошел между исследованиями animalia Аристотелем и изучением растений Феофрастом, и, во-вторых, тщательно проанализировать некритические допущения, исходя из которых эта жизнь до сих пор объяснялась. И всё же критика здесь не панацея: неизбирательные предписания критического, аналитического метода и рациональности, на которой этот метод основан, могут оказаться бесполезными, поскольку они не могут не повторять прошлых неудач, априори тематизируя и объективируя то, что, прежде всего, приглашает к исследованию, или, если говорить негативно, отвергая метод, который мы могли бы перенять у самих растений. Поэтому на более фундаментальном уровне вопрос стоит так: как мы можем встретиться с растениями? И как в ходе этой встречи сохранить и подпитать их инаковость, при этом ее не фетишизируя?
У человека в распоряжении широкий спектр возможных подходов к миру растительности. Чаще всего в повседневной суете мы не замечаем деревья, кусты (bushes), кустарники (shrubs) и цветы, поскольку эти растения составляют неприметный фон нашей жизни – особенно в контексте «городского озеленения», – подобно мелодиям и песням, которые ненавязчиво создают желаемую атмосферу в кафе и ресторанах[10]. В этой незаметности мы воспринимаем растения как нечто само собой разумеющееся, поэтому практическое отсутствие у нас внимания вполне соответствует их маргинализации в философских дискурсах. Любопытно, что абсолютная знакомость растений совпадает с их абсолютной странностью, неспособностью людей распознать элементы самих себя в форме растительного бытия, и, следовательно, c жуткой (uncanny) – странно знакомой – природой нашего отношения к ним[11]. В других условиях, таких как ферма или поле возделываемых зерновых культур, и незаметность растений, несомненно, становится другой – в используемой здесь оптике инструментального отношения мы смотрим сквозь сами растения и видим за ними только возможный способ их эксплуатации, воспринимая их лишь как потенциальное топливо: источник биодизеля или жизненно важный для людей и животных ингредиент питания. Инструментализируя растения, мы еще не встречаемся с ними, даже несмотря на то, что их очертания становятся до некоторой степени более определенными благодаря интенциональному отношению как тех, кто ухаживает за ними, так и (в меньшей мере) тех, кто в конечном счете их потребляет. Однако наше использование растительных сущих не исчерпывает того, чем (или кем) они являются, но, напротив, затемняет огромные области их бытия.
Может, нам проще встретиться с самими растениями – например, подсолнухами, – когда мы не знаем, что с ними делать, не хотим вмешиваться в их сложную внутреннюю деятельность и просто созерцаем их растущими в поле? Когда мы восстанавливаем их светящуюся желтизну в памяти, в воображении или в реальности – на холсте, как это делал Винсент Ван Гог в конце XIX века, изображая, прежде всего, эфемерную природу цветов? Или когда мы мыслим подсолнухи?
Эстетическое, в широком смысле, отношение кажется более благоприятным для ненасильственного подхода к растениям, чем их практическая инструментализация или номиналистически-концептуалистская интеграция в системы мысли. На Западе номинализм был преобладающим методом мышления о растениях, задействованным в составлении всё более подробных классификационных схем. Согласно Карлу Линнею и его знаменитому таксономическому методу, я должен быть удовлетворен своим знанием подсолнуха, если выясню, что он принадлежит к царству Plantae, отряду Asterales, семейству Asteracaeae, подсемейству Helianthoideae, трибе Heliantheae и роду Helianthus. Эти названия призваны передать сущность растения, назначив ему точное место в мертвой, хоть и высоко дифференцированной системе, поглощающей сингулярность, уникальность подсолнуха. Действительный подсолнух превращается в пример рода, трибы и других таксономических рангов, к которым принадлежит; сам по себе, вне охватывающей его сложной сети классификаций, он – ничто.
Концептуализм, особенно гегелевский, стремится, с другой стороны, оживить мертвые системы мысли, привести их в диалектическое движение. Но и он теряет релевантность, рассматривая живой цветок в качестве всего лишь исчезающего посредника, преходящего момента в воспроизводстве рода и в переходе от неорганического мира к органической жизни, не говоря уже о точке перехода к плоду в великой телеологии, оправдывающей полную инструментализацию растений в целях животных и человека. Номиналистские классификации и понятийные опосредования объединяют свои силы, совершая насилие над цветком, которое равносильно его когнитивному срыванию, отделению от основы его существования. Однако растение, которое они в итоге получают, уже мертвое и сухое (как будто оно изначально проросло на странице гербария), лишенное индивидуальности и превращенное в музейный артефакт в лабиринтах мысли.
Нет нужды говорить, что возможности осмысления подсолнуха не исчерпываются крайностями номинализма и концептуализма. К эстетическому подходу, на который возложена задача воспроизведения или воссоздания растения в воображении (и тем самым приобщения к репродуктивному потенциалу самой растительности), ближе ресурсы философии ХХ и ХХI веков, способные многое предложить растительному мышлению, которое возникает из вегетативного сущего и постоянно к нему возвращается. Вместо того чтобы вводить дополнительные понятийные опосредования или более подробные и полные классификации, это мышление стремится уменьшить, минимизировать, стереть, заключить в скобки реальные и идеальные барьеры, которые люди воздвигли между собой и растениями. Ресурсы, о которых я говорю, можно почерпнуть из герменевтической феноменологии, деконструкции и слабой мысли – все они, несмотря на свои различия, согласны в том, чтобы позволить сущему быть, высвободить сингулярности из тисков обобщающей абстракции и, возможно, поставить мысль на службу конечной жизни.
Прежде чем приступить к разработке этих – перспективных для методологии «растительного мышления» – ресурсов современной философии, стоит отметить, что уважительному отношению к растительности можно поучиться и на других примерах. В незападной и феминистской философиях содержится множество почтенных традиций, куда более чутких к растительному миру, чем любой автор или мейнстримное течение в истории западной мысли. Исключительное теоретическое внимание Плотина к растениям и их жизни (о чем будет сказано ниже), вероятно, объяснимо его глубокими познаниями в индийской философии и, в особенности, в упанишадах и адвайта-веданте. В Индии джайнская философия приписывала растениям огромное значение, настолько большое, что считала их пятым элементом, наряду с другими классическими элементами – землей, водой, огнем и воздухом – составляющим вселенную[12]. И, совсем в другом контексте, одна из ведущих феминистских философов современной Европы Люс Иригарей в полупоэтическом ключе описывает тесную связь между определенной версией восприимчивой субъективности, мышлением и растением: «Растение насыщает разум, созерцающий распускание его цветка»[13].
Хотя в этих разнородных источниках есть немало того, что представляет несомненную ценность для когерентной философии растительности, в данном проекте я ограничиваюсь историей и «постисторией» западной метафизики. Я делаю это не только потому, что идеологические корни как углубляющегося экологического кризиса, так и эксплуатации растений кроются в трактатах некоторых наиболее ярких представителей этой традиции, но и потому, что на периферии западной философии (и в том, что, отталкиваясь от нее, приходит ей на смену) зародились удивительно гетеродоксальные подходы к вегетативному миру. Важность внешней критики метафизики неоспорима. Но если надежда на отказ от философского пренебрежения к растениям на Западе и на преодоление экологического кризиса, частью которого является это пренебрежение, не угаснет, то имманентная (внутренняя) критика метафизической традиции должна стать sine qua non любой рефлексии по поводу вегетативной жизни. Вот почему, помимо симптоматических мест в истории самой метафизики, три наиболее известных направления постметафизической мысли задают, посредством своих часто непреднамеренных последствий, теоретическую рамку для переосмысления бытия растений.
Итак, вот они: герменевтическая феноменология выступает за такое описание, которое, возвращаясь к самим вещам, интерпретирует их с нуля и рассматривает каждый опыт с присущей ему точки зрения, при этом остерегаясь любых необоснованных допущений относительно своего предмета. Деконструкция разоблачает метафизическое насилие над материальным, сингулярным, конечным; она стремится восстановить справедливость по отношению к тому, что метафизика подавляла, признавая при этом, что абсолютная справедливость – как предельное внимание к сингулярности – невозможна; наконец, она позволяет нам сосредоточиться на том, что обычно было маргинализировано, не превращая при этом край в новый центр. Слабая мысль сопротивляется тирании «объективной» фактичности и приветствует множественность интерпретаций, в то же время принимая сторону жертв исторической и метафизической жестокости.
Другими словами, эти три традиции предлагают этический способ мышления, который позволяет «осмысляемой» сущности расцветать (1) в том, как она проявляется и как относится к миру (герменевтическая феноменология), (2) в своем собственном саморазрушении и сингулярности (деконструкция) и (3) в своем сущностно неполном схватывании существования (слабая мысль). Благодаря своей квазиэстетической восприимчивости они оставляют подсолнуху достаточно места для роста, не урезая его до объекта, предоставленного для производимых субъектом манипуляций; не приписывая ему внешних целей и не делая излишнего акцента на знании его генетического состава или эволюционно-адаптационного характера. Столкнувшись с подсолнухом, они будут сопротивляться напрашивающейся процедуре генерализации – то есть представлению растения в качестве единого организма; вместо этого они с радостью подчинят само мышление амбивалентности цветка, который сразу и единое, и многое, поскольку состоит из мириад маленьких соцветий, собранных вместе, но относительно независимых друг от друга и от сообщества сущих, которое мы знаем как некий подсолнух. Короче говоря, эти традиции создают философскую инфраструктуру для нашей встречи с растениями.
В духе трех традиций, кратко описанных выше, «Растительное мышление» намечает контуры метода, взятого у самих растений, и дискурса, укорененного, по словам Аделарда Батского, в этих вегетативных сущих. Кроме того, оно определяет нетрансцендентальные условия возможности встречи с растениями, вместо того чтобы сталкиваться с ними как со всё еще не ясными (still-murky) объектами познания. Участники любой встречи вступают в интерактивные, если не всегда симметричные, отношения; и, наоборот, отрицание интерактивности означает подрыв самой перспективы встречи. Однополярность разума, объективирующего всё на своем пути, и самопровозглашенная исключительность человеческого экзистенциального отношения, которое, по Мартину Хайдеггеру, отделяет нас от других живых существ «пропастью», – вот два серьезных препятствия на пути к онтологически и этически чувствительному отношению к растениям.
Из этого следует, что насыщенная встреча с растениями – когда мы оказываемся в наибольшей близости к ним, не отрицая их инаковости, – не может состояться, если мы не примем гипотезу о том, что вегетативная жизнь коэкстенсивна отдельной субъективности, с которой мы можем взаимодействовать и которая взаимодействует с нами чаще, чем мы себе представляем. Это не означает, что люди и растения являются лишь примерами глубинной универсальной агентности самой Жизни; это также не означает, что мы будем выступать за чрезмерный антропоморфизм, моделируя субъективность вегетативного бытия по образцу нашей личности. Скорее, речь идет о том, что растения способны по-своему получать доступ к миру, влиять на него и испытывать его влияние, причем мир этот не совпадает с человеческим Lebenswelt, но соответствует растительным модусам обитания на земле и в земле. В противовес как классическому, так и экзистенциальному идеализму, растительное мышление помещает растение в центр его собственного мира, в стихию, где оно обитает, не претендуя на нее и ее не присваивая. Строго говоря, Хайдеггер прав, утверждая, что растения, наряду с другими нечеловеческими существами, не имеют мира, но это не-имение или не-обладание вовсе не означает полного отсутствия того, что мы могли бы назвать «растительным миром», это всего лишь другое отношение вегетативных сущих к их среде. Всякий раз, когда люди встречаются с растениями, два или более мира (и темпоральности) пересекаются: принять эту аксиому – значит уже позволить растениям сохранить свою инаковость, с уважением относясь к уникальности их существования.
Опять же, онтологическая и этическая грани исследования сошлись на пороге, где вегетативный мир обретает очертания благодаря нашему нежеланию смешивать растения с самодовольными вещами, погруженными в человеческую среду и растворенными в ней. В то же время задача стала сложнее, чем когда-либо прежде: мы должны уделить особое внимание растениям, стараясь избегать их объективного описания и тем самым сохранить их инаковость. В отличие от Якоба фон Икскюля, который в весьма влиятельной книге «Прогулка по мирам животных и людей» пригласил читателя «войти в неведомые миры»[14], мы не будем утверждать безусловное право на вход в вегетативный мир, который является миром растений, миром для растений, доступным для них. Задача в том, чтобы позволить растениям являться и быть в том «регионе», что сопряжен – с нашей позиции – с глубокой неясностью, которая на протяжении всей истории западной философии была признаком их жизни. Другими словами, идея состоит в том, чтобы позволить растениям расцветать на краю или на пределе феноменальности, видимости и, в некотором смысле, «мира».
Из трех теоретических течений, на сочетании которых основывается эта книга, феноменология, с присущей ей настойчивостью на процедурах выведения-к-свету и выявления сущего под тематизирующим взглядом трансцендентального Эго, может показаться особенно подозрительной, когда речь заходит об уважении к не-ясности растительного существования. Тем не менее феноменология окажется полезной, если примет во внимание конститутивную субъективность растений, кардинально отличающуюся от человеческой, и опишет их мир в герменевтической перспективе вегетативной онтологии (т. е. с точки зрения самого растения). Каким является (или не является) мир для растения? Каково его отношение к миру? К чему оно стремится, на что направлено или каковы его намерения?