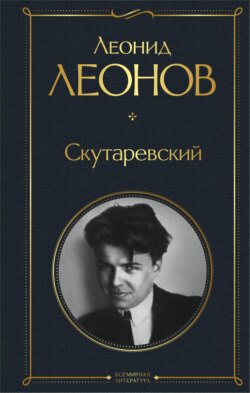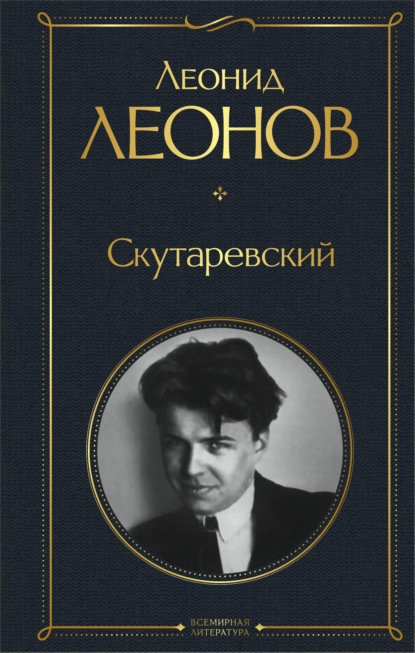Глава 1
Воспоминание начиналось так: – тусклый фаянс тарелки и горка обсосанных костей на ее щербатом борту. Минутой позже он различал вкруг стола своих покойных братьев и сестер. Дети пристально глядели на ржавую селедочную голову – лакомство и остаток еды. Потом издалека возникала длинная, вся в кислотных пятнах рука отца, вооруженная почти трезубцем. Орудие лениво вонзалось в рыбий позвонок и уносило его с собою, в гулкую дыру отцовского рта. Здесь и начиналось сознательное детство Скутаревского.
Всякий раз, вступая в эти нежилые сумерки, он волновался и робел. Затхлость ударяла в лицо, и оно становилось суровым; пугая и грохоча, продолжал действовать проржавевший механизм воспоминанья… Веснушчатый мальчик целует на ночь портрет Эдисона и прячет под подушку, которая пахнет мездрой и необъяснимо поскрипывает; юноша, феноменально рыжий, ночует в товарном вагоне, идущем в столицу; студент бьет по щеке реакционного профессора, и сухой звук пощечины свирепо раздирает тишину; молодой адъюнкт, краснея за люстриновый пиджак, который сидит на нем как на усопшем, везет дорогого учителя в Италию, где тот умрет; знаменитый профессор делает шестичасовой доклад на международном энергетическом конгрессе… Так, с усмешкой разглядывая себя, все искал он чего-то главного, за что стоило бы и погибнуть, но главного не было. Все тревожней звенели в памяти благоговейные клятвы юности о свободе, человечности и культуре… И теперь, виновато вспоминая их, он испытывал тягучее старческое недоумение, какое бывает, наверное, при умирании.
Ему казалось тогда: вот, электрохимический процесс замедляется в этой прославленной человеческой реторте. Из тела пропадала та злая моторная неукротимость, за которую в самом начале карьеры приятели прозвали его кометой. То была старость ее, отускнение, коррозия ее плывучего и непрочного металла. Свершив параболу, комета возвращалась к двери, через которую однажды ворвалась в мир. Эта воображаемая дверь в небытие представлялась близкой, круглой и темной, как рот отца. И вот уже его самого, несомого на трезубце, провожали неживые глаза покойных братьев… – Кстати, их всех было шестеро вначале, оборванных и одичалых от нужды. Четверо, вырастая на улице и без призора, погибли разно, а шестой, уцелевший от колес, прорубей и детских эпидемий, отражался теперь в мутном зеркале провинциальной гостиницы.
Зеркало висело под большим наклоном к полу, и оттого человек в нем сидел как бы без головы, в полутьме, свесив с кровати жилистые ноги. Может быть, он созерцал тоненький пыльный лучик из-за оконной занавески, неторопливо переползавший комнату, пробуждая вещи. И вот, едва пятнышко света коснулось пальца на ноге, пришел в движение. Кровать скрипнула и подалась назад. Он вскочил, он метнулся, он почти разодрал надвое оконную шторку и зажмурился от солнечной щекотки. Желтенький, проникнутый осенним тленьем, лежал сентябрь по ту сторону окна. В ржавой пустоте огромного пустыря, корявое, все в пламенах облетающих листьев, стояло дерево. На его простертом пальце покачивалась ворона, взъерошенная, как дворняга.
…его ноздри вздулись; ярила их нечистая влажность гостиницы. Он двигался, переходя в наступление, и вещи вокруг него шумно летели на пол, точно срываясь с центрифуги; кажется, это называлось гимнастикой. В передышках он внезапно оборачивался к зеркалу, чтобы застать себя взглядом врасплох. Тогда он топорщил линялый хохолок бородки, щупал лиловатый, еще твердый бицепс, раскачивался, смеялся и пел. Он пел про могущество осеннего, неопровергнутого утра; он пел про смешную поспешность, с которой отступила ночь и ее призраки; пел он, разумеется, беззвучно, – с его голосом разумнее было посвятить себя научной работе целиком.
Его ладонь уперлась во все четыре звонковых кнопки, и тотчас же гостиницу наполнил глухой электрический звон. Так длилось, пока в дверную щель не просунулась лысая голова; на ней подозрительно ерзали рачьи глаза.
– Входи полностью! – с разбегу и ликуя, крикнул. – Кто?… Фамилия?
– Подушкин, коридорный.
– Член профсоюза?
– Ноне все мы члены, – пятился тот.
Он робел говорить с голыми, не ведая чина их, власти или состояния.
– Активист, поди?
– Да нет…
– Что ж так? – пело вздыбленное скутаревское вещество. – В такие дни… нехорошо, Подушкин!
– Да все некогда. – Он подмигнул. – Да и не по пище-с!
Вся его плотная фигура, однако, вызывала какое-то раздражающее воспоминание; туловище его, как у большинства бывших городовых, начиналось где-то возле колен; щеки в богатейших подусниках – и никаким профсоюзным билетом не прикрыть было этой полицейской приметы.
– Так вот… снегу сюда… Целый сугроб снега. Пошел! – и брезгливо махнул рукой.
Для наступления, которое он задумал, требовалось втереть в себя снежную колкую бодрость, но снегу не было: плод приходился не по сезону… Плечом и ладонью снова и снова вдавливал он звонковые пуговки, посылая по проводам оглушительные прерывистые сигналы. Снегу не было. Весь постоялый дом гудел, как раковина, и вся живая слизь из его многочисленных витков сползалась за дверью Скутаревского. Это становилось происшествием, так возникают катастрофы! Снегу не требовали даже капризные иностранцы, которых время от времени доставляли на постройку соседней электростанции. И хотя постоялец занимал самый роскошный номер – с исправной форточкой, со стеганым атласным одеялом, с летающими Озирисами на потолке – венцом творения местного живописца, – гостиница противилась, пока постоялец сам и в голом виде не высунулся в коридор.
Снег принесли в деревянной плошке и через полчаса; то ли он задохся в подвале, то ли умер в невоздержных руках Подушкина, но, сизый и мятый, он уже припахивал навозцем. Тогда открыл форточку и стоял так, в потоке ледяного осеннего пара; но в десять его ждали на экспертизу новой электростанции. Старик одевался неторопливо и тщательно в это утро, как на торжество. Выходя на улицу, он был строг и сосредоточен, и проводить его в этот очень далекий путь вышел на подъезд один только Подушкин.
– Усы сбрей, сбрей усы… – покосился на него, проходя мимо. – Заметно очень!
– Не цапайтесь, гражданин, – угрожающе откликнулся тот, расковыривая булку и по частям отправляя ее в рот. – Эвон, в хлебе-то опять окурочки попадаться стали…
…Он вышел из дому во вторник утром, а вернулся в среду к ночи – неузнаваемый, в черном воротничке, взволнованный и больше чем усталый. С полдороги вдобавок, по необъяснимой прихоти, он отпустил машину и последние километры до городка вышагивал пешком по разъезженной пустынной дороге; крутой, как из бадьи, сибирский ливень всю ночь хлестал эту безответную тишину. И как будто не профессор шел, а бродяга торопился на ночлег, – старик шел и молча пел, выделывая свои обычные злые штучки над самим собою; влажный встречный ветерок лизал ему лицо и руки. Он шел привычной своей, не по годам стремительной походкой и все присматривался: вдруг захотелось остаться наедине и залпом продумать накопленное за десятилетья. Но и думанье не удавалось, и взгляд его бездельно тащился по полям, зализанным до прелой рыжей щетинки. Скоро парному от ходьбы веществу его стало жарко и тесно в узком английском пальто. Остановясь на бугре, он стоял так, посреди безмерного вечереющего пространства, лицом к городку, без шляпы и в распахнутом пальто.
Это был крохотный, с изобилием церквей, северный городок. Новый подымался рядом, весь в проводах и молниях электросварки, и старый томился, как нищий в рваном сером балахоне. Понуро сутулились когда-то знаменитые купеческие хоромы, а ранняя зима рвала и трепала на уже безглавом, отовсюду видном соборе голые кустики какой-то поросли. Угольная копоть и слепящая цементная пыль неслись на эти деревянные отрепья; самый ветер над головой напоен был металлическим скрежетом: казалось, в буре и грохоте новое племя шло заселять наново перепаханную землю… Чумазые облака над этим печальным виденьем поминутно менялись, по-разному отражаясь в памяти; увидел рыбу на взметенной облачной волне, потом какое-то взрывающееся облачко хлопчатника, а третьим… Третьим плыло нечто пухлое, до холодка в спине напоминавшее ненавистный профиль Петра Евграфовича.
Всю дорогу сопровождало его то приподнятое настроение, когда и самое незначительное явленье становится знаменьем. И оттого, едва вспомнил о Петрыгине, разом померкло удовольствие прогулки и воротилась ночь. Он почувствовал, что промок и переутомился; он испугался возможности опоздать на поезд, хотя вовсе не торопился домой; он отчетливо и с завистью представил себе, как Черимов, ученик его и заместитель по институту, давно сидит в буфете и с остервенением молодости пожирает жесткие станционные шницеля. Чихнул, поскользнулся и с чертыханьем нырнул с бугра своего в низинку, где, тощий и далекий, дразнился огонек из просвирника, наверно, оконца.
Ветер усилился, ночная бесотня завыла в телеграфных проводах, и какой-то, прилипчивый, над самым ухом называл как будто по имени… То урчали и захлебывались скутаревские башмаки, одолевая осеннюю дорогу.
Глава 2
Пока не остыл от ходьбы, не чувствовал и озноба. И вдруг, едва ввалился в купе, разом закрутило, путаные обрывки мыслей потекли в голову, а по телу проступила знойная сухая ломота: начиналось. Уже в полубреду он расслышал черимовское: «Эх, обожаемый, на четвереньках, что ли, добирались?» Но даже и поморщиться дружеской фамильярности не хватало сил. Он свалился на койку, и на долю Черимова выпало счастье раздевать обожаемого учителя, который ребячливо сопротивлялся; он же добывал чай у проводника, брезгливо пил теплое безвкусное пойло и закусывал консервами из какой-то пресной розовой водоросли.
– Спать, спать… – отечески говорил Черимов и стоя доедал морскую траву, которая, к удивлению его, оказалась с костями. Видевший смерть у самых своих ресниц, он не особенно верил во всякие простуды. – Пока – спать, а приедем – и в баньку. Дядька пропарит… Черт, никак не удается заставить его профессию переменить. Банщик – эко поганое ремесло! – Он вынул часы. – А ну, проверим расписание!
Он удовлетворенно кивнул своему отраженью в ночном оконном стекле. Едва стрелки совпали на одиннадцати, вагон качнуло, потом луч с платформы прочертил полосатый плед, под которым ежился, и тогда лишь накатило вязкое дорожное оцепенение. То был сибирский экспресс, он бежал почти без остановок, и все веселее становился дробный речитатив колес. Временами он переходил в пляс, в вихревое неистовство, и тогда усерднее прижимал колени к подбородку, точно прячась от ветра. А ветер был длинный и красный. Он оставлял позади себя длительную рябь, и в ней мучительно колыхались пучеглазые, недодуманные идеи, обноски мечтаний, звуки, вещи, люди и, наконец, то, самое сокровенное, что люди прячут и шифруют от самих себя. Потом все расплывалось, точно недостаточно было молекулярное сцепление между образами, а ветер с маху налетал на гремучее жестяное дерево.
До боли знакомыми голосами звенели эти жестяные листья. «Умирать – это правильно…», «бессмертье – бунт индивида!», «…ерунда, образуем новые вихри», «сквозь наши груди пробиваются сочные дерзкие ростки будущего…», «слышишь, шумит листва?», «чепуха, истлеем, гнусно пропадем: мы умираем прочно!», «они впервые имеют за что умирать!», «храните жизнь!..». Этот последний дребезг принадлежал ему; он вскочил и красными глазами уставился в мир. Там спокойно и ровно горела лампочка под латунным абажуром. С откидного столика свешивался ворох бумаг; Черимов листал их и делал на полях отметки. Он казался лохматее обычного и озабоченнее, но в расплеснутом сознании Скутаревского отразился только острый блик чайной ложки в недопитом стакане.
Подвижное лицо Скутаревского выражало теперь полное расслабление. Температура поднималась, и знойным бредом пенилось расплавляемое вещество. Учитель и ученик вглядывались друг в друга с противоположных берегов рассудка, дивились и не узнавали. Тогда Черимов привставал ему навстречу и почему-то косился на свой чемодан, где перед отъездом обнаружил пузырек с йодом. В этом случае йод означал лишь крайнее его бессилие помочь учителю, и опять они расставались на долгие бесплодные часы.
Снова наклоняясь над чертежами, отпивая глотками остылый черный чай, Черимов боролся с дремотой и перебирал в памяти подробности последних суток. Усталость давила ему на плечи: две ночи он провел в каком-то диком, бумазейном кресле, спиной к турбогенератору, слабо гудевшему под нагрузкой в сорок тысяч киловатт. И оттого, что впечатленья последней недели спутались в нем в неразборчивый клубок, перед ним также проходили вереницы людей, и почему-то выпуклей, честнее, заметнее других был облик Фомы Кунаева. Они познакомились давно, в научно-техническом секторе ВСНХ, куда Фома заезжал по вопросу об изысканиях фрезерной разработки торфа. В те сроки звезда Фомы лишь всходила над советским горизонтом, никто не предугадывал, что через два года этот молчаливый турбинный мастер станет начальником большого строительства. Но причудлива судьба советского человека, и вот Черимов повез к нему, на крупнейшую районную станцию, самого Скутаревского ревизовать кунаевские дела и достиженья.
Все обошлось гладко; играла военная музыка, и маком цвел могучий Фома; застенчиво толпились у агрегатов бородатые ударники и герои строительства; нагловато, с видом арбитра, улыбался приезжий американец, жуя свою резинку и в упор разглядывая степенную, немногословную породу тамошних людей. Была выставлена на осмотр длинная цепь чудес; в ее первом звене тугая, в двадцать четыре атмосферы, водяная струя разбивала слежавшиеся слои торфа, а в ее конце таинственно и трепетно помигивала контрольная лампочка на удивленье окрестных мужиков. Их понабилось много и везде – у пирамидальных бункеров, взнесенных над печами, у аккумуляторных ям – везде напряженно блестели голубоватые глаза, точно напуганные приходящей новизной. И в самом деле, было достойно удивления, что то самое торфяное болото, где от века бесполезно цвел гравилат да топла тощая мужицкая скотинка, теперь движется, шумит и светит… светит, черт возьми, на потребу социалистического человека! В станции – ни в размерах ее, ни в общей схеме – не было ничего чрезвычайного, достаточного для потрясения иностранца, но революция строила их десятки одновременно, и в этом штурмовом напоре заключалось их высокое поэматическое значение.
Торжество грозило затянуться. Экспертиза разбилась на группы, и американец, с пристрастием облазив все, бродил теперь по цехам вместе со Скутаревским, который, один из всех, мог изъясняться на его языке; беседа велась по-английски, так что шедшие рядом Кунаев с Черимовым могли следить за разговором лишь по выражениям их лиц. Сперва гость все пошучивал, преимущественно на алкогольные темы, и, кажется, из желания польстить Скутаревскому, показал ему в темном переходе – они направлялись в турбинный зал – плоскую фляжку с советским коньяком, которую по привычке таскал в заднем кармане.
Он дал понять, что не слишком осведомлен в этой области, и тогда тот не очень логично перескочил на проблемы мирового кризиса, уже потрясавшего заокеанскую республику.
– Простите, – недобро покосился Скутаревский, – видимо, у меня не хватает чувства юмора на вашу остроту. Не улавливаю, в какую именно связь вы ставите вашу очередную экономическую катастрофу и винную торговлю вообще?
– О, русские всегда плохо понимают шутку, – комически взмолился тот. – Вино доставляет забвение несчастий, а небогатому человеку в Америке сейчас недоступно это лекарство. Я хотел сказать, что сухой закон доведет нас до революции.
Скутаревский жестко посмеялся, не разжимая губ.
– Ну, для этого, в свое время, у вас найдутся более существенные основания, – едко прибавил он, и, хотя слова эти не были выношены где-то в сердце, его радовала честь произнести эту заслуженную колкость.
Злость делала совсем раскосыми и без того нерусские глаза Скутаревского. Гость был журналистом, объезжавшим очаги молодой советской индустрии «для пополнения капиталистического образования» – как иронически объявил он сам с доверительной улыбкой. По слухам, до того как сделаться корреспондентом промышленной американской печати, гость был крупным инженером, хотя и не оставившим следа ни в технике, ни в науке. Скутаревского раздражало, что этот сведущий специалист, на лице которого не отпечатлелось особого пристрастия к алкоголю, избегает говорить с ним на тему, ради которой, в сущности, оба они пришли сюда. Не нравились ему, равным образом, ни снисходительная ирония, ни самоуверенная скромность этого заокеанского соглядатая, и даже возмущала потертая фуфаечная жилетка под поношенным пиджаком, рядом с которым костюм Скутаревского выглядел почти щегольским. Но он примечал и сам уйму всевозможных упущений и промахов как в проектировке, так, одинаково, и в оформлении станции; и то последнее, решающее обстоятельство, что работу эту проектировал его сын, Арсений Сергеевич, заставляло его в этом разговоре конфузиться, раздваиваться и молчать.
Не мудрено, что американец стал догадываться об истинных чувствах провожатого своего.
– …не удивляйтесь, что я не критикую качеств этой станции, – вкрадчиво сказал он, касаясь руки Скутаревского. – Я только гость, которого терпят; я ем то, что мне дают. Кроме того, я достаточно уважаю вас, мистер. Я знаю ваши книги. Мне приходилось освещать ваши работы в нашей печати. Я имел удовольствие – правда, случайное – присутствовать… – Они поднимались в котельную. – Позвольте, я отдышусь, – сказал гость, останавливаясь на минуту, – …присутствовать на вашей лекции в Вудстонском университете. Вы не помните меня, я сидел в левом ближнем углу. Это было в двадцать третьем году, но с тех пор…
– Это было в двадцать четвертом, – резко поправил, прочеркивая воздух рукой. – Но, если можно, давайте ближе к делу. Я не люблю воспоминаний.
– Хорошо, – сказал тот и ногтем поцарапал новехонькие поручни винтовой лестницы, где они стояли. – Плохая краска – это непрочная краска, мистер. У вас плохо понимают экономию. Я не смею говорить о мелочах, которые вы видите и сами и которые вряд ли существенны для молодого общества, каким является ваше. Оно еще не успело выработать американского, делового отношения к миру. Оно еще склонно обожествлять энергию и машины, ее производящие. Ему хочется строить дворцы над каждым агрегатом… Я имею в виду габариты здания. Оно не задумывается даже над разумным использованием поверхностей нагрева… даже!
– Прощу прощенья… – прервал Скутаревский. – Эту станцию строили молодые наши инженеры по указаниям приезжих американских звезд, получавших за это хорошие, честные советские деньги… мои деньги в том числе! Хотите вы сказать, что звезды светили вполнакала и указания их были не вполне добросовестны?
Американец помолчал, губы его стали жестки.
– Словом, я не советую брать эту нарядную ошибку за стандарт. Конечно, это ошибка юности, за нее все мы дорого платим. Мне пятьдесят, пылкая юность моя, пожалуй, кончилась, а я только теперь начинаю умнеть. Юность всегда расточительна, но и при этом условии вы идете гигантскими шагами. Пока у вас только Кентукки, но лет через пятьдесят у вас будет уже свой Бостон… Что вы хотели сказать?
– Да, – в бешенстве откликнулся Скутаревский; в конце концов речь шла о его цеховом инженерском достоинстве. – Насколько я понял, вы были инженером?
– О, и я любил это дело… но, под давлением некоторых обстоятельств, был вынужден изменить свою профессию.
– Можно уточнить, за что вас удалили из любимого дела? Вы были плохим инженером… или… что-нибудь посложнее?
– Это безработица, мистер.
– Это и вынудило вас заняться журналистикой?
Тот сделал вид, что не расслышал вопроса.
– И все-таки Россия сейчас самая любопытная часть вселенной. – Он вежливо протянул своему спутнику мятую пачку сигарет: – Курите!.. Кстати, почему у вас так много говорят по любому поводу?
Скутаревский дрожащими пальцами перематывал рулоны самопишущих приборов, которые подоспевший техник сунул ему в руки. Они волочились по полу, ленты ябедной, разграфленной бумаги, а он не видел ничего, кроме нечеткой, волнистой линии, фосфоресцирующей на темноте. Гость выдул часы и вдруг заторопился; он снисходительно объяснил, что имеет только полгода на беглый осмотр всех чудес этой неслыханной страны. Черимов вовремя отошел в сторону. Кунаев сказал гуд-бай – все, что он знал по-английски, неуклюже, зато от души, молча поклонился гостю и повернулся спиной. Вещество его чадило и клокотало; ему было стыдно за сына, и сжимались кулаки на Петрыгина, через которого проходил проект и которого уже давно он разглядывал с враждебным вниманьем. Он испытывал жажду, зуд в руках, потребность в ругани и стал спускаться вниз.
– Ну, что он сказал? – догнал его Кунаев.
– Он не сказал ничего. Он из тех, которые терпят нас, пока мы самые западные из азиатов, и возмущаются, когда мы заявляем себя самыми восточными из европейцев… – ответил Скутаревский, не понимая, ради чего он лгал сейчас этому горячему, непоседливому человеку.
В суматохе Кунаев так и не уразумел ничего. Да тут еще в окно со двора, заваленного щебнем, стружкой и разбитой цементной тарой, ворвалось медное, воинственное воркотанье оркестра. Торжество еще продолжалось, когда распространился слух, что суждения экспертизы крайне благоприятны. Тем более угрюмое молчание Скутаревского и поспешный отъезд американца селили смущенье в неискушенных участниках торжества. Им хотелось, чтобы вместе с ними радовались все – и этот любознательный гость, если только доступно ему при его европейски здравом смысле бескорыстное ликование молодости, и этот генштабист индустриализации, как обозвал Скутаревского впопыхах энтузиастический председатель исполкома; вечером к тому же замышлялась дружеская вечеринка с пельменями и приезжими знаменитостями. И вот тут-то, при осмотре котлов, шести Стирлингов по семьсот двадцать метров нагрева, и спросил у Кунаева во утоление какой-то непостижимой потребности: «…вы радуетесь обилию воды или количеству котлов, товарищ?» И сразу это мимолетное словесное облачко раздулось в целую тучу курчавой черимовской головой. Просматривая графики котлов, шурша синеватой калькой чертежей, которые захватил в дорогу, все доискивался он правды, о которой не смел догадываться, и, кажется, впервые клял свою дерзкую, безопытную молодость; пожалуй, стоило бросить академическую работу, чтоб только разгадать этот чертов ребус. Графики отличались отменным благополучием, и даже содержание CO2 было точно такое, какое предписывалось в учебниках. В чертежах также все обстояло исправно, каждой гайке, каждому метру провода имелось свое точное занумерованное место; притом тщательность исполнения была такова, что, в глазах Черимова, никакой картине не сравняться было с ними по красоте. Минутами, теряя надежду на собственную прозорливость, он уже протягивал руку разбудить учителя и, жертвуя всем, спросить в упор о значении обмолвки, и всякий раз не решался.
Тот спал на той сокровенной глубине, куда лишь длинными, кружными путями просачивается биенье действительности. Все теперь стало ему ненужным – ни мир, ни плоско нарисованные на нем понятия, ни мнение людское, ни честь его инженерской корпорации.
Мысль, которая за последние месяцы туго и неуверенно вызревала в нем, теперь воплощалась в окончательные почти фантастические виденья. – Туманная, голубоватая долина представала ему среди хребтов недвижимых и снежных. Она была обширна и пуста, ее реки текли напрасно, ее богатств не раскопал никто, – ей не хватало лишь людского творчества.
Он видел ее как бы с высокой горы, откуда проще и понятней путаная география мира. Лавины людей приходили сюда из дымных и мрачных предгорий; они пугливо жались у скалистого прохода, ослепляемые едким, как бы ртутным светом долины. Старые дома их развалились, а новые еще не построены; ночи их были темней, а одиночества страшнее, чем в те первобытные дни, когда еще не писались, а только пелись первые земные книги. Они и тут пытались петь, – неуклюжие их голоса повторяли сиплый лай ветров, под которыми были зачаты. Не сразу, не дружно они уходили в свою голубую неизвестность, а он оставался один на своей горькой высоте…
На протяжении двух суток, пока длил ось возвращенье, образ этот повторялся многократно, все острее и могущественней, убедительнее смерти и все менее уловимый в непрочные, неемкие слова. Периоды такого изнуряющего ясновидения чередовались с кратковременными вспышками полной ясности, но до последней облегчающей испарины было еще далеко. В перерывах открывал глаза и лишь по освещенности окна угадывал – утро, сумерки или вечер застает его, больного, в дороге. Гора его шла за ним неотступно, как судьба, возвращение в семью пугало, о сыне он старался пока не думать, друзья… их он заводил ровно столько, чтобы не совсем разочароваться в людях. Оставалась работа да еще вот Черимов, который, присев рядом, с неумелой нежностью держит его влажную, обессилевшую руку. Учитель сидит молча, с голыми волосатыми ногами, и опять в зеркале против себя видит свое отражение – бескрасочное, точно в болотной воде. Волосы смокли на нем и слиплись, как на гончей. Ему кажется, что его преследуют зеркала: не зеркало – так осколок стекла, лужа на дороге, всякий другой глянец, мимо которого проходит. Мир полон его отражений, и каждое твердит, что комета идет на убыль…
Он внимательно рассматривает побелевшие свои ногти.
– Да, это сотерн. Вы пили сотерн, молодой человек? Должно быть, подшипники мои сносились. Да, поступь ума моего стала тяжка; он уже не парит, он ползает, его брюхо в пыли. Он уже боится той самой логики, которую раньше делал сам. Посадите на моей могилке желтые цветы. Яростно люблю кадмий.
Реплика означает выздоровление; Черимов терпеливо прислушивается к стариковской воркотне. Выздоравливающие болтливы, как дети.
– Вы еще порядком побузите на этом свете, Сергей Андреич. Я никогда не чувствую разницы наших возрастов. Что?… мне?… вчера стало тридцать. Мне и сейчас хочется похлопать вас по плечу…
– Похлопайте, ничего. Со временем вы напишйте хороший некролог обо мне. Отметьте, что вся разработка вопроса о направленных антеннах принадлежит мне. Не отрекайтесь, у вас есть литературные способности… Да, кстати, что вы думаете об Арсении?
Ему хочется говорить; его томит жгучая потребность объяснить, сколько ему еще нужно сделать и как это ему трагически не удается. Сумерки делаются гуще. Простоволосые призраки ночи вприпрыжку скачут за окном: пар. Он тает и внезапно рождается вновь. Гремят стрелки, проскакивают огни, паровозные искры чертят на мраке тысячи осциллограмм.
– Я не видал его десять лет, Сергей Андреич. Я не знаю. Он был славный парень, но всегда с какой-то поправкой на интеллигентский истеризм… – И вдруг: – Сергей Андреич, вы обмолвились третьего дня Кунаеву про котлы, помните? Что означал ваш намек?
Напрасно он расчленяет слова зевотой, чтоб обмануть бдительность учителя. Тот знает, о чем думает этот скромный и требовательный ученик. Он молчит, и каждая протекающая минута притупляет остроту вопроса, поставленного врасплох.
– Мне скучно стало от речей, молодой человек. Я и в прежние годы их не терпел… Я даже как-то плешивею от молебнов. Будьте добры теперь, задерите шторку. Мерси…
Ночь входит в купе. Ноги тяжелеют, тело теряет ориентацию на вещи и внезапно утрачивает вес. Снова у входа в утопическую долину теснится человечество. Но все окутывается дымкой и мельчает, точно смотрит в обратную сторону бинокля. Потом пространство между сознанием и явью единым махом заполняет сон, огромный и мохнатый, как гора.
- Морской Волк
- Вор
- Русский лес
- Затерянный мир
- Одиссея
- Соть
- Юмористические рассказы (сборник)
- Очерки по психологии сексуальности (сборник)
- Нортенгерское аббатство (сборник)
- Белый Клык (сборник)
- Давайте все убьем Констанцию
- Сказка моей жизни
- Приключения Шерлока Холмса
- Рубайат
- Манон, танцовщица
- Тьма в конце туннеля
- Так начиналась легенда. Лучшие киносценарии
- Терпение
- Над пропастью во лжи
- Пирамида
- Барсуки
- Скутаревский
- 1984. Скотный двор
- Ужас Данвича
- Маленький принц
- Утраченная музыка. Избранное
- Маленькие женщины
- Хорошие жены
- Золотой жук
- Отель с привидениями
- Эмма
- Над гнездом кукушки
- Кошки Ултара
- Дневники русской женщины
- Кармилла
- Василий Теркин. Стихотворения
- Беседы и изречения
- Я – нахал! Очерки, статьи, избранные стихотворения
- Сказки цыган
- Русские женщины
- Легенды Крыма
- Саломея. Стихотворения. Афоризмы
- Отговорила роща золотая… Новокрестьянская поэзия
- Стоик
- Готические истории
- Песня о Буревестнике. Стихотворения и воспоминания