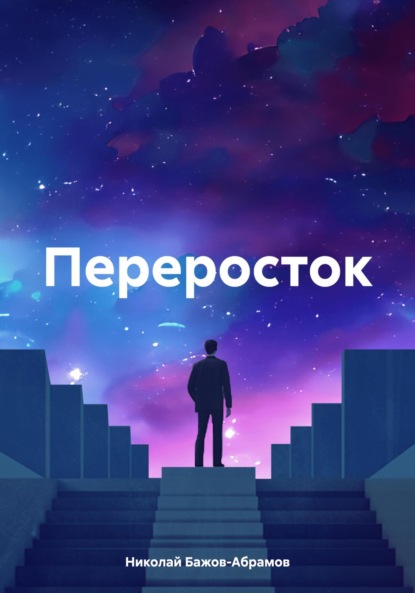В тот год, лето, и правда, в наших местах было дождливое. Почва, просто не успевала просыхать, от этих частых дождей. И вот, в такой день, мой отец, чтобы подбросить меня до районного центра, ранним еще утром, до еще петушиного крика, запряг колхозную (помните, тогда еще колхозы были у нас в стране) лошадку. Она была кобыла, в белых – черных крапинках, а голова ее, между глаз, была с полоской белой. И хвост у нее, помню до сих пор. Была полуседая, длинная. Старая была лошадка. И она, весь этот путь, до самой районной станции, хлестала меня своим сырым хвостом; наказывала она меня так, видимо, так как я с позволения своего отца, правил ею при помощи вожжи: требовал, чтобы она шла резво и строго по колее, проделанных до нас другими колесами телег. Мы, конечно, выезжая в это раннее утро в районный центр, ехали не порожняком. Нас было в телеге: я, почти тринадцатилетний мальчик (а точнее, двенадцать и три месяца мне было тогда), с новой обновкой; на мне было, черный костюм и ботинки, купленный с моей сестрою, которая в это время жила на Крайнем Севере, на Чукотке. Это она помогала нам, почти в каждый месяц с деньгами. То, вот, месяца два назад, неожиданно, без всякой телеграммы, нагрянула она к нам с мужем в отпуск, привезла мне этот костюм с обувью. Все же я был, в тот мне памятный год, выпускником восьмого класса. Видимо, хотела, чтобы в этот выпускной день, я был, как бы сносно одетым перед другими. В то время, недавно только, что уж стесняться, многие в деревне у нас, жили не очень хорошо. Но, не смотря на нехватку этих средства в доме, помню, первый класс, когда я пошел, меня еще шести не было, а у меня была школьная форма с фуражкой, на нем еще кокарда. Тогда сестре моей было, всего на всего … ну, в общем, она была на семнадцать лет меня старше, и она до этой еще тогда Чукотки, жила, работала в Барнауле на шахте. И фотография в тот ее период, у нас в семье сохранился. Стоит моя сестра Лиза, на фоне деревца, небольшая неуклюжего роста, в резиновых черных сапогах, а на ней, то ли брезентовая куртка со штанами, а на каске ее прикреплена, с помощью резиновой плоской ленты, шахтерский фонарик. Конечно, в моем возрасте юноши, сегодня, переходят только шестой, или седьмой класс, а тогда, меня после первого класса, перевели сразу в третий класс, а не на второй, как обычно происходило в то время, наверное, и сегодня. Конечно, читать и писать я научился еще до шести лет. За это, наверное, нужно было бы поблагодарить мою сестру, Зину, которая была старше меня на три года. Ее подруги, после уроков в школе, когда приходили к нам поиграть с моею сестрою, нашли во мне пугало, учились на мне целоваться. В начале, я плевался от их мокрых слюнявых губ, старался спрятаться от них, под пыльной кроватью, ревел там, а затем, мне надоело, знал, они все равно будут меня эксплуатировать, потому я им поставил условие. Сказал. Раз они нашли на мне пугало огородного, целованием, пусть тогда они учат меня читать и писать. Девчонки же. Со смехом согласились этим моим условием. Хотя и противно мне было, их со слюнями губы, но я знал и понимал, откажусь от этого условия, они бы все равно использовали меня в своих опытах. Так как они сильнее меня были. Интересное тогда для меня было время. Они на мне учились целоваться, а я, имел еще выгоду от этого. Временами перепадало от них мне конфеты (долго играющие во рту), приносимыми ими из дома, и даже иногда, они меня одаривали, выкраденными у своих мамок, куриным яйцом, которых я потом относил в наш деревенский магазин – сельпо, и я за них получал денежки – пять копеек. Теперь, имея в кармане, пять копеек, я уже больше не лазил со стороны голландки, который топился в зиму у нас в клубе дровами, а летом ее, конечно, не топили; из подпола мы с мальчиками, бесплатно проникали в клуб, чтобы посмотреть какое – нибудь кино. Что уж там говорить. Тогда в то время, и света электрического у нас в деревне, до одиннадцати вечера только подавался. И ведь, ничего не изменилось. И теперь, в некоторых полузаброшенных деревнях, нет до сих пор этого электричества. И это, правда. После, если кино еще не закончился до этого часа, включали электродвижок, который тарахтел у двери кинобудки. Помню, в основном, мы Чарли Чаплина ходили смотреть. Фильм был немой, но мы понимали, видимо, что делает этот Чарли на экране. Ржали, роняя слюнки и радовались. Но лафа, добыванием мною пять копеек, вскоре надоело девочкам. Или они все же на мне научились целоваться, и я уже им стал неинтересным. Отказались от моих услуг. Больше уже до меня не домогались, оставили меня в покое, и без дополнительных денег – пять копеек. Поэтому у меня, отказом от этих услуг девочками, наступили трудные времена. Копейки мне уже редко перепадали. А у отца просить, в то время, он только отмахивался от меня, как от ладана, отнекиваясь: «Нет, нет у меня денег. Откуда, сынок. В колхозе, сам знаешь, говорил тебе, денег за работу не дают. Только трудодни начисляют. Палочные». Я понимал. Он мне правду говорил. Откуда ему было брать этих денег? За работу, он в колхозе получал, как колхозный завхоз, одни только трудовые палочки. Специально для этой, особой в тетрадке, он их и отмечал. И потом, по этим палочкам можно было сосчитать, сколько он в месяц трудодней заработал. Хранил он этот свой учетный тетрадь, за обкаканными мухами зеркалом, который висел у нас в задней комнате, между занавесочной кухней и столом, в левом углу, где мы обычно кушали. Над столом еще, грозно на нас взирал, в раме, застекленной, иконка Николая Угодника. Вот и в серединке, между кухней и столом, между двух окон, глядевшие, как близнецы, на наш сарай, пристроена была зеркало наша, а за этим зеркалом, хранился и тетрадь моего отца, где он в каждый день для себя отмечал, свои трудодни за свою работу. Допустим, залатал он старый истертый хомут суровыми нитками, пропитанный сальной шкурой свиньи, вписывал он в этот тетрадь, палочку одну. В месяц набирался этих палочек целая страничка. В нашу большую семью, конечно, помогала материально и сестра, Лиза, из Чукотки, переехавшая из Барнаула туда, после замужества. Присылала почти в каждый месяц немного денег, чтобы мы, в какое – то время, имели в доме «живые» деньги, и не стеснялись перед соседями, что мы сидим без сахара. Тем же самым, мучился без карманных денег в доме своем, и брат отца, дядя Коля. Он у нас, вечерами охранял правление колхоза, от так называемых, ночных «не брошенных гостей». Тоже страдал от этого безденежья. А в то ранее утро, когда мы выехали на гужевом транспорте на станцию, у нас в телеге было: папа мой, папин брат, дядя Коля, а я сидел впереди, правил кобылой, и у нас в телеге был полный воз березовых веников, больше сотни штук. Это мой отец со своим братом, дядей Колей, загрузили в телегу этих березовых веников, чтобы на станции их сплавить знакомому отцу татарину, промышляющему штучными товарами: нитками, пуговицами, шарами, смолами сосновыми, которую мы, купив у него за куриные яйца, жевали. А веников, он березовых, отцу заказал перед своим последним заездом. Почему же моему отцу было не воспользоваться с его заказом? Лес рядом, да и доступ имел он, как завхоз, к колхозной делянке. Веники он березовые у отца брал оптом по сорок копеек, а тут он, в районе, он его уже сплавлял за шестьдесят копеек, банщику. Сорок копеек тогда, большая была сумма, по представлению для меня. Выгода была обоюдная. Если его «афера» получится, папа из этих денег купит для меня билет до Челябинска. А билет до Челябинска стоил семь рублей, от нашей железнодорожной станции.
Колея, по которой мы тряслись на этой телеге, была почти раздолбанная и залита дождевою водою. Колеса, подкованные обручью, глубоко вязли на этих колеях. Кобыла наша шла натужено, с пенами по бокам, где, чересседельник. Да еще эта сырость вязкая. Никак от нее согреться я не мог. Взрослые, как мне казалось, им нипочем. Подкашливают только, выцеживая свою цигарку. Скоро, конечно, выглянет солнышко, если, конечно, разгонит ветерок, который сейчас гонит над нашими головами, серые низкие облака со стороны, где должна была выплыть, это розовое, желтизной, большущее диск солнца. Но, когда это случится? Часов у нас, конечно, нет. А определить, который сейчас час? Кто его знает? Небо еще, серо – чернильное. Да и звезды отдельные, на небе, вспыхивают по ходу нашего продвижения. Так что еще не скоро утро настанет. Ждать и ждать ее еще целую вечность. Так мне думалось. Мыслей у меня никаких, кроме, как ложных тревог. В смысле, в котором, я и сам не очень понимал. Помню же, помню я и мамины наставление, перед тем как мы тронулись в путь. Она мне, как умела, успокаивала, говорила шёпотом, горячо, прижимая меня к своей теплой груди, что могла она и колхозной машиной отправить меня до станции. И председатель колхоза бы ей не отказал. Но загвоздка заключалась, как тогда вениками нам было управиться; как довести их до районного центра; да еще, пугало ее мое прошлогоднее приключение, где я тогда, зимою, отправленный в район, сопровождающим за жомом, застряли мы на полпути обратной дороги. Просто, у нас тогда, машина на ходу заглохла (или сам Захар – шофер, так подстроил). В кабине нас было трое. И мне всего одиннадцать и пять месяцев. Бригадир, крестник отца, дядя Женя, уломал меня: «Что ты? Тебе только в кабине сидеть придется… Каникулы же у тебя. Что боишься?» С тем самым, уговорил отца и мамку, чтобы я поехал сопровождающим за пять палочек трудодни. Была еще с нами, кроме шофера, дяди Захара… Ему тогда было за двадцать. Армию отслужил только. Ну, а тут он, даже рад был, что оказался в таком положении, что машина у него заглохла. Со мною рядом в кабине сидела Вера Матюхина, пышная разведенка. Мы её подобрали в районном центре. Мужа я ее знал. Недалеко он от нашего дома жил с этой Верой. Он вроде был даже пришлым, из Куйбышевской области, из совхоза Пестравки. Наши мужики, после уборки хлеба у себя, почему я знаю, откуда он родом, проторили в этот совхоз скирдовать солому. С разрешения, конечно, нашего председателя. Папа мой тоже, раз туда съездил. Помню, приехал оттуда весь больной, но зато с хлебом за работу. А как рад был. А потом, после, полгода болел. Болезнь он, какой – то там подцепил. Худеть стал. А Вера… Что уж там. Разведенка, что ее ругать. Имела еще девочку. Но мужа теперь у нее нет. Ушел от нее к другой. Потому, отвыкла, видимо, от мужика ласки. Вытолкнули они меня из кабины, сказали: «Вон недалеко скирда. Посиди там, пока мы…» Я, конечно, смутно только догадывался, зачем они меня выпроводили в зимнюю стужу, из кабины машины. Ну и что я зарылся в скирде? Мне все равно было холодно там. Да и вспомнили они обо мне только под утро, когда светать начал горизонт. За это время, я конечно, сильно продрог. Домой вернулись к обеду следующего дня. Мама моя чуть с ума не сошла, видя, в каком состоянии я явился домой. Вера, конечно, осознавала, что в моей простуде, виновата она. Забыла за ласками этого Захара, о моем существовании, и тем самым положила меня на целый месяц в больницу, с пневмонией.
*
Да, первые признаки просыпающего утра, уже наглядно стало проглядываться на небе. Небо, хотя и еще серо выглядел, но горизонт, откуда солнышко поднимется, стал менять свои цвета окрасок. В начале она, розовея, посветлела чуть, затем полезли по краям еле заметные сполохи, в разные стороны – щупальца ее… Ветерок заметный стал. Холод откуда – то, пронизывающий, с наплывом накрыл на нас. Травы по бокам колеи, еле заметно прогнулись.» Значит, – чешет свою залысину, приподняв картуз свой, бубнит с воза, сзади меня, дядя Коля, брат моего отца, – скоро утро, Максимка, – это он так отца моего величает. – Веселее будет тогда нам. Продрог? – это он обращается ко мне, проведя шершавой теплой ладонью по моей спине. – Шевели плечами. Дай кровь свою разогнать…» Жалеет он, конечно, меня. Недоволен он с отцом моим, что меня одного отправляет в такую даль. А что делать? Школа у нас в деревне только восьмилетка. Вон брат мой, Аркашка, когда он учился, в деревне у нас семилетка только была. Это недавно перевели нашу школу на восьмилетку. Бегать в соседнее село, за двадцать километров, где там десятилетка, далеко, а жить у кого – то там, без денег… Оставалось моим родителям только потревожить Челябинскую сестру, Нину, которая бы у себя, пристроила меня в училище, а если у нее есть возможность, содержать меня еще у себя, отправить меня в школу в девятый класс. Конечно, у папы был и третий вариант. Пристроить меня куда – нибудь на завод. Но у меня возраст был маленький, чтобы на завод устроится. Поэтому, этот вариант само собою отпадал.
Убедил, видимо, его папа. Помалкивает потому он. А мне все же чуть страшновато, как это я поеду один на этом поезде? Конечно, я не трус, и не такой уж забитый. В свои почти тринадцать лет я многому научился. Успел даже в свои годы, опубликоваться в районной газете, статьями и репортажами. Конечно, все это книжное, школьное было мое занятие. А мне, предстояло в дальнейшем, не книжное знание применять в жизни, а наяву, на своей шкуре испытать эту скрижаль каменной доски, с десятью божественными заповедями. Осознаю, несмотря на свой юношеский возраст, там, куда я еду, люди мне встретятся разные. И у каждого, знаю, свой потолок знание в голове. Всем, конечно, не понравишься. Где – то там, все равно будет сбой, как, вот, с этой колеёй, с правой стороны, переднего колесо телеги. Влетел с ходу, с чавканьем в глубокую яму, при том еще, за одной, забрызгал нас; вылезти не хочет, как бы кобыла наша не натужилась, вытягиваясь, изо всех сил. Взрослые спрыгнули с телеги, помогли кобыле вытянуть с глубокой ямы, переднее правое колесо. Мысли забредающие, вновь переместились к моим опасениям. Я, конечно, зависть к другим еще не понимал, но видел, как из моих знакомых в деревне, некоторые живут. Уж чего – чего, папа – то мой не самым последним человеком был в деревне. Как завхоз, он имел право держать лошадь у себя в каждый день. А раз лошадь в доме, он уже не совсем был пропавший. Колымага, или телега, со сбруей, всегда дома находился. Летом, на колымаге, сена, скошенного придорожного вдоль дорог, можно привести. Ночью, конечно, и чтобы никто не знал об этом и не ведал. Не разрешалось это в колхозе. Но за то, корова в зиму была сыта. И не надо было тогда беспокоиться, драть на голове свои полуседые редкие волосы, где этого корма добыть среди этой «голодной» зимы. В случае чего, лошадь всегда под рукою был. На нем и вспахать огород можно. Не лопатой же, как другие, не имеющие возможности взять из колхоза лошадь. По сравнению с нашей семьей, некоторые все же, что уж стесняться, жили лучше нас, и в достатке. Это учителя. Мало, но получали «живые» деньги. Ну, председатель колхоза и сельсоветские работники, а остальные, в деревне, не видели никогда этих денег. Но ведь, черт подери! жили и живут в деревне люди. Выкупали навязанные властями займы, сдавали в магазин куриные яйца, – это был обязательный налог с каждого подворья. А теперь, в моем кармане, мама зашила там пятьдесят рублей, которую, мне мамка сказала: «Забудь о них, пока не доедешь до Челябинска. На дорогу, папа тебе выручит, из этих березовых веников». Поэтому я и говорю, мне не знакомо пока зависть к другим, которые лучше меня одеваются и питаются.» Видно это, довольно наглыми лицами людей, – к ним мама мне посоветовала, меньше обращайся за советами. – Они могут тебя обидеть и обмануть».
Вскоре впереди, завиднелись дома. Это, выходит, мы преодолели, наконец, путь до татарской деревни – Бурметьево. Это от нашей деревни, в двадцати километрах. После потом, будет мост не широченный, через реку Черемшан. Течение у нее быстрое, и берега извилистые. Говорят, там и рыбы водятся, да и почва, тут, перемешанная, с глиной пошла. Кобыла наша повеселела, да и колея тут не продавленная. Легко лошадке тянуть телегу. Домики тут, тоже пяти стенные, как и в русских деревнях. Отличие от русских деревень, татарские деревни, отличаются от русских, только своей мечетью. Светло уже, и колея проглядывался уже отчетливо, да и солнышко вот – вот сейчас выпрыгнет. Видно уже полукруг ее, с медным овалом, обдавал уже холодом нас, как бы невидимо царапал нас своим внезапным приходом. Нам еще оставалось двадцать километров до районной станции. Успеть мы, конечно, успеем, доехать до моего Челябинского поезда. Но нам еще попасть надо до этого торгаша татарина, застать его дома, который обещал у нас, купить эти березовые веники. После него, мы еще должны купить для меня билет, на мой проходящий поезд. Успеть затем, покушать, а в шестнадцать часов я сяду на поезд, и я отправлюсь один до этого самого Челябинска. Конечно, мне все же не по себе. Впервые я буду оторван от родительского ока. Каково это мне на мою психику? Что меня впереди может ожидать? Недавно, месяца два назад, чукотская моя сестра, Лиза, уезжая обратно на свою Чукотку, забрала с собою и мою подросшую сестру Зину. Я, из нашей семьи, уже шестым теперь по счету буду, как выпроваживают нас из родного гнезда наши родители. Вначале, счет открыла моя старшая сестра, Лиза, которая теперь с мужем, на Крайнем Севере живет, на Чукотке. Затем, за нею проторила дорожку, Рая, которой, господи, прости, не повезло пожить долго. Шестнадцать лет ей было, когда она вернулась вся больная из Куйбышева. Приобрела она, видимо, эту болезнь там, в Куйбышеве, на стройке. Помню, рассказывала она мне, что на стройке, зимою, холодно было, выпила водку эту, предложенную ей, и сразу почувствовала себя плохо. Это она мне так рассказывала. Жалко мне её. Я еще был совсем – совсем маленький, но помню. Мама наша, по случаю внезапной смерти своей родной сестры при родах, поехала на похороны в Коркино. Это в Челябинской области. А мы, две сестренки еще, после меня, сестрою остались дома. Папа еще оставался дома, но дома, в то время, из взрослого женского персонала, была только сестра, Рая, которая теперь, после отъезда нашей мамы, должна была заниматься по хозяйству, по дому. Но ведь она еще и болела. Чуть что, она теперь хваталась за сердце, бледнела, когда замешивала тесто для хлеба. Это оказывается такая тяжелая работа. Тогда я совсем не понимаю. Зачем же ее тогда, дядя Женя, заставлял летом возить скошенного сена на колымаге? Что, людей не хватало? Я тоже тогда участвовал в том сенокосном страде, помогал Раю, сестру. Тогда помню, вечер был. Папа наш ушел к соседу на посиделки. А мы, оставшие одни дома, сгрудились вокруг Раи. Телевизора тогда не было. Сестренки, моложе меня, наблюдали со стороны, как месит тесто наша сестра. Интересно у нее все получалось. Месила, месила, затем вдруг ёкнула, присела на лавку, и вся побледнела. Затем она второпях, отмыла руки от теста, прилегла. Сказала упавшим голосом, нас успокаивая: «Я чуть только полежу. Не бойтесь». Я не понимал, что это с нею, но видел, она умирала. Я это точно почувствовал. Мы с дрожью смотрели на нее и видели, как она угасала, ловя слепо наши руки. И это шестнадцать лет. В расцвете лет. Какая несправедливость. Затем отправился в город, и мой старший брат. Он у нас был, как и я, книжным червяком. Это его так окрестила наша мама. Любил он читать книг захлёбом, но больше всего он славился в деревне – он был гармонистом от бога. Где свадьба, там и мой брат. Рушников у него от этих свадеб, целый сундук скопилось. Все они с орнаментами, с вышивками были. Конечно же, деньги, наверное, у родителей тогда были. После семилетки, надо было платить за дальнейшую учебу, если хочешь дальше учиться. Отправился он в соседнее село, где была десятилетка. А после десятилетки, пока его в Армию не забрали, отправили его мои родители, в город Мелекес. Теперь переименованный Дмитриев град. Чем он там занимался, я, правда, не знал. Мы не очень дружили с ним. Позже уже, много лет спустя, я с ним, как бы заново познакомился. Тогда он уже жил в Чебаркуле – это в Челябинской области, и возглавлял комбинат шлакоблочный. Он там директорствовал. А я к тому времени, жил уже на Чукотке.
*
Неисповедимы, как говорят, дороги наши. Правильно, видимо, говорили, эти мудрецы. Как вот и сейчас, когда мы отправились дальше от этой татарской деревни. Что нас ожидала в пути, мы не знали. Солнышко, к тому времени, весь уже выглянул, встал у кромки горизонта. Такое большущее, глядя в прищуре на это громадное солнце – а по – другому варианту нельзя было на нее смотреть – ослепляла глаза. Брат отца, не преминул вставить свое очередное мудрое слово: «День славный будет, Максимка. Слава те господу». Еще, подтверждая своих слов, вдобавок перекрестил себя. Что поделаешь, они уже в таком возрасте. К пятой десятке перемахнули. Им и коммунисты теперь не указ. Какого бога им верить. Живут своей жизнью. Никому не мешают. А вера к Господу богу, это у них, в крови, видимо. Чуть что, сразу крестят себя, бормоча про себя: господи, помилуй. А кобылка наша, видимо, подустала. Перестала хвостом своим вилять, бить меня. Стала, чаще косится на нас. Видимо, хотела сказать: «Дайте мне чуть передохнуть? Устала ведь я». А с другой стороны, чего ей уставать, ведь тяжести у нас в телеге нет. Сто штук березовых веников, да мы еще. Река Черемшан от колеи дороги еще рядом. Пока далеко не отошли от нее, надо бы нам, действительно, ненамного отдых сделать для нашей кобылки. Трава тут обильная, сочная, да и вода рядом. Напоить ей, дать ей немного пощипать, эту влажную с росою траву. Да и самим развести костер, подогреть воду в чайнике, утолить себя чаем. «Ладно, – говорит, обращаясь к нам, дядя Коля. – Сделаем немного передышку. Успеть – успеем. Поезд без нас не уйдет, Максимка. Кобылке дадим чуть подкрепиться». Остановившись у реки, мы быстро распрягли кобылку. Я с нею чуть еще походил по кругу, чтобы она чуть поостыла, затем прицепили к узде вожжи, а другой конец к телеге, отпустили ее к воде. Затем она, утолив жажду, сама потянулась к сочным травам. А мы, занялись с костром. Слава бога тут, дров не надо было искать. Вдоль берега было много высохших кустов вербы. Это, наверное, они зиму суровую не выдержали, замерзли, а к весне, те, которые были укрытые снегом, ожили, распустили свои серёжки. Теперь эти серёжки растушёванные, как пухлые бабы в одежде, вялые уже видом, смотрелись на нас старчески устало. Мы, конечно, срубали топором с этих кустов только те высохшие ветки, у этих верб. Живых, мы старались не очень их тревожить. Слава бога. И погода нас, правда, благоприятствовала. Не видать пока на небе дождевых несущихся облаков. Смех смехом, а дядя Коля, оправдывая эту сырость, на самом деле, в полном серьезе, говорит нам, что в этом виноват сам Хрущев Никита Сергеевич, которого, выгнал с поста, Брежнев Леонид Ильич. Интересно его слушать. С тех пор, как Брежнев занял за место Хрущева, он все подшучивает над ними. Будто и страха не ведает. Оно, конечно, и его понять можно. Он прошел войну. Страха у него уже нет. Ведь не бывает же двух смертей. С одной, живым вернулся, а с другой? Сколько бояться ему еще? При Сталине боялись. При Маленкове? (это из истории). Он чуть успел порулить со страной, пока Хрущев Никита Сергеевич, его окончательно не вытолкнул с поста. Да и, как, никак, он, дядя Коля, все же сидит теперь, ближе к власти, в правлении. Слышал не раз, наверное, краешком уха, что тут говорят, об этом случае. А тут, по выводам словам дяди Коли, ему все равно, кто там, в Москве «командир». «Главное, – говорит он, – затягиваясь свою цигарку, – они нас до ниток не обобрали. Житья уже нет от этих займов. Заставляют ведь! А с огородами, что… учудили. Курам же смех! Ну, скажи, Максимка. Вот у меня срезали четыре сотки с огорода, будто лишними они оказались. Пришли, замерили, сказали: Эти четыре сотки лишние. Не положено, – сказали. – Там теперь не картошка растет, а бурьян с крапивой. Кому они выгоду сделали? Вслух об этом говорить нельзя. Не поймут правильно. Эха – х – а, – вздыхает он. – Войну лучше было. Мечтали, кто еще жив был. Эх, жизнь, какая будет после войны. А ты не слушай, – говорит он мне, лаская меня шершавой ладонью по голове. – У тебя, лучше будет жизнь. Учись». Нам уже пора собираться. Засиделись мы тут у костра. Как бы нам не опоздать. В зените уже солнышко. Даже пригревает. Слава бога. Видимо, дождя сегодня не будет. А хотя, кто его знает? Пока его нет, а после… когда отъедем? Всякое же в жизни бывает. А место мы все же хорошее выбрали для нашего короткого отдыха. Рядом река. Хотя, гул от нее, ушам бьет нас. Течение у нее быстрое. Будто она бесконечной струёй двигается, вернее, растягивается. Это, когда долго смотришь на реку. И берега тут не крутые. Плоские. И далеко видно отсюда во все стороны. Татарское село, и этот мечеть, сейчас видится мне как в легком мареве. Но хватит обозревать на эту красоту. Спешу к лошадке, которая теперь стоит смирно среди этой обильной травы, с дрожью потрясывая белую волосяную шкуру, по бокам. Подвожу ее к оглоблям задом, надеваю на ее голову хомут, а чересседельник, с подстилкой, вяленой из шерсти овцы, уже накидывает на ее круп, дядя Коля. А папа, тушит костер, заливая его водою из чайника. Когда уже запрягли кобылку, мы уселись в телегу.