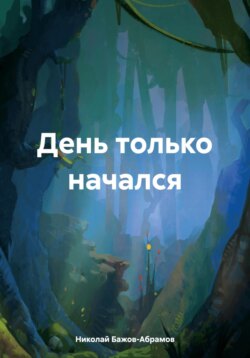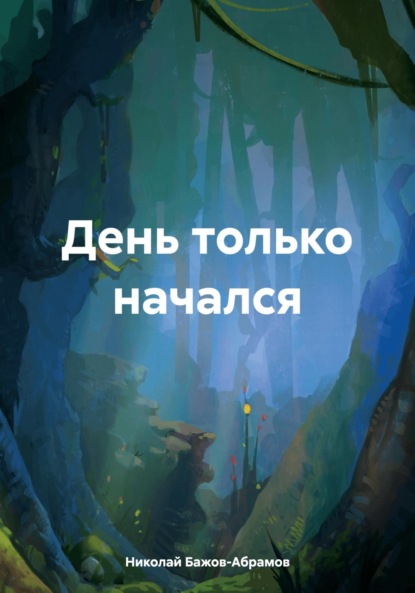Николай Бажов – Абрамов
День только начинался.
Повесть
День только начинался. И он лежал на примятой сырой траве, которую тогда, ползая торопливо из последних уходящих сил, в спешке рвал до полной темноты, перед тем как укладываться спать, в собачьей позе, у этой говорливой с порогами, не широкой лесной речушки. Место, который застал его еще вчера, перед закатом солнца, получилось у него, конечно, в спешке. Да и к тому, и сумрак с холодком уже спешил, поглощая на своем пути, света дневного. А он ведь по началу, даже и не собирался переждать в эту ночь, у этой говорливой, не широкой речушки, с порогами, застигнутый его у этой речки и между железнодорожным полотном. До трассы, куда он так стремился, был почти уже под боком, почти рядом, по его ориентиру этой местности. Да и когда, судорожной с дрожью пробудился он в это утро, у этой говорливой речки, вначале даже долго не мог понять, почему он тут лежит, и как он тут оказался? Еще вчера, когда пробирался через этот местность: где там ползком, а где и по мере возможных сил, шел ковыляющим шагом, вдоль этого железнодорожного полотна и этой быстрой речки, с порогами, он, в одном тогда сосредоточен был в своих желаниях, до полной темноты выйти, до этой его намеченной цели, заветной. И ведь, почти же он, казалось, по ориентиру этой местности, доковылял до этой спасительной трассы. Если бы в этой спешке, вновь в радостях, не споткнулся он тогда, зацепившись носком своего ботинка, об этот трухлявый пень дерева, возможно, он бы, и правда (допустить же можно), вышел до этой опушки леса, еще затемно. Случай он, конечно, этот помнил, а если бы не вспомнил, в силу своего положения, то в ссадинах правое плечо и разорванный рукав костюма, при последнем падении, об этот трухлявый пень, ему напомнил (до сих пор там у него нестерпимо ныло), но, а что потом? Он вздрогнул, как бы от озноба – это, когда высветился неожиданно перед его настороженным взором, вновь этот, тот самый, посеребренным виском, который, с хрипотцой в голосе, – простужен он был, наверное, – просит, или все же настойчиво уговаривает, глотнуть ему тоже, из его винной большой бутылки. И всплыл теперь, как бы ни откуда, перед его настороженным измученным взором, вновь тот тамбур…
Затем, сглатывая с горечью мокроты во рту, он умолкает. Перед его застывшим взором, висит неподвижный свод светло – голубого неба, с примесью, с разорванными, с белыми просвечиваемыми островными облаками. Они в его воображениях, какое – то не такое, необычное, какой он привык видеть в своей повседневной жизни у себя в деревне. Они были сейчас, перед его часто мерцающим взором, отражением речки, видимо, светло – лазурными, и потому ослепляющими. Вот он снова выплыл в его голове. Нет, не его лицо, и не его голова, светлыми, как бы прилизанными волосами. Он это отчетливо сейчас увидел в своем воображении, потому и от этой проявленной неожиданности в его памяти, с толчком испуганно вздрогнул, когда так ярко выплыл, из веретен его памяти, его рука. И в его руке… Что это? Он вновь вздрагивает, содроганием даже, потому запоздало вновь даже хочет прикрыться рукою от этого ужаса, защитить с чем – то, как – то себя, от этого, вроде, резкого укола в грудь. После, он уже не помнил. Как он тут оказался? Нет, не здесь. Там еще, недалеко от железнодорожного полотна, где он пришел в себя. И лежал он, под (бога, что ли начать верить ему), у этой, густо – плотной, полтора метровой высоты ивы. Теперь, если проследить внимательно хот его видений… да, он сейчас, тут… все еще лежит на примятой сырой траве, не пода леку от этой говорливой, с порогами быстрой речушки. Но ведь он? Как это ему понимать? Он, если все же логически рассуждать, должен был находиться еще в тамбуре, у того пассажирского поезда, на котором он ехал из Сургута, до своей конечной станции Нурлат. Значит? Да и память, наконец, теперь, ему подсказывает, припоминается; он тогда вышел в шумный тамбур, вместе с этим человеком. А и, правда, теперь он это отчетливо вспомнил. Ему тогда, и правда, было тоскливо, сидеть в купе. Наверное, все же за однообразие, пейзаж за окном, мелькающий, перестук колёс, на стыках рельс, под вагоном, и эти с холодком отдающие стены в купе. А предложение покурить в тамбуре, он, все же, какое – то действие совершает, не сидит, тупо уставившись в окно, невольно прислушиваясь перестуку колес, на стыках рельс, под его вагоном. Потому он и, радостно соглашается с предложением этого с проседью седого, в висках, Петра Гавриловича, соседа и попутчика по купе, у которого, как он помнил, был еще хрипловатый простуженный голос. Кашлял он еще часто, подставляя к своему рту, интеллигентно кулак. Да, так и есть. Но, а потом… он его, выходит… после резких уколов в грудь, когда он, с его настойчивого уговора, с неохотой, чтобы его только не обидеть отказом, приложился доверчиво с его бутылки, этого вина. Получается, он в это время, и всадил в его грудь остриём этой отверткой; затем, может сразу, а может и после, когда поисследовав все его карманы, открыл дверь тамбура, вытолкнул его на ходу из поезда… Но, не понятно ему, все же. Почему, ну почему, выпадая с движущего поезда, он еще жив? Нет, надо ему скорее прийти в себя, да и, за одной, выкурить сигарету, успокоить себя, а затем, по возможности, попробовать все же выковырнуть еще, из памяти головы, если это еще возможно, что же на самом деле с ним происходит сейчас, или уже произошло? Так, где он этот портсигар? И где сигареты? Вспомнил. В кармане у него всегда, внутреннем, в пиджаке. Давняя привычка еще из армии. И пока он подстраивался, как ему еще вытащить из этого кармана пиджака, этот его портсигар, когда в это время, между промежутками деревьями, пробивающийся утрешний свет, слепит его воспаленные до болей глаза. Да ему еще кажется, рядом, недалеко от него, искрящаяся от лучей солнца вода, с поверхности говорливой речки, играет, будто, с ним сейчас какую – то странную игру. Перемигивается с говорливо журчащих порогов. И потому ему сейчас, да и сам он это понимает, не нужно по напрасно дёргать себя: причиняя снова боль, движением своим. Потому он, с осторожностью, затравленно вертит по сторонам голову, озираясь, но, не меняя еще позу своего тела. Сейчас он, от того падения, от той торочащийся из земли пня, руку даже левую не может пошевелить. Там была такая адская, ноющая, не прекращающая боль, как в тот раз в тамбуре, когда тот ему, силой несколько раз, всадил чем – то острием в грудь. Даже сейчас, это вспоминание, выдавливал с глаз у него слезы. Но тогда, зачем этот портсигар стал нужным ему сейчас? «Да и зачем мне сигареты?» Хочется ему это вслух сказать себе, но что у него еще с языком? Он у него, будто, как бы распух что ли? И боль еще там, какой – то, утолщено не удобный, не привычный. А между тем, солнышко уже выплыло полностью, из провальной лесной полосы. Высветилось ярко, озаряясь светом, ослепляя глаза. После уже, какое – то время спустя, не так и стало прохладно. И дрожь в теле вроде прекратился. Да и между промежутками деревьями, затем, холодный сумрак, пятясь, углубился вскоре, вглубь этого леса. И блики солнца, отраженные от поверхности речки, теперь, кажется, только ему уже перемигиваются. И, кажется, получилось у него. Выдернул он, наконец, можно сказать, с мясом, из левого внутреннего кармана пиджака, тот зачем – то понадобившийся теперь ему портсигар. Но, что это? И почему он продырявленный? И как бы придя в себя, будто, как бы перед его взором, вновь открылись те пугающие его, что интересно, ни откуда, это видение. О, ужас? Что он видит? Все тот же тамбур оплеванный курящими дверь, и этот, исчезающий будто в тумане, ему знакомый по купе человек. Хотя и совсем он уже исчез, но эти его глаза: трусливо бегающие со злобой, как бы временно задержались в исчезающем его облике. Поэтому он, в испуге вновь вздрагивает, причиняя невольно себе боль, и в тоже время, роняя на грудь этот портсигар. И там у него, у левой стороны груди, вновь молнией сильно кольнуло. Больно так. Что даже у него выдавило слезу. Недоумевая все еще, что же это с ним на самом деле, он, наконец, отстегнул с трудом пуговиц на пиджаке, затем и на рубашке. И что он видит? Прижав с усилием подбородок груди. Видно у него там рана, запекшей уже кровью. Прямо почти у ниже соска. Видно, этот портсигар его, получается, и сыграл с ним добрую услугу. Защитил проникновение полностью в его грудь, этого самого предмета: ножа или штыря заточки. Судя по дыре портсигара, можно было понять по форме – это был, как остро оточенная отвертка. Видимо, он и защитил его от неминуемой смерти, остановленный диафрагмой груди. А дальше ему уже понятно. Сознание высветил ему память. Помнит он. А это уже в Сургуте. Поезд был у него проходящий. И он еще помнит. К нему привязался какой-то мужик интеллигентного вида, в черной куртке на платформе, кашляющий часто, когда он, выйдя из вокзала сумкой, при объявлении диктором прибытия его поезда, стал подходить к своему вагону. И помнит. Он шел впереди него сумкой, перекинутый на левое плечо, и он еще, задержавшись у вагона, перед тем как подняться, обернувшись через правое плечо, прокашлянув, любопытствовал: «Вижу у вас, по билету, тоже этот вагон? Поедем, значит, вместе?» Вагон у них, и правда, был общий по билетам. Да, вот только. Куда он ехал, не сказал. Или не в настроении был в это время. Он это сейчас только вспомнил. И еще, к ним в купе больше никто не вселился. Поэтому ему было скучно ехать, а спать, не хотелось. И когда он, этот сосед по купе, ближе к обеду, следующего уже дня, предложил ему вновь покурить с ним в тамбуре, и там продолжить прерванную в купе беседу. Да еще он, прихватил собою и эту большую недопитую еще бутылку со стола. А ему было скучно, поэтому выбора у него не было, чем – то другим делом заняться; с предложением его почему – то сразу согласился. К тому времени, они уже знали, но еще шапочно, как им обоим звать. Он ему представился Сергеем. Затем, замешкавшись, и чуть сделав паузу, добавил смущенно, трогая пальцами кончика носа: «Собственно я, Сергей Иванович. Так в школе ко мне обращались мои ученики и учителя. Пришлось, вот, как видите, уйти мне из школы… – И не сдержанно уже. С грустью, со вздохом. – Вы тоже тут, вижу, на подработке были? Как я понимаю. Поэтому сами видите. Какая у нас сегодня провинция, с этой фальшивой демократией. Семью кормить, одевать надо? Ясно. Вы сами это, без моей подсказки видите, что делается сейчас в стране не так. Вот я и, завербовался временно, в нефтяники, чтобы сегодня семья моя выжила. Домой еду. Вахтовая у меня сейчас работа». И уставился на него с доверчивой улыбкой, чтобы и о нем узнать чуточку его судьбу. Все же они вместе ехали. Но он, на его это предложение, только растерянно хмыкнул и помрачнел, не ожидавший этого вопроса. Выставил ему только свои моренные желтые зубы, а затем, потерянно отмахнувшись рукою, хрипотцой кашляя, вы хрипнул. «Ай! чего уж там. Ничего путного там я не вижу, в моей жизни. Приболел я, домой тоже еду. Петром Гавриловичем меня звать». А у него еще, на лицевой стороне левой руки, выколот был, маленький якорь. «Якорь там у вас… с морем, выходит, вы связаны? «Да, было, когда – то. Это я, когда служил в мор пехе… пускай. Не мешает он мне». Вот и все. А в остальное время: сидели, изредка перебрасывались словами, поглядывая на окно между глотками, из этой все еще бутылки. И ничего такого подозрительного в нём, он не почувствовал тогда, от этого, своего соседа, по купе. Он, конечно, не был хилым человеком. Поэтому и опасаться от него, не зачем было ему. Но то, что он везет столько денег в кармане, об этом он как – то не думал, что его могут по дороге домой, кто – то ограбит. Если бы ему кто – то даже в шутку сказал, что его ограбит в пути его сосед по купе, он тому человеку просто рассмеялся, по привычке, отмахнувшись рукою. «Да, ладно. Зачем ему головная боль». Поэтому он, и спокоен был насчет своих денег. Но, а когда этот Петр Гаврилович предложил в очередной раз сходить в этот тамбур, и там, в разговорах, допить, наконец, остаток этого вина, из этой все еще недопитой бутылки, да и за одной, там еще тихонечко покурить (теперь в тамбуре не разрешали курить), он легко с ним, с его предложением покурить в тамбуре, согласился. Так как, он уже знал, да и сообщил, этому Петру Гавриловичу, скоро ему сходить, а покурить, перед тем как попрощаться с ним, подумал, почему бы нет? Раз еще и приглашают. Но, вот, то, что там, в тамбуре, после произойдет, он этого никак предвидеть не мог. Он же был нормальным мужиком. Хотя и знал, при неблагоприятных случаях, человек может превратится и негодяя. В жизни ведь, всякое бывает. Когда он покачнулся, тыркнулся на него, подумал только, или даже не успел подумать. Просто в тот момент вагон сильно качнуло, на стыке рельс, и он не удержался от стенки тамбура, где он до этого упирался спиною за него и курил. Его, конечно, сильно качнуло, и он, невольно по инерции, отброшенный, тыркнулся на него, на этого Петра Гавриловича. А затем, следом, тотчас почувствовал резких, сильных уколов в грудь. Этим, видимо, штырем, или отверткой. После… там провал у него с памятью. И как он упал, и когда столкнул его этот Петр Гаврилович, с тамбура, ничего этого он не помнил. Видимо, то, что он еще жив сейчас, это ему, Господу богу, выходит, помолиться надо, если выберется из этого леса. Да и выброшен он удачно. На густую встречную зеленную иву. И этим самым, он и, выходит, остался жив. После он, когда на четвереньках, с кровяными потеками во всем теле, выбирался из этой разросшийся недалеко от берега речки куста ивы, и он еще не знает, сколько он там еще пролежал в беспамятстве. Этого он не знал, и потому не помнил. Но когда выполз окончательно из этого куста, понял, что он жив, поэтому он, сгоряча все еще, хотел привстать, но его на этой попытке, сломил резкая боль в груди. Он даже, вроде, закричал, оглашая лес эхом, пронзенной этой болью. После, он снова надолго забылся.
***
Пришел он уже в себя, только под вечер. Холодные сумерки, обнимающие его, да и прохлада эта, собачья, отдающая сыростью, с уходом дневного света, привели его в состояние осмысленности. Он тогда себя обнаружил не по далеко от воды речки, и обильных сочных разно трав, окружавших его с трех сторон, а сзади него, там уже в пяти, шести шагах, было железнодорожное полотно. Пока еще, какая – та видимость была, и, осознав уже, в каком он состоянии сейчас, стал под собою рвать эту траву, и делать себе лежак. Так как, стал уже понимать, придется ему здесь, проще сказать, дрыхнуть тут до утра. В этом неудобстве, да еще в прохладе и сырости от речки, всю ночь, так как, продолжить путь, он уже не мог физически. Хотя и, осознавал, судя по рельефу местности, трасса, куда он стремился, была почти рядом. Главное еще, жалко было ему себя. Если бы еще чуть подальше от этого места, с километра хоть, ближе к той предполагаемой опушке, там было бы уже не лес, а трасса автомобильная. Но теперь, когда он окончательно понял, что с ним произошло, ему надо, все же попытаться выбраться из этого места. Но это уже, после он только осуществит, когда он доползет, или доковыляет до этого берега речки. И там еще на свету, у открытой местности, у небольшой просветной поляны, попробует окончательно рассмотреть эту свою рану. Да и за одной, перевяжет, если это возможно, рану. Но это потом, потом, когда он совсем осмыслит происходящее с ним. То, что он еще жив, выходит, у него грудь только чуть продырявлен, не задеты основные органы там. И этим он обязан, выходит, своему портсигару и ребру диафрагмы, что жив еще до сих пор. Хотя, боль его и уложил вновь на подстилку травы, ему все же, не смотря на потревоженную боль, попробовать, если это возможно, продвинуться ближе к этой речке, пока совсем плохо ему не стало. И там, все же, попробовать обмыть, хотя бы от грязи, эту его рану в груди, и суметь еще добраться и до нательной майки. Затем попробовать, сделать из него перевязочный бинт, а после, все же попытаться встать, если это возможно. Местность, ему вроде, знакомо. С мамой он еще тогда, в глубоком своем детстве, рвал тут, вручную, из этой речушки, строительного мха, для нового строящего отцом бревенчатого дома. Было ему тогда, дай бог ему вспомнить? Сколько же было ему тогда лет?.. Не то семь. Да… в тот год, папа его, наконец, затеял строить новый дом. Конечно, детская память не долговечна. Вон, сколько уже времени минуло с тех пор. Теперь он уже, и сам взрослый дядька. Сына имеет, дочку, жену. Матери только, вот, жалко. Давно уже она в могиле. Все у него померли, когда он еще учился на последнем курсе в институте, в Челябинске. И в школу свою деревенскую, когда он приступил работать, после окончания института, с того времени, вон, сколько уже годов минуло. Успел к тому времени жениться, родила жена сына, затем и девочку. И теперь бы ему, до сих пор работать в своей школе. Да, вот, беда эта российская. Не умеем мы спокойно жить и развиваться, поэтому, выходит, незаметно, не ожидаемо, для всех населяющих граждан страны, нагрянула эта беда. Затем изменилась неузнаваемо и страна. Или её изменили, при молчаливо послушном народе, эти, всегда неспокойные, жадные выскочки, не любящие свою страну люди – либералы. Стабильная жизнь в деревне, тут же стала исчезать. Да и власть другая стала, с приходом к власти в Кремле, этого оппозиционера Ельцина, которого, если это и правда, привели, – говорили,– к власти, те же КГБ шники. Ну и голоса еще не достающие. Тогда еще (Верховный совет), этой либеральной партии Жириновского. Хотел он тогда, говорили, в правительство попасть, но не получилось; Ельцин его так и не взял в свою команду: не поверил его лояльности к нему. А колхоз, просуществовавший столько лет: его создали коллективизацией, когда – то, советами. Еще при Сталине. Теперь, неважно уже, кто и как его создавали. Но, а теперь… вроде другой альтернативы, у них нет. Разговоры только. Поэтому, пусть бы продолжал свое существование до тех пор – он никому теперь уже не мешал, и люди из оседлой сельской местности, благодаря колхозу, да, мало там получали, но работу все же имели. Но все равно, вскоре, под чьё – то д у – д у, бесславно исчез колхоз с облика деревни. А там уж, трудно было понять и объяснять люду деревенскому толково: кто развалил колхоз, и куда делась эта многомиллионная колхозная техника: машины, сеялки, комбайны, трактора. Да и с ферм: лошади, коровы, свиньи, молодняк. Все разворовали в одном часе. Кому – то, за бесценок, видимо, продали, близким своим людям. А остальное, растаскали, вплоть, до последних железок, из бывшего стана, кому не лень. И никто теперь не узнает, где от их продажи деньги? После, конечно же, в деревне работы не стало. Да и одновременно, и школа, следом за колхозом стала хиреть. Зарплаты упали. И даже какие – то месяцы, стали зарплату выдавать, – кто же до этого маразма додумался? – водками, порошками стиральными. А семью надо было кормить. Конечно, славу богу, деревенских жителей, огороды испокон веков выручали. Да и скота, ради мяса, заколоть еще можно было. Не всех еще их, эти новые буржуа рыночники из Нурлата, выкупили для продажи у них, на их рынке. Но, Сергею Ивановичу, не потому что захотелось разбогатеть на нефтяном промысле. Да и откровенно сказать, уже смысла не было больше в школе работать; да и знакомые, которые до него уже проторили этот Сургут, наобещали ему чуть не золотую гору там, в Сургуте, нефтяной столице. Хотя и тут в Нурлате, можно было найти эту работу на нефтянке. Да, брать брали, не отказывали, но не на денежную только работу. Понятно. Чужак, он везде чужак. Да и сам он там уже, второй год трудился. И зарплата у него теперь, не сравнить, конечно, со школой тут. Он, если уж откровенно, за эти два года, пока вкалывал на этой нефтянке, вахтовым способом, напротив своего старого родительского дома, через дорогу, на этом пустыре, дальше уже были поля бывшего колхоза, а за полем, чуть в километре, шумел лес, выстроил пятикомнатный финский дом. С наружи, он еще был обложен белым силикатным кирпичом. Это уже был его успех. И жена его, Надежда, была теперь спокойна, которая, сохранившийся еще при деревне мужа детсаде, работала там пока воспитательницей. Не успели его еще изжить с лица земли деревни, районное, все знающее, что нужно для его электората в первую очередь, сановное чиновничье начальство, выполняющие свои работы всегда, с оглядкой на эту сытую Москву: что те скажут, или прикажут, своим ором. Так ведь делается у нас всегда. Ничего тут не придумано, и не выдумано, все правда. Что при коммунистах, что и сейчас. Там она, стыдно даже ей признаться, ниже корзиночного минимума, установленного, говорили, Москвой только получала. Даже на жизнь не хватало, иные месяцы, если уж совсем откровенно. Этого в газетах, конечно, не пишут, не разрешают писать. Да еще. У нас цензура снова, как при коммунистах. Вот и верь, после, из телевизора начальство, что народ его изобильно живет, в этой в их новой власти – рае. Если бы не его зарплата, а он работал теперь вахтовым способом, жить еще можно было как – то, не обращая на эту киселевскую монотонную пропаганду из телевизора. Одеться и обуться, и мебель какой, в районе докупить для нового дома, – он теперь основной заработок для семьи, зарабатывал на этой нефтянке, а на еду, если не хватало этих денег, огород, как всегда, издревле выручал труженику деревни, да и живности какое – то было еще во дворе. Там, если сахарку купить, прежний магазин еще был рядом. А теперь, вот, доползти бы ему до этой заветной трассы, где он мог после, поднять руку проезжающему мимо транспорту, доехать с ним до своего дома, или до районной больницы. Но возможно ли ему, в теперешнем состоянии? Главное ему все же сейчас, доползти бы, или доковылять до этого берега речки, упираясь на что-нибудь. Палкой, что ли. И ведь совсем уже она рядом. Как сказал бы в другой раз: рукою подать. Слышно даже ему, журчание отсюда у порогов. Главное, не зациклится ему пока на этот боль, исходящей сейчас, то ли от этой раны в груди, то ли там у него, все же, внутри. В общем, кажется ему, отовсюду боль это у него сейчас. Поэтому, валяться будет на этой сырой земле, не будет у него, конечно, этого спасения. Остается ему только, закусив до крошева зубы, заставить себя, с усилием встать, или ползти изо всех сил до этого берега речки. Совсем он уже рядом. Ну, сколько там шагов ему сделать?.. Пять, десять, пятнадцать? А ведь ему и уходящее солнце как бы сейчас помогала. Почти пригревала его сверху, между кронами деревьями, своим теплом. Подстраивала его собраться духом, встать. И пусть ноги у него еще не устойчивые, дрожат от слабости, но он должен все же встать, попробовать, попытаться, хотя бы, дойти до этого берега. И он, господи! Сделал это, все тки же. Ура! Распахнул пиджак, затем и рубашку, добрался до раны. Там все припухло у него, но кровь затвердел, закрывал рану. Это хорошо. Замачивать водою он эту рану, конечно, не станет. Перевязать бы её. Но, вот, сейчас он что – нибудь придумает. Скатает нательную майку в полоску, а чтобы она не поползла вниз по телу, а конец, с платочком, что у него в кармане отыскался, попробует стянуть за лямки нательной майки. Но руки и лицо все же отмыть ему надо. Судя по руке, как они грязные и ссадинами, можно судить, что и лицо у него такой же. Их ему надо отмыть, да и за одной он и освежится. И боль, который импульсом отдавался сейчас у него в области груди, он вынужден стерпеть. Раз, если, еще дышит. А куда он денется? Иначе ему не дойти до этой трассы, которая, по его предположению, в километре не больше. Ох! Как бы еще ему заново пристегнуть рубашку и пиджак, распахнутые с трудом, до этого с тела, когда он осматривал свои раны. Еще бы ему палку какую – то цельную подобрать, чтоб на нем было опереться рукою. Возможно ли это сейчас? Путь, по которому он хочет продолжить – это видимый для него впереди участок, между берегом речки и железнодорожного полотна. Ну и, конечно, нельзя исключать, дальше будут встречаться на его пути, и кустарники, и деревья, преграждающие его путь. Слава бога еще, видна под ногами, эта еле приметная тропа. Выходит, люди недавно еще, ходили вдоль этой речки. Иначе, откуда эта заросшая теперь травой тропочка. Значит, надо ему продвигаться, поэтому еле приметному следу. Раз есть тропа, значит, она все равно, когда – то, куда – то его выведет. Главное сейчас ему, забыть на время о своем ране. Сейчас он, может и правильно сделал. Он все же доковылял с трудом до этой речки, и не стал с речки эту воду пить, после, как руки отмыл. Сдержался, уполз от берега, чтобы себя не мучить соблазном. Но двигаться ему надо. Подняться бы ему вновь. Но как это ему сделать? На левую руку ему нельзя упираться. У него там отдавался сильнейшая боль, а с правой рукою, ну, доползет он, вон, впереди себя, до этой кривой березки. Что дальше? Да и что он с одной рукою сделает, для спасения себя? Привстать бы ему сейчас. Попытка первая, у него не удался. Он рычит уже, заглушая боль. Пот заливает его лицо. Он знает, это не здоровый пот у него капает с лица, но, а что ему делать? Он снова, с выкриком, делает попытку встать. Правая его рука, от такого напряжения, даже вздулась венами, налилась с пульсирующей кровью. Да и сам он весь напрягся, до багровой красноты, что даже у него на лбу, в середине, вена синяя выделилась. А ведь получился все же у него. Он встал. Хотя и закачало его, но он выровнял себя вовремя, опершись спиною к стволу дерева. А дерево, которому он уперся сейчас спиною, была осина. Не толстая. Так, в обхват был, двух рук пальцев. Высокая она такая, с гладкой синей кожурой, упирался вершиной к небу. И отталкиваясь теперь от неё, он делает попытку шагнуть по этой, высматривающей по траве тропе. И по выражению его лица, видно, он рад, что еще держится; и нет пока, и это слава бога, никаких преград впереди на его пути. Там, ближе уже к речке, у берега, конечно, ивы, прислоненные стоят к воде. Хотя и извивалась эта тропа, по контурам изгибом речки, страшно ему все же становилось, когда он, не по своей воле, невольно забирался какое – то время по тропе, вглубь куда – то в лес. А ему, все же, не надо отрываться далеко от этого берега речки. Речка, все же это его был ориентиром. Понимал, потеряет он эту связь, потеряет и свое спасение. Он даже на какое – то время, в раздумье надолго застыл, выбирая себе дальнейшее направление. И выбор этот придется ему сделать, пока он в состоянии соображать и стоять на ногах. Надо ему, и правда, сойти, пока еще не поздно, с этой тропы, и в дальнейшем стараться держаться ему все же вблизи у этого берега речки. Но тут ему, видимо, выбора не было. Придется ковылять ему, как по бурелому: самому прокладывать направление путь, к своему спасению. Тогда ему, от этого говорливого берега, ни в коем случае нельзя отрываться подальше ни на шаг. Он верил почему – то. Берег этот его, рано ли поздно, выведет его из этого лесного плена. Но, видно, по его состоянию, как он шатко держится сейчас на ногах своих; поэтому не пора ли ему уже прислонится какому – то дереву на его пути, или же немножко все же полежать ему на земле расслабленно, среди этих павших серых листьев. И правда, где он вытянулся, недалеко от берега, земля была обильно серо устлана этими павшими листьями, и среди этой листвы, то и там тянулись к свету и эти ландыши, и папоротники, с тонкими рас пильными крылышками, или как там его еще называют в этой местности люди, кочедыжники лесные. У ландышей, уже завялые колокольчики, бледно серо выстроились на засохших серых стебельках, а папоротники, обильно разросшихся, где он среди них лежал, казалось, будто, раскрасили лес своей зеленью. Он был, конечно, в сознании и ясном уме. И даже в таком состоянии, в каком сейчас пребывал, лезли его мозг, без ведомо него, какие – то отрывки из его прежней прошлой жизни. Не панорамно, а кусками. Будто, как память из прошлого, отрывал сейчас у него, эти куски, и зачем – то напоминал ему, ту его прошлую жизнь. Вот он всплыл. Еще молоденький он. Глядит отвлеченно (ему так кажется, чтобы люди на него не обращали), с брезгливостью, с высоты своего роста на свою маму, которая сиротливо и потерянно сидит у окна в трамвае. Это, когда она приехала в разгар его учебного года, на похороны своей младшей сестры, Степаниды, у которой, когда её кесари ли, врачи – акушеры (торопились, или не внимательные были) забыли в её утробе хирургические ножницы, когда зашивали её живот. Тогда он, только – только поступил институт, и мама его тогда, помнится ему, попросила сразу по приезду, чтобы он был для нее путеводителем в тот день в городе, пока она сестру не похоронит. До сих пор. До сих пор. Это удивительно. Сколько, вон, минуло уже с тех пор, а все ему не дает та память из прошлого покоя, тот нехороший его поступок. Казалось бы, ну что такого он натворить мог с нею? Просто ехали они тогда с нею на трамвае, за этой справкой, в эту кантору, для убиенной Степаниды. Там еще с ним был и муж Степаниды, Анатолий, или как он его звал тогда: дядей Толей. Конечно, он не без причины делал вид, что сидящая рядом с ним женщина, в неброском, красно клеточном платье, не его мама. Чего же он её стеснялся? За её деревенское, что ль, платье что ли? Конечно, она в этом платье, и, правда, выглядела, совсем не как городской житель. Он потому, еще дома, перед этой поездкой, просил её еще, чтобы она это свое платье, пока она здесь, сняла, а за место нее, подобрала временно для себя, и для выхода города, из платьев сестры Степаниды. Но она его и слушать не хотела, только просто сказала, чтобы он только отстал от неё: «Если мое платье стыдно покажется другим, то пусть тогда они прикроят от стыда свои глаза. А мне нечего стыдится. Что имею, то и ношу». Но он же молодой тогда еще был, да еще студент, стыдно ему рядом с таким платьем мамы. А понять и понимать её, он, видимо, не умный еще тогда был. Теперь, вот, как не накатит вспоминание это, так краской и покрывался. Но время он уже упустил, и возврата уже нет, чтобы вытравить этот его стыд, из своей памяти прошлого.
***
В очередной раз, он вновь споткнулся, за такой же трухлявый пень, выступающий горбом из земли на его пути. И отлетев от этого падения, лежал он сейчас, слава бога, на правом боку, где недалеко от него журчала у порогов речка. Нет, он на этот раз, не так сильно покалечился. Но все же, падая, набил, выходит, шишку очередную на своем теле. Затем над ним прошелся, поглаживая и укутывая его с холодком, ветер, неожиданно прибежавший с другой стороны речки. Да и там, куда он так всматривался, видел отсюда, этот только лысый зеленый холм, возвышающийся; но не увидел перед собою эту опушку леса, куда он так рвался, выбиваясь из последних сил. А идти ему все же надо, прерванным падением об этого пня, если он действительно хочет вырваться из этого лесного плена. Но возможно ли это ему в теперешнем виде? Теперь он уже, с каждым своим шагом, с тревогой ощущал, что сил у него уже почти в исходе, а сколько ему еще впереди шагов этих сделать, до цели этой намеченный, он, и правда, понятие не имел. Он видел перед собою только, тот запущенный его мозгом ориентир: дерево, потом другое дерево, и не очень уже осмысливал, что делал. И, видимо, и правда, плохо ему. Он, когда у какого – то дерева задерживался, отдышаться, прийти в себя, с тоской, и с болью в глазах, как – то смотрел на вершину этого приобнятого им очередного на его пути дерева. Что говорило в его взгляде, не трудно было понять. Да, ему хотелось в эту минуту стать птицей, чтобы увидеть ему самому, своими глазами, с высоты своего полета, эту опушку леса, куда он так стремился выйти. Но отсюда он, конечно же, не увидит конца этого леса, да и для осмотра, мешает ему этот невысокий лысый холм впереди за речкой, а продолжать дальше путь, у него уже сил нет. Да и папоротник уже у него весь изжёван и выплюнут. Пора бы ему передохнуть, да и к берегу подойти сейчас ему не мешало. Освежить себя, да и рот, за одной очистить, не мешало ему, от этого изжеванного папоротника, с этой речною водою. Но для этого ему, все же надо, прежде встать, или хотя бы присесть, узреть перед собою, с травой проросшийся берег этой речки, где на него, сразу бы замигали, отраженные солнцем зайчики. Их там, в речке, так было много, что, когда он присел, у него от этих бликов – зайчиков, как бы даже глаза прослезились. Что невольно, как бы защищаясь от них, не произвольно машинально прикрылся изгибом руки глаза. Затем, сделал попытку подняться, сдерживая и покусывая зубами за нижнюю губу до крови. И у него это получилось. Он даже как бы улыбнулся сквозь этот боль, довольным своим усилием. И прежде, как продолжить снова этот изнурительный путь, он еще отправил в рот кусочек этого откусанного папоротника. Это его действие, хоть отвлекал сейчас от той боли в груди, или где – то там еще, которые не давали ему нормально чувствовать себя. Но продолжать путь, прерванным падением, об этого трухлявого пня, ему все равно надо, если он, действительно, хочет доковылять, хоть бы даже таким способом, до этой его заветной трассы. Но возможно ли ему это? Теперь он уже, с каждым своим шагом ощущал, что сил у него уже почти нет, а сколько ему еще впереди шагов этих сделать, он уже даже понятие не имел. Просто он шел сейчас, вернее, брёл, и не очень осмысливал, что он делает. На каком – то этапе, поэтому, у него выбились снова силы. Больше он уже не мог и шага сделать, да и сознание уже не реагировала к его мыслям и действиям; он ахнул – это он вновь споткнулся, не так ногу, выходит, выставил вперед. После этого падения, он уже совсем перестал понимать: что это с ним происходит. И лежал он сейчас, на мягкой постилке серых прелых листьев, на правом боку, да и речка говорливая недалеко, приветливо журчала у порогов. Нет, он после этого падения, на этот раз, легко отделался. Без всяких там очередных новых ссадин и шишек. Подстилка, с палыми листьями, оказался, видимо, мягким. И он дышал – самое главное. И видно было, как грудь его, с толчками бьется сейчас с хрипотцой. Затем над ним, вновь прошелся, задевая его шумно с холодком, ветер, прибежавший снова с другого берега этой речки, куда он так рвался сейчас, выбиваясь из последних сил. Теперь он лежал, прислушиваясь к себе. И даже ему, кажется, он на какое – то время потерял ориентир. Вдруг он зашевелился. Пришел, выходит, в себя. Подобрал зачем – то колени к животу, или это у него получилось рефлекс, но, само собою, а затем, откуда – то у него только силы взялись, с выкриком вывернулся на спину. И видно было, как он к этому действию рад. Посветлело у него даже испачканное, падением лицо. И даже, вроде, улыбнулся, жмурясь, к этому крадущему следом за ним, уходящему солнцу, который, когда он продвигался от одного дерева к другому, следовал за ним, будто по пятам. Вскоре, наверное, легче чуть ему стало. Сделал попытку встать. Главное ему, это унять, наконец, эту боль в груди, и в других местах своего тела. Ну, хотя бы временно забыть их. Возможно, если он освежится сейчас с речной холодной водою, может ему и станет тогда чуть лучше и легче? А то, это уже невыносимо ему терпеть эту боль, пульсирующую в ране, да и в других местах тела. Да и возвращаться назад, чтобы подойти к берегу речки, это ему так не хочется. Но, а что ему делать? Ему не обойти эти орешники, кустами разросшиеся вдоль этого берега. Сквозь них, нельзя, а обойти их ему, все же надо, чтобы подойти к берегу и там найти себе, пусть и временно, отдых. Иначе он вновь свалится сейчас, где он стоит, как вкопанный, обняв рукою, за очередной ствол березы.