Unearthing – Copyright
© Kyo Maclear, 2023
Illustrations © 2023 Kyo Maclear
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2024
This edition published by arrangement with Westwood Creative Artists and Synopsis Literary Agency
* * *
В японской культуре времен года принято выделять двадцать четыре «малых сезона» – сэкки (節気). Я позаимствовала названия сэкки для заголовков разделов, чтобы предложить иной взгляд на вечно меняющуюся почву наших историй.
Тебе. Haha ni aiwo komete[1]
Не могу не сажать растения в землю.
Эта страсть гложет меня…
Ада Лимон. Sway
Но зачем вообще писать, если не затем, чтобы выкапывать что-то…[2]
Анни Эрно. Память девушки
пролог
Ма была садовником. Там, где она различала гаммы серовато-зеленых и оливковых тонов или переливы цветов изумруда и шалфея, я видела лишь неясные, мутноватые оттенки зеленого. Если кто-нибудь веривший в мои способности дарил мне растение, я, полная надежд, бралась за дело. Я с восторгом следила за тем, как решительно раскрываются бутоны и весело распускаются листики. Но очень скоро бодрая зелень увядала или скукоживалась. Мадагаскарский жасмин слабел из-за нехватки солнечного света или недостатка влаги и бессильно клонился к земле. Спатифиллум обвисал и погибал под гнетом ежедневной гиперопеки. Бедные мои растения… Несмотря на все мои труды и мамин пример (ей всё это давалось без труда), я была не в состоянии поддерживать в них жизнь.
Затем в моей жизни случился неожиданный поворот, и то, что я отвергла как не свое, а мамино, вдруг вышло на первый план. Ранней весной 2019 года анализ ДНК показал, что мужчина, которого я привыкла считать своим отцом, вовсе мне не родственник. Как выяснилось, воображаемая карта нашей семьи с отмеченными на ней именами и границами была неверна с самого начала моего жизненного пути. Моя седовласая мать внезапно стала мне чужой. Ей было что мне поведать – тайны полувековой давности. Тайны, объяснить которые на английском, неродном для нее языке, ей было трудно – или не хотелось.
Я хотела узнать историю своей матери. Хотела услышать повесть, которая помогла бы мне вновь выстроить мой мир. Но сколько я ни приставала, мама лишь отнекивалась.
На самом деле мама не любила истории. Относилась к ним настороженно. Те, что я читала и писала, всегда вызывали у нее подозрение. «Что ты делаешь?» – обычно спрашивала она. И в девяти случаях из десяти я отвечала: пишу. Или читаю. На оба ответа она реагировала взглядом. Ее взгляд вопрошал: какова цель твоих усилий? Ее взгляд справедливо утверждал: истории не едят, из книги обед не приготовишь. Изредка, если кто-нибудь обсуждал при ней мое творчество, она слабо улыбалась. Улыбкой жалости к собеседнику, который не знал, что на свете существуют куда более солидные, хорошие вещи, более надежные способы устроить свою жизнь. Однако взгляд говорил еще и: Не занимайся ерундой. Напиши что-нибудь стоящее, полезное… Напиши книгу о растениях.
В 2019 году все наши консенсусы и разногласия потеряли значение. Стало неважно, из-за чего мы всю жизнь ссорились. Мне надо было лучше узнать свою мать, а для этого требовался тот язык, который она знала лучше всего. С моим уровнем владения японским, полузабытым первым языком, я выбрала второй, который она никогда мне не навязывала, хотя сама говорила на нем свободно, – язык природы и растений.
Перед вами книга о растениях, составленная из почвы, семян, листвы и мульчи. В 2019 году, чтобы перекинуть мост над возникшей между нами пропастью, я вышла в садик, расположенный рядом с нашим домом, и обратилась к растениям, вплетенным мамой в мою жизнь. Сильно замусоренный сад весь зарос. Он принадлежал городу, банку, а по правде говоря, на протяжении тысячелетий и по сей день – индейцам мичи сааджиг анишинаабе. Я засучила рукава и принялась за работу, опутав пальцы розовато-серыми дождевыми червями.
Не то чтобы работа спорилась. Поначалу нет. Сад сразу дал мне понять, что я ничего не знаю о растениях. У меня было только мое собственное представление о них, а представление не вырастишь. Сад сообщил: Если тебе нужна от меня только метафора, ничего не получится. Сад предложил мне вспомнить детство, как здорово было вымазаться в грязи и усвоить первый урок: если хочешь всегда быть чистенькой, прилизанной и аккуратной, у тебя никогда ничего не вырастет.
Как только я перестала считать каждую травинку своим детищем и осознала, что не всё у меня под контролем (полная противоположность складу ума рассказчика), цветы пошли в рост. Как только я вспомнила, что второстепенные персонажи часто направляют и кардинально меняют весь замысел автора, я перестала себя недооценивать.
В сюжете появляется мама. Но как? Как она продвигается по страницам книги? Несет ли с собой сожаление, ярость, печаль и юмор? Входит ли, решительно отбрасывая все клише и сопротивляясь ограничениям? Требует ли платы? Выступает ли в роли садовника?
Я старалась больше узнать о страстном увлечении моей матери растениями, чтобы проникнуться заполнявшими ее душу событиями и ландшафтами, заново переосмыслить всё то, что мне не удалось заметить и полюбить в полной мере, – ускользнувшие от моего внимания растения, размытый «задник» жизни.
Я единственная хранительница семейных преданий.
«Каких еще преданий? Почему преданий?» – спрашивает мама.
январь – март 2019
1. дайкан
(большие холода)
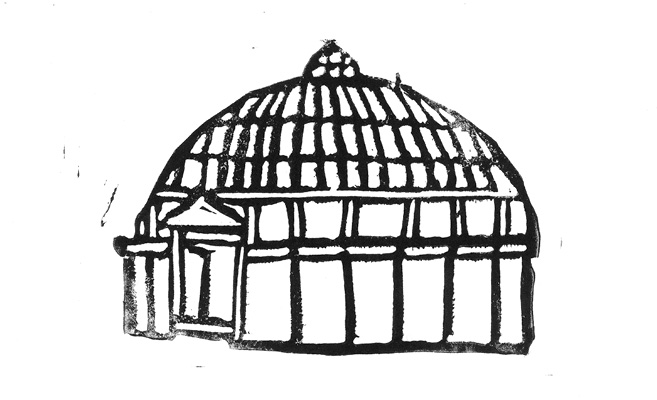
начало
Когда папа умер, а я во всех смыслах и без всяких сомнений все еще была его дочерью, я начала раз в неделю ездить в городскую оранжерею. Семь раз, по понедельникам, я отправлялась на городском трамвае греться в застекленном здании, где обитало множество растений. Никто не предупредил меня, что тяжелые и горькие потери могут вылиться в самые заурядные неприятности вроде климатического дискомфорта. В книжках я такого не видела, поэтому оказалась не готова к тому, что поток ледяного холода расползется по всем моим венам и по всему телу. Я не знала, что моим траурным одеянием станут лыжные перчатки и флисовая куртка.
Семь понедельников я просидела под сверкающим куполом, под листьями размером с крыло самолета. Я нежилась в лучах зимнего солнца, хоронилась под перистыми ветвями пальм и саговника. Пока я погружалась в себя, вокруг распускалась во всей красе ажурная листва и лианы проникали мне в душу, связывая мое горе. Лепестки и листики шелестели в такт моим мыслям – тихо, тихо.
Семь раз после папиной смерти, по понедельникам, я приходила в этот стеклянный храм, чтобы побыть рядом с растениями и ощутить их насыщенную испарину. Теперь с некоторым удивлением и даже грустью я понимаю, что люди, особенно «неверующие» и не соблюдающие традиционные ритуалы, скорбят в самых неожиданных и даже странных местах. Все мы примерно представляем себе, что бывает, когда умирают наши близкие, однако наши представления зачастую оказываются неверными – по меньшей мере неполными, – ибо каждый скорбит по-своему, а следовательно, по-своему переживает утрату.
* * *
Когда папа умер, а я во всех рассказанных им и мною историях всё еще была его дочерью, мне пришлось заняться организацией похорон. Он вернулся ко мне через неделю после смерти, на Рождество, в пурпурном бархатном мешочке. Похоронное бюро отправило прах прямо на кладбище, и он ожидал нас у стойки администрации, в мешочке, настолько напоминающем чехол Crown Royal для игры «Подземелья и драконы», что я бы не удивилась, услышав внутри стук игральных костей. «Посмотрите, пожалуйста», – сказала Мария, наша распорядительница, предлагая мне проверить имя на урне, находившейся в мешке. Да, это мой отец, кивнула я, глаза мои наполнились слезами, и зал с черными стульями, а также сидевшие на них сыновья утратили четкие очертания.
Я услыхала, как в углу зала мама сказала господину, который принес ей кофе: «На этой неделе я потеряла всё. Мужа и карточку с бонусными авиамилями».
Следуя воле отца, хотевшего скромных похорон в кругу семьи, мы проводили его без посторонних. В конце короткой импровизированной церемонии мой муж исполнил песню. Когда мы только поженились, он готовился стать профессиональным кантором, но ему сказали, что он не сможет продолжать учебу, если его жена, нееврейка, не примет иудаизм. Теперь, когда мы стояли прижавшись друг к другу, необычная красота его голоса вьющейся лентой, божественным блюзом плыла в холодном воздухе. «Ты сделала правильный выбор», – шепнул мне младший сын, слегка толкнув меня локтем и кивая на отца.
Засыпать могилу очень тяжело. Лишь большим усилием нам едва удавалось сдвинуть с места подмерзшую кучу земли. Не беспокойтесь, сказала Мария, мы всё сделаем. Однако физический труд успокаивает, поэтому мы упорно долбили и переворачивали земляные комья. Мы по очереди втыкали лопату, несколько раз прыгали на ней, стараясь вонзить ее поглубже, отчего воздух наполнялся редкими звуками тупых ударов. Мария снова попросила нас не беспокоиться. Она указала нам на рабочего, сидевшего неподалеку в маленьком экскаваторе, – только сейчас я заметила человека в меховой шапке-ушанке и зеркальных очках, который слегка помахал нам рукой в знак приветствия. Бух, бух, бух. Заледеневший клин обвалился. Мои сыновья кряхтели и копали, не желая сдаваться, но было в этом и нечто жизнеутверждающее – они укладывали в землю дедушку и хоронили мамино горе.
Уходя с промороженной кладбищенской поляны, я слышала позади тихий стук маминой трости. «Несколько лет назад я попала под машину и покалечила ногу, – объясняла она Марии. – Я могла погибнуть! Однако я жива!» Под нашими ногами раскинулся целый город людского праха. «Я жива», – повторила мама, на сей раз с широким взмахом руки, будто хотела сказать: я-то уж точно не из этих. И Мария, помолчав долю секунды, ответила: «Прекрасно».
* * *
Попроще, сказал отец, когда адвокат спросил, какую погребальную церемонию он предпочел бы. Он выбрал обряд в скромном крематории в присутствии ТОЛЬКО членов моей семьи и, возможно, братьев… чтобы мой прах хоть на миг вспыхнул над домом моих любимых людей.
* * *
Отец был великолепным рассказчиком, а теперь сказать было нечего. По пути домой казалось, что в машине пусто и тихо, хотя мы все сидели на своих местах.
Когда кто-то уходит, рушится старый порядок. Вот почему мы говорили друг с другом очень деликатно. Наша семья меняла свой вид, мы находились на полпути к перестройке. Что есть горе, как не упорный акт переделки себя? В чем его трудность, как не в насильственной необходимости сформироваться заново?
* * *
В те зимние недели и месяцы, когда я стала каждый понедельник ходить в оранжерею, мне нужно было что-нибудь укорененное, растущее, развивающееся. Холмики мха, листва с налетом тумана, влажная лоза. Мне нужны были листья всех разновидностей: тонкие вайи, пористые канаты, широкие полосы, закрученные петлями шнуры, огромные лопасти, серпантин разметавшегося, как моя душа, плюща.
Я скучала по отцовскому обаянию и ироничным шуткам. Сколько себя помню, моим любимым занятием было сидеть рядом с ним и вести долгие беседы о жизни и политике. Если бы меня спросили, зачем я прячусь под стеклянным колпаком, я бы, наверное, ответила, что жду.
В последние месяцы отцу пришлось очень тяжко, и когда закончилась медицинская суматоха завершающих недель, в течение которых его тело спешило умереть, я с облегчением укрыла папу в моем сердце, где ему ничто не грозило, однако по-прежнему прикидывала, когда же мы снова сможем поболтать. Я не могла смириться с необратимостью событий, не могла поверить, что ничего нового и непредвиденного уже не может произойти. Мы повидаемся на моем дне рождения, думала я в ожидании следующего раза. Для меня всё еще только начиналось.
Как-то утром в павильоне кактусов я изучала отростки одного шипастого стебля и размышляла о способности к адаптации, воображая себя в самой засушливой пустыне мира, еще более сухой, чем Долина Смерти с ее опунциями и рыскающими койотами. Вся жизнь кактусов – это оборона от насекомых, хищников, стихий; именно поэтому на них столько шрамов и морщин. Они многое повидали на своем веку.
Из помещения для пересадки растений вышел человек в синей спецовке, с полным поддоном горшков, из которых, словно свечки на именинном пироге, торчали толстые прямые листья.
Крестовник ползучий, – сказал он.
Откуда ты родом, крестовник ползучий? – подумала я.
Из Южной Африки, – ответил работник, читая мои мысли.
* * *
Какие невероятные путешествия по морям и океанам, по заселенным землям, претерпев резкие перемены климата и рельефа, совершили эти оторванные от предков и привычной среды растения, чтобы попасть в живой музей, в растительный зоопарк, изобилующий ухоженными «экзотическими видами»? Чего они лишились?
Однажды вечером я принялась читать старые статьи Джамайки Кинкейд о садоводстве. Откровенно восхищаясь богатой историей растений, Кинкейд писала о том, как преобразились сады в 1492 году, когда Колумб пустился в плавание из Испании. Она проследила захватывающие истории безжалостных пересадок и радикально измененных ландшафтов, грандиозных мечтаний очарованных туземной флорой землевладельцев, грабежа во имя порядка и классификации.
Но вместе с тем, утверждала она, колониальный процесс не закончен и не односторонен. Возможно, по этой причине я встречала в оранжерее посетителей со всего мира, и у каждого была своя переселенческая история. Цветы, порой в очень странных сочетаниях, распускались и закрывались не тогда, когда положено; оранжевые кливии и гибискус явно выбивались из сезонного графика. И тем не менее люди проводили время в этом буйстве красок, чтобы вдохнуть знакомые ароматы и хоть недолго побыть рядом с теми, кто также очутился вдали от домашнего сада. В глубине венчика цветка «с родины» таится не только водоворот горьких потерь, но и большая, вдохновляющая радость.
К своему удивлению, я полюбила оранжереи вообще и особенно эту. Полюбила растения и людей, которые собирались в этом волшебном, хрупком и не слишком популярном уголке моего города.
* * *
Бывали понедельники, когда я буквально повсюду вдруг ощущала присутствие отца – человека, которого мне больше всего хотелось бы видеть на земле. Он являлся в моей неистовой тоске по нему, в сильном аромате растений. Мне сразу становилось легко. Я чувствовала прилив сил.
* * *
После павильона кактусов моим любимым в оранжерее стал павильон пальм с соборным куполом. Я ходила туда подслушивать чужие разговоры – и, как выяснилось, не я одна тайком, бесшумно тащу за собой тени прошлого, привожу их туда, где их легко опознать. По окнам, запотевшим от дыхания призраков, стекали струйки. Мы находились в перевернутом стеклянном сосуде, который называется оранжереей, словно в нежном пузыре росы. Наверное, так чувствуют себя обитатели террариумов, думала я.
В один из понедельников я заметила на скамейке одинокую даму с длинными распущенными волосами; рядом с ней лежал футляр для гитары. Что-то в ней было от французских шансонье. Одетая в палево-розовую шубу, она смотрела вверх на стеклянный свод и тихо плакала. Возможно, она с кем-то рассталась, и я предположила, что этот кто-то умер, поскольку примерно тогда же, когда скончался мой папа, случилось еще много смертей. Как выразился мой дядя Р., распахнулись врата между мирами живых и мертвых. Проход свободный.
В эти врата ушли Йонас Мекас, Диана Атилл, папин друг Джо, Томи Унгерер, мама Энн, папа Кэти, Дебора Бёрд Роуз, Джон Бернингем, папа Бренды, Андреа Леви, Мэри Оливер. Я представила себе некое торжественное собрание. Живые, они могли быть фигурами разного масштаба, но мертвые члены этой горестной когорты сравнялись по тяжести потери для своих близких.
В павильоне пальм я смотрела на даму, которая уже перестала плакать, прижалась щекой и носом к запотевшему стеклу, оставив на нем мокрый след, и ушла.
Сотрудница оранжереи, азиатка шестидесяти с лишним лет, что-то напевая себе под нос, рассадила под платаном с винтообразным стволом маленькие ростки и полила темные лунки из шланга. В эту минуту в моей памяти всплыл один эпизод: мама, вскоре после того, как они с отцом разошлись, прячется в своем последнем саду. Я вижу ее, присевшую на колени, в окружении небрежно раскинувшихся папоротников и безупречно прямого хвоща, вижу ее руки, занятые делом. Красивые, но огрубевшие от работы с совком и граблями. Вижу, как она перетаскивает навоз, закапывает, выкапывает, без устали что-то сажает. Грязные руки и неподдельное счастье.
По понедельникам часто шел снег. В маленьком зеленом мирке освещение постоянно менялось. Проникающие сквозь окна оранжереи солнечные лучи тускло светились, будто неоновые вывески аптек. Но меня это тусклое солнце всё равно наполняло.
Иногда, когда я сидела в оранжерее, мама слала мне внушительного объема тексты на японском. «Почему ты не говоришь на языке своей матери?» – писала она в ответ на мои вопросительные знаки.
* * *
Дома сыновья встречали меня словами «привет, мам», обнимали и переключались на еду, игры или заваливались на диван. Время от времени я слышала их озабоченное перешептывание: не стоит ли подождать немножко, пока мама не перестанет ронять слезы в салат.
Старший сын с видом верховного жреца вручил мне пачку жевательной резинки. Младший зажег лампаду перед нашим буддийским алтарем, трижды прикоснулся к поющей чаше, издавшей торжественный звон, и вознес долгую, сосредоточенную молитву. Однажды в понедельник, уже уходя в оранжерею, я посмотрела на его спину (он опустился на колени, отрешившись от внешнего мира), на его полную погруженность в молитву – и по моему телу прокатилась теплая волна.
Это был мой последний понедельник в оранжерее. Семь недель я ездила туда, чтобы отметить папин переход из одного мира в другой. Я глядела на небеса изо всех окон.
Во многих буддийских практиках семь недель, или сорок девять дней, – традиционный период траура. На сорок девятый день дух достигает места назначения, и можно переключиться на мир живых. Пора разбить стеклянный колпак и выйти из замкнутого зеленого мирка на волю. Я покажу сыновьям, что воспользоваться чьей-то поддержкой и не прятать в себе тоску, съедающую тебя изнутри, – это нормально.
Пора было отпустить отца, запертого в моей душе, – его духу пора было вознестись на небо.
проклятие
Когда отец покинул эту планету, а я оставалась его дочерью на Земле, к нам приехал из Англии его брат, намного моложе него. Он привез кое-какие новости. На нашей семье лежит проклятие любви, поведал мне дядя Р. Как он сказал, проклятие действует уже шесть поколений. Дяде это сообщила Анита, швейцарский медиум. Если верить Аните, шесть поколений назад один из наших предков сбросил свою жену с утеса. Отсюда духовные проблемы у нас, его потомков. Мы несем бремя его злодеяния, поэтому наш удел – супружеские измены, несчастливые браки, хлопоты с нездоровыми пристрастиями и необходимость терпеть равнодушие близких. Нам всегда будет трудно выражать свои чувства, а наши романы всегда будут нервными и сложными. Следовательно, мы способны любить и быть любимыми лишь ненадолго или на безопасном расстоянии. Умирать, по всей вероятности, нам придется в одиночестве. Проклятие, обрушившееся на головы моего любвеобильного деда и склонного к случайным связям, неугомонного холостяка дядюшку Р., по-видимому, нашло свою нишу еще и у католического священника, которому исповедовался убийца, но на сей раз потомков не осталось.
Дядя прилетел в Торонто на папины поминки. За несколько дней до его приезда из-за рекордных морозов наш котел вышел из строя, отчего лопнули трубы, и пока ремонтники вскрывали стены, мы все сгрудились вокруг переносного обогревателя на пахнувшей рекой кухне. В свете вопросов о жизни и смерти арктический холод в нашем доме казался мелкой неприятностью, но, возможно, я так сильно мерзла именно из-за этих проблем. Я знала, что мой дядя относится к тем, кто верит в призраков, населяющих офисный подвал и оказывающих влияние на работу. Поэтому я ожидала, что он предложит план освобождения от проклятия, пока мы все дрожали от холода. По меткому и грустному выражению Марлона Джеймса, я вступила в «погребальные годы», и, по-моему, неплохо было бы похоронить по всем правилам всё лишнее, что скопилось во мне и моей семье, все повторяющиеся схемы и конфигурации, все травмы и наследие, предшествовавшие моему рождению и с недавних пор включающие генеалогическую тень, которую я, быть может, невольно таскала за собой. Однако дядя расправил у меня на плечах шерстяной плед и перевел разговор на другую тему.
Больше о проклятии не вспоминали. Через несколько дней мой мистически ориентированный дядюшка вернулся в Сассекс, первые ласточки прилетели на южное побережье Британии на месяц раньше, чем обычно, и воздух наполнился ароматами преждевременно распустившихся цветов, подрывая сохранившуюся еще кое у кого веру в предсказуемость смены времен года.
Дело в том, что с каждым годом меня всё больше тревожил вопрос, почему художники и писатели в моем роду так ужасно одиноки и вынуждены полагаться только на себя. Мне не нравится семейная традиция умирать в одиночестве. Где все эти любящие сердца, стареющие вместе, где спутники жизни, которые рука об руку удаляются в уютные сумерки?
Возможность передачи травмы от поколения к поколению представляется столь же вероятной, как и наследование походки и речевых особенностей. Но, на мой взгляд, проклятие любви, о котором говорил мой дядя, меня не касалось. Скорее это кажется проклятием белых мужчин – принадлежностью к этому слою некоторые члены британской части моей семьи были обязаны своей холодной отстраненностью. Я подозревала, что корни моих собственных преград, моего стремления держать дистанцию с другими людьми и в критические периоды застывать, замыкаться в себе кроются где-то еще. Где – я не знала. Не знала, что за карма всю жизнь заставляла меня в важные моменты пугаться до такой степени, что я не защищалась. Я понимала только, что мои духовные метания никак не связаны с этим кошмаром – с женщиной, которую столкнули с утеса в викторианской Англии.

