К моим читателям

Мои дорогие юные друзья, свои воспоминания я пишу для вас, для которых я работала всю жизнь. Для вашего старого друга наступила такая пора, когда хочется оглянуться назад, вспомнить прошлое, подвести итоги пережитого. Мне кажется, что самое интересное – это жизнь человека, лишь бы суметь правдиво осветить ее. Воспоминание целой жизни – это открытая книга, в которой многому можно поучиться.
Первая часть моих воспоминаний посвящена самому раннему детству – это самое трудное для воспроизведения. Конечно, многое я помню ясно и живо, но большинство сцен и разговоров я воспроизводила по рассказам родных и близких. Многое из прошлого рассказывали тетушки и мама; долгие годы жили у меня старые прислуги, для которых бывало огромным удовольствием вспоминать со мною прошлое. Как живые, вставали передо мною дорогие лица, вспоминались целые картины, слышались речи…
Мое милое прошлое оживало и казалось мне полным интереса не для меня одной.
Может быть, за мои воспоминания меня упрекнут в сентиментальности, как часто упрекали за мою долгую писательскую жизнь… Но если сентиментальностью назвать то, что я щадила детское воображение от жестоких, тяжелых картин, то я делала это сознательно. Я изображала правду жизни, но брала большею частью хорошее, чистое, светлое: оно действует на юных читателей успокоительно, отрадно, примиряюще.
Как и всякий человек, проживший долгую жизнь, я пережила много горя, страданий, потерь, но они не сломили бодрости духа: я люблю людей и радуюсь жизни. С моими дорогими друзьями я хочу поделиться впечатлениями, как среди бедности, невзгод и борьбы может создаться в человеке жизнерадостность и душевная бодрость и почему жизнь, с ее горем, страданиями и болезнями, все-таки привлекательна и полна могучего призыва к счастью.
Может быть, в этих простых повествованиях мои читатели найдут отклики на запросы ума и сердца, задумаются над долгом и обязанностями человека… Если просто моя книга доставит им минуты развлечения, если мои искренние слова вдохнут в какую-либо отзывчивую душу бодрость, желание радости жить и быть полезным другим людям, я буду еще счастливее и скажу с гордостью, что недаром жила и работала.
Клавдия Лукашевич
I. Наше счастье
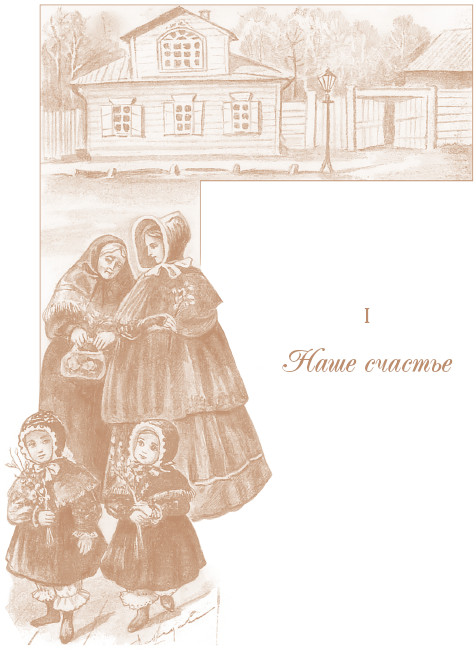
Воспоминания моего раннего детства рисуют мне картины какого-то необыкновенного светлого, радостного счастья. Счастье это обитало с нами в маленьком деревянном домике, где, жили мы – две девочки с родителями и старушкой няней, и в другом таком же домике где жили бабушка и дедушка.
В обоих домиках было очень просто, скромно и даже бедно, но зато там было нечто другое… И в детстве мы часто слышали там чудесное слово: «счастье»…
Что это такое? Где оно? С кем? В чем оно заключается? Все люди ищут, желают, добиваются счастья… Кто же счастлив? И что дает это желанное счастье?
Наше счастье было, наверно, не такое, какого желают многие… Оно было очень маленькое, скромное, тихое… Но оно делало наше бедное жилище прекраснее золоченых палат, придавало скромному платью вид царского одеяния; простая булка казалась нам часто вкуснее сладкого пирога, а задушевная песня доставляла минуты искреннего веселья.
Дорогое наше маленькое лучезарное счастье, ты – лучший дар на земле; тебе поклоняюсь я, благословляю тебя. Ты вдохнуло в наши души любовь и жажду к жизни, довольство своей скромной судьбой. Ты научило нас любить Бога, людей, природу, труд. И я всю жизнь воздаю хвалу тебе. Я бы желала удержать тебя своими стареющими руками и молить тебя: войди в каждую жизнь на земле, дай детству сладкие грезы, дай юности жажду и радость жизни, дай молодости бодрость и веру, а старости – утешение незаменимых воспоминаний о тебе, пережитом незабвенном счастье.
Я расскажу вам свою жизнь без прикрас, только одну правду… Судите же сами – могу ли я не считать себя счастливой?!
* * *
Как путнику среди необозримой пустыни радостным, дивным отдохновением является оазис, как мореплавателю прекрасной, заманчивой грезой мелькнет иногда мираж, так и для нас, детей, среди тихой, однообразной, трудовой жизни чем-то большим, светлым, неожиданно радостным являлись праздники Пасхи и Рождества… В моих воспоминаниях детства эти великие праздники выступают яркими, огромными светлыми картинами. Для детского воображения они были полны таинственной радости, верилось в возможность чудес.
И теперь, в годы старости, мое благодарное сердце переполняется горячей признательностью к моим милым родным, к няне, которые среди забот, труда и нужды оберегали и охраняли наше детство от тяжелой житейской прозы и заботами и любовью создали нам среди жизненной пустыни светлый островок счастья…
* * *
Я вспоминаю далекий-далекий вечер Вербной субботы.
Старушка няня, крестясь, затеплила перед иконами лампады. Она всегда это делала сама и никому не доверяла. Все христианские обряды, все праздники были для нее такой святыней, как для подвижницы.
Передо мной, как живой, встает светлый, прекрасный образ старушки-няни. Это наш добрый гений, наш друг, наш ангел-хранитель. Кроткая, ласковая, любящая всех, всем желающая добра, она была истинная христианка, благороднейшее существо. Я вижу няню неустанно трудящуюся, с вечной молитвой на устах, крестящуюся при всех случаях жизни с чистой верою в добрых старческих глазах.
Мне шесть лет… Сестре Лиде пять… Няня надела нам темные платья и белые фартучки. Я помню, в детстве мы ходили в особенных платьях: очень коротких и пышных, а из-под них выглядывали длинные-предлинные, до самых ступней, панталоны с оборками и кружевами…
Няня надевает мне фартук, а я смотрю-смотрю, не отрывая глаз от ее милого, дорогого и любимого лица; я не могу насмотреться на нее и не могу вдоволь налюбоваться. Нянечка моя очень старая, вся в морщинах; глаза у нее голубые, ясные, как у ребенка, волосы совсем седые, даже белые, лицо свежее, румяное и добрая-добрая улыбка, которая лучше всего выражала ее хрустальную душу.
В порыве горячей любви я охватываю няню за шею и начинаю беспрерывно целовать ее, приговаривая: «Ты моя любимушка, моя золотая, брильянтовая, моя красавица, моя самая лучшая на свете»…
Толстушка сестра Лида недружелюбно смотрит на нас и спокойным тоном говорит:
–И моя няня… Я тоже люблю няню…
– Твоя вот сколько, – показываю я на четверть мизинчика…
– Нет, – возражает сестренка… – Моя няня больше…
– А моя вот, вот… – И я стараюсь растянуть руки насколько возможно шире. – Моя няня еще больше, больше, – до потолка…
Но я все еще не довольна величиной, которую придумала, и, наконец, решительно объявляю:
– Моя няня до самого неба… Сестра насупилась и хочет захныкать.
– Ах, полно тебе, Беляночка, дразнить маленькую сестру. Опять перессоритесь… Помиритесь скорее… Ведь вы в церковь, к Богу идете… Грешно в ссоре да во вражде.
И я крепко, с полным раскаянием целую Лиду. А на ухо шепчу своей старушке:
– Нянечка, все-таки ты моя немножко больше?
–И твоя, мое золотце, и Лидинькина, – отвечает няня.
Няня называет меня «Беляночка» за мои белые, как лен, волосы… Иногда она называет «золотце», иногда «мое сокровище», «пташка» или «ласточка»…
Сестра Лида уже больше не спорит: она знает, что няня, действительно, больше моя, чем ее. Няня не расставалась со мной с самого моего рождения, выкормила меня из бутылочки, а сестру кормила мама. Мы с моей старушкой буквально не разлучались ни на минуту и нежно любим друг друга. Все знают, что я «нянина слабость», ее «последнее утешение в жизни», как она сама иногда говорит.
Перед всеми церковными праздниками наша нянюшка настроена особенно торжественно и свято, и лицо у нее серьезное, сосредоточенное.
– Нянечка, сегодня все со свечами и с вербочками будут стоять в церкви?
– Да, Беляночка… Какой праздник настает великий! Как благостно на душе!.. Слава Богу, дожили мы в добром здоровье и до радостных дней.
– Нянечка, мы и огонь святой принесем из церкви?
Я хочу еще расспросить старушку обо всем, что меня волнует. Но в эту минуту в соседней комнате раздается сильный, звонкий голос:
Люди добрые, внемлите
Печали сердца моего,
Мою скорбь вы все поймите,
Грустно жить мне без него…
Няня испуганно вскидывает глаза на образ в углу и порывисто крестится.
– Господи, прости! – шепчет она. – Господи, какое искушение! Вот-то грех!
Она поспешно открывает дверь в соседнюю комнату и строго, укоризненно говорит:
– Что это ты, Клавденька, запела? В такой-то день?! И не грешно, не совестно тебе?! Ведь сейчас всенощная начнется… Разве можно теперь песни петь?!
– Прости, нянюшка, забыла! – ответил звонкий голос мамы.
– То-то, забыла, забыла… Разве можно это забывать?! Ты ведь теперь не барышня, а мать семейства и должна детям пример хороший показывать.
– Ладно, ладно, нянюшка… Прости, не волнуйся! – крикнула громко мама.
Мама во всем слушалась няню и, как говорила бабушка, даже побаивалась ее.
Няня была крепостная родителей дедушки, вынянчила дедушку, мою маму и последнюю меня. Няня была наш общий друг, любимый член семьи, которого все уважали и почитали…
Мама опять в соседней комнате что-то затягивает и вдруг неожиданно обрывает… Она со смехом выбегает из соседней комнаты и бросается няне на шею:
– Прости, моя старушечка! Не сердись, не волнуйся! Я все забываю… Прости твою «вольницу»!
Но няня строга и молчалива. Мама наша весёлая и молодая. Ее большие красивые серо-зеленые глаза всегда горели задорным огоньком, очень полные румяные губы смеялись; движения были порывисты и быстры. Она всегда что-нибудь напевала и всюду вносила веселье, оживление, радость. Черные волосы мамы разобраны посредине ровным пробором и заплетены в длинные косы. По тогдашней моде косы уложены по бокам головы затейливыми завитушками. На ней надето платье с мягкими складками вокруг талии, а на плечах накинута черная бархатная пелерина с бахромой.
В руках у нее почти всегда какая-нибудь книжка. Из-за этих книг немало воюет с нею няня.
Как только входит к нам в комнату мама, сразу становится веселее. Мы знаем, что если бы сегодня не «такой день», мама бы стала громко петь песни, шалить, возиться с нами и даже плясать. Но сегодня она старается быть серьезной и заискивающе говорит нашей старушке:
– Нянюшка, вы идите ко всенощной, а я подожду Володю. Тут все приберу, приготовлю вам чай и буду дожидаться…
– Как, а ты разве не хочешь идти сегодня ко всенощной? – испуганно и строго спрашивает няня.
– Придет Володя… Надо его покормить… Пожалуй, и поздно будет… – как бы оправдывается и извиняется мама.
Но няню этими доводами не убедишь. Она не соглашается на предложение мамы и стоит на своем:
– Нет, нет… Как это можно: в такой день не помолиться Богу?! Отлыниваешь ты нынче, сударыня, от молитвы… Не хорошо это, Клавденька!
– Ну уж не начинай воркотни… Пожалуйста, не начинай! – недовольным тоном говорит мама.
– Я не ворчу, а говорю правду. Была ты прежде богобоязненная девица… Оттого и жениха себе хорошего вымолила. А теперь эти книги тебя с ума свели… Долго ли до греха?
– Пожалуйста, не ворчи, не ворчи… Я так этого не люблю, – возражает мама.
Няня никак не может успокоиться.
– Барин пообедает сам. Все ему приготовлено. Вернемся мы – я уберу… Как это можно в Вербную субботу не пойти ко всенощной?!
– Я пойду, пойду, пойду! Не ворчи! – соглашается мама.
Мы слышим, как звякнуло кольцо калитки. По двору, по деревянным мосткам, раздаются быстрые шаги, еще торопливее – по лестнице, по крыльцу…
– Володя идет! – весело говорит мама и бежит открыть дверь. Папа сияет от счастья и радости. Его родное гнездышко для него дороже всего, милее всего на свете.
Из моего милого прошлого мне вспоминается тридцатилетний высокий белокурый мужчина с кротким лицом, с тихим голосом. Папа был молчалив, мягок и необыкновенно стеснителен. При малейшем волнении голос его начинал дрожать. В то время он не курил, не пил никакого вина и вследствие этого пользовался особенной симпатией бабушки и няни.
– Вот-то послал Бог мужа Клавденьке… Непьющий, некурящий, сокровище, а не человек… Такое ей счастье! – говаривала няня.
– Да, – поддакивала бабушка. – Клавденьке судьба вышла редкая. Сама-то она буйная головушка… Надо бы ей мужа потверже. А Владимир Васильевич очень уж добр.
Папа кончил университет по камеральному[1] факультету, но из-за своей скромности и застенчивости никогда не мог выдвинуться ни на каком поприще. Он только и умел, что любить нас, свой дом, заботиться о нас, горячо любить нашу веселую, избалованную маму. Он и нас научил тому же, и мы смотрели на маму как на какое-то высшее существо.
Приходя со службы, папа нежно обнимал маму и целовал ей руку.
– Ну, что поделывала ты без меня, моя драгоценная женушка? – спрашивал папа.
И никогда мы не видывали облачка неудовольствия на его лице, не слыхали, чтоб он сказал ей грубое слово, укорил в чем-нибудь…
Мама была такая бурная, вспыльчивая; бывало, рассердится, а папа ее уговаривает и все прощает, все делает, как она захочет…
– Тих наш барин, что голубь… Надо бы с Клавденькой когда и построже поговорить… Она была у нас вольница, своенравная барышня. Владимир Васильевич ангельского характера, – восхищалась няня своим любимым барином.
Мы жили тогда на Петербургской стороне, в Зелениной улице. У нас была квартира из трех крошечных комнат, в маленьком деревянном доме. На верхнем этаже этого дома жили другие жильцы, какой-то отставной военный с женой. На дворе стоял еще крошечный домик-флигель, где помещался сапожник со своей убогой мастерской, и в крошечной лачужке – дворник. Вокруг дома был густой тенистый сад. Теперь таких домов нет почти нигде в Петербурге, а в то время, лет пятьдесят тому назад, было очень много. Окраины Петербурга: Петербургская сторона, Васильевский Остров – представляли из себя не что иное, как большие села с целыми линиями деревянных домов; улицы большей частью были немощеные, заросшие травой, и в дождь и слякоть представлявшие собою непролазную грязь. По краям улиц шли деревянные мостки, были насажены аллеи деревьев; на некоторых улицах такие мостки красовались посредине…
По вечерам на улицах всюду горели тусклые керосиновые фонари, а кое-где даже масляные. По каменной мостовой дребезжали дрожки[2] извозчиков с узкими, высокими сиденьями, двигались огромные общественные кареты, их едва тащили три или четыре несчастные изможденные клячи. На окраинах Петербурга жизнь была совсем простая, бесхитростная, патриархальная. Много в ней было хорошего, было, конечно, и дурное.




