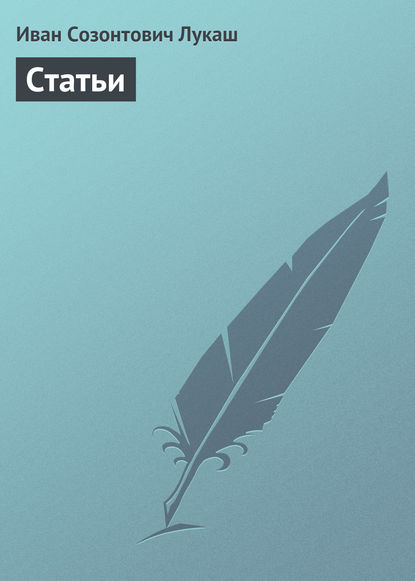Князь Пожарский
I
В Смутных временах московских и в его фигурах часто ищем мы соответствия с нашими временами.
Князь Дмитрий Михайлович Пожарский, освободитель Москвы, – одна из основных фигур победы над Смутой. Но фигура недостаточно ясная. Мы знаем, как он с Мининым, с нижегородским ополчением освободил Москву. Но мы мало знаем, как создавалась, складывалась натура князя Дмитрия Михайловича в самом мареве Смуты.
А именно в том, как складывались русские души в Смуте, можно, пожалуй, искать соответствия с нашими временами. Забелин определяет людей в Смуте кратко: прямые и кривые.
Как мы все, почти поголовно вся Россия, повинны в духовном попустительстве и в увлечении «мартовской прелестью», переворотом 1917 года, так поголовно повинна вся Московская Русь в «прелести Дмитриевой», в признании царем Лжедмитрия. Тогда не прельстился один только не любимый современниками и оболганный историками князь Василий Шуйский. Именно князь Василий начал выпрямлять русские души в Смуте, кривых превращать в прямых, и, можно сказать, не будь Шуйского, не создалось бы и Пожарского.
Вся жизнь князя Пожарского прошла в Смутные времена. Ко времени второго московского ополчения князю Дмитрию было уже под сорок.
Он был, по дельному исследованию Корсаковой, сыном князя Михаилы Пожарского, по прозвищу Глухого, и Марии Беклемишевой, позже инокини Евдокии. Опала Ивана Грозного подсекла его род. Деда Пожарского за то сослали в Казань вскоре же после ее взятия. Князья Пожарские так и остались там «нанизу». Захудали.
Князь Дмитрий родился в лесной вотчине Пожарских, деревеньке Три Дворища, на реке Лухе. Еще отроком, в 1581 году, князь отказал родовую деревеньку в Суздальский Ефимом монастырь.
В 1598 году, через десять лет, молодой князь Дмитрий – князюшко захудалый, ветром подбитый – пришел искать доли и счастья к Московскому двору. У двора он стал стряпчим.
Тогда-то он был и на соборе всея Русской земли, избиравшем на царство Московское царя Бориса Федоровича.
Князь Пожарский стал ближним боярином Бориса. Правда, в первый же год, не из-за князя, как кажется, а из каких-то теремных, бабьих дел его матери, царь Борис отдалил было от себя молодого князя, но с 1602 года князь Дмитрий и его мать приближены к Борисову верху снова.
Мать князя Пожарского стала верховой боярыней несчастнейшей из царевен, царевны Ксении Борисовны, а князь Дмитрий пожалован в стольники.
Деревенский захудалый князь, отчасти напоминающий сельских английских джентльменов времен Кромвеля, начал свою скромную службу при царе Борисе. Князь сам вспоминает о Борисовых временах, что тогда к нему «милость царская воссияла»…
Но вот блеснула, вот пала на Русскую землю ослепительная молния – царевич Дмитрий. Сияющее видение, от которого Русь исступилась в светлом сумасшествии. Внезапный, чудесный царевич явился как грозный ангел Божий, карающий злодея Бориса.
И поголовно вся Московская земля, кроме Василия Шуйского, знающего о смерти царевича Дмитрия все, поверила, что на Москву идет истинный, законный государь.
Поверил и молодой князь Пожарский. Больше того, весной 1606 года он был на Москве, при дворе Лжедмитрия, наверху, дворецким. Князь Пожарский стал одним из ближних молодых бояр Лжедмитрия. Князь Пожарский был у его стола за обедом в честь Марины Мнишек. Князь Пожарский был на свадьбе Лжедмитрия с Мариной, а «за ествой» сидел на почетном месте у прльских послов…
Непростительная вина Карамзина, исказившего всю эту русскую эпоху в сентиментально-дешевую мелодраму, исказившего и фигуру Василия Шуйского, – непростительная хотя бы потому, что Карамзину поверил Пушкин.
Но именно несчастный царь Василий Шуйский, не овладевший пожаром Смуты, когда все кругом измалодушествовались, покривились, не остановивший шатания царства и оболганный позже русской историей и русским художеством, был, тем не менее, первым из всех московских людей, кто открыл Москве, что Лжедмитрий не царевич. Шуйский первый поднял восстание против Лжедмитрия и поляков. Шуйский первый бросил Лжедмитрию: «Ты не царь, ты вор».
И за то пошел на плаху, пошел твердо и гордо, как истинный потомок благоверного князя Владимира.
Лжедмитрий помиловал его с плахи, милостью думал купить княжеское молчание. Но Шуйский, возвращенный из ссылки, снова поднял заговор на Москве против Лжедмитрия.
Шуйский сорвал с польского свистуна царские одежды, в которые тот обрядился. Может быть, именно за то московские люди и не любили Шуйского, что холодным ударом он рассек мороку, замысел сказки о спасенном царевиче: людям хотелось верить сказке.
Шуйский сверг Лжедмитрия. Именно Василий Шуйский начал отстаивать, собирать в Смуте русские души от воровства к царю и закону, всем открыл глаза: или прямить за истинного, законного московского царя, или кривить за ворами и прелестными воровскими вымыслами.
Царю Шуйскому не удалось выпрямить русскую землю. И разве это не символ, не героическая фигура, царь-пленник Василий, умерший в плену у поляков…
Одно удалось царю Шуйскому: начать прямить русские души. И среди других душу князя Пожарского. Шуйский выпрямил его и создал, так сказать, для русского будущего.
После Лжедмитрия против царя Василия Шуйского поднялись десятки лжедмитриев. А сильнее всех Тушинский вор.
Князь Пожарский, целовавший крест царю Василию Шуйскому, отрицает Тушинского вора. Князь уже не верит больше «прелести Дмитриевой». Для Пожарского явление всех царевичей Дмитриев стало одним воровством царства. Духовный склад князя Пожарского с той поры можно определить верностью службы законному государю и тоской по законном государе, противостоятеле воровской смуты.
Но еще шатались все. Если молодой и ловкий царь Борис не устоял, слабому, старому, всеми нелюбимому царю Василию нечего было и думать совладать с воровским призраком царевича Дмитрия. Он был как былинка на русском пожаре. Князь Дмитрий Пожарский упорно и верно стоял и за царя-былинку.
Натура Пожарского вполне сложилась в 1609 году. Это была пора московского осадного сидения от Тушинского вора. Москва голодала. Русские тушинцы, поляки, Литва, разбойные казаки грабили по всем дорогам кругом Москвы обозы с хлебом. Уже никто не верил, что Шуйский уцелеет. Вся малодушная Москва стала перелетом. Шуйскому изменяли все, кто мог. От Шуйского на поклон к вору и за милостями валила в Тушино разнузданная за эти годы чернь, ошалевшие служилые люди, боярство, княжеские роды: Трубецкие, Сицкие, Юрьевы, Черкасские, Долгорукие.
Но захудалый князек, Дмитрий Пожарский, который был тогда от царя Василия воеводой в Зарайске, отказался целовать крест вору:
– На Московском государстве есть царь, ему и повинуюсь, – твердо ответил он на все посулы.
С небольшим отрядом ратных людей он заперся от вора в Зарайском крепостном кремле.
Упорство воеводы перегнуло зарайских людей. Здесь снова можно заметить, какой сокрушительный удар нанес по всей Смуте Василий Шуйский. Уже до всех дошло его: «Ты не царь, ты вор».
Люди уже перестали слепо, по-детски верить, что ни Дмитрий, то и царь. И в Зарайске люди поцеловали крест на верность царю Василию.
Василий Шуйский утверждал Московскую землю в прямоте. Но царя не любили, он не привлекал ни сердца, ни воображение. А внезапная смерть молодого московского сокола князя Михаилы Скопина-Шуйского окончательно подсекла царство Василия. Его обвинили, что он отравил молодого Скопина по зависти. Действительно, князь Михайло занемог после пира у царского брата, князя-завистника Дмитрия.
Тогда неистовый рязанский воевода Прокопий Ляпунов стал звать князя Пожарского на восстание против царя Василия. Прокопий Ляпунов шатался. Он уже начал сноситься с Тушинским вором.
Но Пожарский Ляпунову отказал. Пожарский остался до конца верен царю-былинке.
Одного из немногих своих верных воевод царь Василий наградил в Суздальском уезде деревеньками с пустошами и жалованной грамотой, в которой прекрасно очерчен облик Пожарского: «Многую службу и дородство показал, голод и во всем оскудение, и всякую осадную нужду терпел многое время, а на воровскую прелесть и смуту ни на которую не покусился, стоял в твердости разума своего крепко и непоколебимо, безо всякий шатости».
Пожарский тогда уже вышел из всякой шаткости Смуты, отыскал свой упор, твердость разума, в общем шатании. Упор простой: быть верным законному государю. В этом весь склад духа Пожарского: служба Василию – царю законному, ему крест целовали, ему и не отвергаться клятвы, ему и служить до смерти. А других царей на Москве нет…
Но уже через год, в 1610 году, изворовавшиеся московские люди с тем же неистовым Прокопием Ляпуновым свергли царя Василия и насильно постригли.
В Москве стало царевать боярство, и Московская боярская дума избрала на царствие польского королевича Владислава.
Что же князь Пожарский?
Князь Пожарский дал присягу королевичу Владиславу. В этом вся глубина тоски московского служилого человека по законным временам царства и по законному государю. В захудалом волжском князе как бы сочетался образ всех служилых прямых московских людей, застигнутых Смутой. Он не судит, не рядит, не мутит, не свергает, не перелетает, не шатается и не ворует. Он служит царю по кресту и по совести. Он как будто только и ждет того, кому отдать по всей совести свою присягу и верную службу.
По кресту и совести он служил царю Борису. По кресту и совести он служил и Лжедмитрию, покуда не узнал, не понял, что все Дмитрии – обман и воровство. По совести он служил царю Василию.
По совести стал служить и новому государю, природному королевичу Владиславу, а не вору, избранному Москвой по закону. Ни крупинки бунтовщика или мятежника не было в князе Пожарском.
II
С королевича Владислава начался новый поворот московской Смуты – московская разруха.
Низкопоклонники поляков на Москве стали требовать на царский престол уже не Владислава, а его отца, короля Сигизмунда III. Сам Сигизмунд охотно помогал таким проискам.
Что же делает Пожарский?
Князь Пожарский, до того наотрез отказавший рязанскому воеводе Прокопию Ляпунову подымать с ним восстание против царя Василия, теперь немедленно соглашается идти на выручку Москвы от нового воровства, тем более, что надменные поляки бесчинствовали на Москве.
В январе 1611 года князь Пожарский пошел на помощь Ляпунову – самой мятежной душе среди мятежных душ Смуты, – осажденному тогда воровскими казаками в Пронске.
Пожарский освобождает Ляпунова от осады, идет с ним на Переяславль, возвращается в Зарайск.
Зарайский кремль осадили тогда воровские казаки Сунбулова. Пожарский отбивает их, гонит. Сунбулов бежит. Это была такая яркая победа, что люди в Зарайске благодарили самого Миколу, чудотворца Зарайского, за помощь прямому их воеводе.
Вся рязанская земля скоро отбилась, очистилась от воровства. Тогда воеводы многих городов с Ляпуновым и Пожарским во главе пошли ополчением очищать от Сигизмундова воровства Москву. Первое ополчение поднялось не против королевича Владислава, а за Владислава против Сигизмунда.
В Москве тогда кипело восстание. Московское восстание 1611 года – перелом всей Смуты. В нем именно утвердилась московская нация. Восстание поднялось уже не за царевича Владислава против Сигизмундовой измены, а против самого чужеземного ига, против всей этой блестящей и рваной, вонючей, пьяной, бряцающей оружием и хвастовством толпы чванных завоевателей, презирающих московитов, даже не почитающих их за людей, а за бородатый скот, с которым позволено все…
Удивительно, как ничему не научились минутные захватчики: презрение и ненависть к Москве, какие они принесли с Лжедмитрием, уже однажды кончились для них самой ярой расправой, когда Москва растерзала в клочья и их и Лжедмитрия. Теперь повторялось то же. Но польские и литовские люди решили на Москве восстание раздавить.
19 марта 1611 года поляки вышли из Кремля сильной вылазкой. Они внезапно кинулись на московские улицы. Началось повальное избиение в Китай-городе, is Торговых рядах – до Тверских ворот. Поляки вырывали мятеж с корнем.
От Тверских ворот поляков отбили стрельцы. Поляки повернули на Сретенку.
Князь Пожарский отбивался с пушкарями на Лубянке, у церкви Введения Богородицы, где был его дом и где спешно насыпали острожек-крепостцу.
Поляков стали теснить назад, в Китай-город. Поляки бросились на Кулишки, за Москва-реку. Они подожгли Белый город.
Тогда всем могло открыться, что засела в Кремле, прикрываясь царскими именами Владислава и Сигизмунда, как прикрывалась раньше царским именем Дмитрия, не царева власть, а поработители царства, истязатели, ненавистники Москвы и московского народа.
Москва день и ночь кипела от боев, ходила пожарами. Ночью к Ляпунову подошел на помощь воевода Плещеев.
И к полякам подошел сильный отряд полковника Струся.
Ободренные поляки первые кинулись на московских людей, погнали Плещеева, раздули пожары, сожгли церковь Ильи-Пророка, Зачатьевский монастырь, Деревянный город, снова кинулись на Сретенку, на Кулишки.
Рассвет застал Москву в гуле огня, воплях, стрельбе.
Но где Пожарский?
День, ночь, почерневший от пороха, обгоревший, он отбивается со своими пушкарями на Лубянке.
Он ранен, лицо и кафтан в крови, он изнемогает, он видит, что верх берут поляки. Москва в огне. Раненый, он плачет совершенно по-детски:
– Лучше бы мне умереть, нежели видеть такое бедствие…
Он видит последнее крушение Московского царства. Пушкари подняли его на руки, понесли к телеге.
Без дорог, в потоке телег, его гонят из Москвы к Троице-Сергиеву. Князь теряет память, снова приходит в себя. Как будто видит он черный сон. Москва уходит, бежит: сметенными толпами идут бородатые стрельцы с пищалями, пушкари, женщины, стрельцы. Москву смело. И не закон, и не царь в его сгоревшей Москве, где пепел сеется по пожарищу, а ярмо поработителей.
В разгромленном восстании за королевича Владислава против короля Сигизмунда служилый и никак не мятежный князь Пожарский впервые стал мятежником. Теперь он уже не за Владислава и не за Сигизмунда, а за освобождение Русской земли и от них и от всей Смуты.
Раненый князь скрывается. Он лесует где-то в своей вотчине, в Трех Дворищах, на реке Лухе.
Сигизмундовы люди, поляки и русские, московские рвачи и прихвостни, уже теснят мятежного князя, чуют расправу над ним и свою поживу.
Григорий Орлов – зловещее имя, цепкое, жадное – один из предков екатерининских Орловых, подает 17 августа 1611 года на князя челобитную-донос королю Сигизмунду и королевичу Владиславу, выпрашивает за свою службу Сигизмунду деревеньку князя Дмитрия Пожарского, Нижний Ландех: «за его, князь-Дмитрия измену, что отъехал в воровские полки и ранен, сражаясь с королевскими войсками, когда мужики изменили на Москве».
Орлов получил от Гонсевского Нижний Ландех, оттягал себе княжескую деревеньку. Так князь Пожарский был объявлен изменником и королю и королевичу.
Но осенью 1611 года на освобождение Москвы, Дома Пресвятой Богородицы, поднялся Нижний Новгород.
Нижегородцы искали вождя. В лесную глушь к князю Пожарскому и пошли их послы – многажды, как рассказывает сам князь Дмитрий:
– Присылали по меня, князя Дмитрия, из Нижнего многажды, чтобы мне ехать в Нижний для земского совета, и я по их прошению приехал к ним в Нижний.
Князь позже скажет даже, что его к такому делу бояре и вся земля «сильно приневолили».
Он отказывается, он опасается нового разгрома, измены, «поворота вспять».
Этот средний провинциальный служилый человек, можно сказать, без рассуждений служивший каждому государю, который объявлялся законным Москвою, теперь самим ходом событий превращался в вождя национальной революции, поднятой нижегородским ополчением.
Для того прежде всего нужны были средства, казна, жалованье ратным людям. Князь сам указывает, кому быть «у такого великого дела»:
– У вас есть в городе человек бывалый, Козьма Минин Сухорук, ему такое дело в обычай.
Нижегородский выборный земский староста, говядарь Козьма Захарыч был душой нижегородского народного подъема. Это он вдохновлял толпу у собора призывами совершить великое дело, помочь Московскому государству:
– Какая хвала будет всем нам от Русской земли, что от такого малого города, как наш, произойдет такое великое дело…
Козьму Захарыча выбрали к великому делу. Он, как и князь, тоже опасается «поворота вспять». Он требует письменного приговора:
– Чтобы слушаться меня и князя Дмитрия Михайловича во всем, ни в чем не противиться, давать деньги на жалованье ратным людям, а если денег не станет, то я силою буду брать у вас животы, жен и детей отдавать в кабалу, чтобы ратным людям скудности не было.
Нижегородцев обычно изображают в розовых красках, как доброхотных щедрых жертвователей и только. На деле же в те времена первого русского Апокалипсиса они дали Минину круговую поруку за себя и за свои семьи, самую жестокую и самую крутую поруку в русской истории: отдавать свои достатки, а у кого их не было, – самим идти в кабалу ради освобождения Москвы, Дома Пресвятой Богородицы.
С вдохновенной суровостью наши предки нашли и себе силы больше, чем на самопожертвование, больше, чем на самоограничение. Они шли ради великого дела даже на личную кабалу на всю жизнь.
По мирскому приговору земский староста Козьма Захарыч обложил всех пятою деньгою.
Это значило, что в казну стали отбирать для земского дела пятую часть достатка каждого. Никаких послаблений не давалось никому. Кто упорствовал, у того отбирали силою. Брали у всех: у мирских, священства, монастырей. Все было обложено. Многие несли больше, чем требовалось. Одна вдова принесла оценщикам и сборщикам Минина двенадцать тысяч тогдашних могучих московских рублей – громадное состояние:
– Десять берите себе, а две оставьте мне на дожиток…
И мало, что отнимали силой от тех, кто упорствовал или скаредничал. Кто не мог дать пятой деньги, тот закабалялся у тех, кто за них платил. Люди закабалялись на всю жизнь, ради освобождения царства Московского. Даже и тени такого величественного грозного национального самоограничения, самопожертвования не повторилось во времена нашей несчастной белой войны с большевиками…
Под знамена Пожарского и Минина стали стекаться все, кто желал выпрямления Русской земли, освобождения ее от Смуты.
Грамоты Пожарского и Минина подымали Волгу. В Нижний пришли дети боярские из Арзамаса, пришло рязанское ополчение, пришли дорогобужане, вязьмичи. К Пожарскому стала стекаться вся живая московская нация. В Нижнем началась национальная революция, и ее вождем стал служилый князь Пожарский.
Для него вся Смута и воровство на Москве – от Литвы и Польши: они обманули Москву Лжедмитрием, они обманули ее и королевичем Владиславом. Все воровство от них.
– Будем же над польскими и литовскими людьми помышлять все за один, сколько милосердный Бог помощи дает, – зовет мятежная грамота Пожарского. – О всяком земском деле учиним крепкий совет, а на государство не похотим ни литовского короля, ни Маринки с сыном, ни того вора Сидорки, что стоит под Псковом.
Все минутные владыки Московской земли уже стали для Пожарского одним ненавистным вором Сидоркой.
А из Москвы при первых же вестях о нижегородском мятеже, Заруцкий, за ним Просоветский послали литовских и польских казаков занять Ярославль и поморские города, чтобы отрезать их от мятежного Нижнего.
Но намерение занять Ярославль было и у Пожарского. Он мог бы, так сказать, накоротке, по прямой – на Владимир – двинуться из Нижнего к Москве. Но он решил идти обходом – дугой – по Волге.
Передовым на Ярославль князь посылает своего правнучатого брата, удалого воеводу, молодого князя-тезку Дмитрия Пожарского, прозвищем Лопата.
Князь-Лопата – это, можно сказать, боевая грудь всего освобождения Руси от Смуты. Он всегда передовой в боях, удалой князь, с таким добродушным и сильным прозвищем, о ком, к нашему стыду, мы, русские, не знаем почти ничего.
Под Ярославлем князь-Лопата переловил воровских казаков Заруцкого, а Просоветский, узнавший о движении Лопаты, на Ярославль не пошел.
Зато туда с ополчением двинулся князь Пожарский, через Балахну, Юрьевец, Решму, Кинешму и Кострому, где ему был выдан воевода Иван Шереметьев. Князь же Лопата с нижегородскими и балахнинскими стрельцами подался на Суздаль.
И в первые дни апреля 1612 года князь Пожарский вступил в освобожденный Ярославль.
III
В Ярославле Пожарский точно бы замирает. Его зовут на спасение Москвы, можно сказать, вопят о помощи. Но он не торопится. Четыре месяца он не трогается из Ярославля.
Спокойный, неторопливый, упорный, он прежде всего создает в Ярославле русское земское правительство, вызывает туда грамотами «из всяких чинов людей человека по два», учреждает Земский собор из служилых, духовных, посадских и тягловых людей для обсуждения, «как быть прибыльнее земскому делу». Главой ярославского правительства становится Троицкий митрополит Кирилл.
В Новгород киязь Пожарский посылает Степана Татищева, с ним «из всех городов по человеку от разного чина», чтобы разузнать о договорах новгородцев с Делагарди и о призыве ими на царский престол шведского королевича.
Пожарский как будто соглашается, чтобы шведский королевич Карл-Филипп стал царем Московским. Но как бы и не соглашается. Может быть, только задабривает шведов, чтобы те пошли с Тихвина на поморские города, когда сам с ополчением двинется на Москву. Князь затевает волокиту переговоров со шведами, еще не зная, кого и где искать государем на Москву.
Но Земский собор он уже возит в своем обозе наготове, чтобы «выбрать государя по совету всего государства».
В Ярославле иссякли собранные деньги. Грамоты назначают новые и жестокие поборы. И трогательно, что князь не раз расписывается на грамотах за неписьменного Козьму Захарыча, прикладывая руку «в выборного человека всею землей, в Козьмино место Минино».
В Углич, Пошехонье, к Антониеву монастырю гнать воров Пожарский посылает все того же удалого князь-Лопату.
Пожарский очищает землю кругом себя. Прямит ее. А сам все не трогается. Этим он отчасти напоминает медлительного Кутузова. По-видимому, он опасался противников и еще больше – союзников, звавших его к Москве.
Его звала туда дикая и ярая разбойничья голытьба Заруцкого, стоявшего под Москвой, и воровские казаки изворовавшегося, надменного и кичливого князя Трубецкого.
Оба сначала были против Пожарского. Оба целовали крест псковскому вору Сидорке. Потом оба отложились от Сидорки, почуяли силу Пожарского, и его стали звать на помощь к Москве.
Но Пожарский не верил им. Он знал, что Заруцкий, прикончивший Ляпунова, подсылал убийц и к нему. Он им до самого конца не будет верить.
Эта непрочная, шатунная Русь, обернувшаяся буйством и разбоем, кидающаяся всюду, где только чует свою безнаказанность и власть своего буйства. Такие московские союзники были Пожарскому страшнее противника. Надо было стать сильнее их, чтобы идти с ними на соединение.
Пожарский силу и набирал. Он опасался спеха. Смысл ярославской медлительности в том, чтобы сначала осилить Смуту вокруг себя.
– Прежде всего надо было осадить, взять приступом свою собственную Смуту, – замечает Забелин. – И эта осада была несравненно мудренее осады Китай-города или Кремля…
Осада собственной Смуты. Пожарский хорошо понял, что Смута есть прежде всего смута душ, что надо начать с перестраивания душ, тогда рассеется и сама Смута.
Есть и еще одно, почему-то не замечаемое многими историками: восстание Нижнего Новгорода против польского королевича и короля на Москве было в своей основе религиозным восстанием, религиозной войной.
Нельзя забывать, что на Волге восстал тот самый московский народ, который еще недавно с гордым чувством почитал свою Русскую землю державным Третьим Римом – единственным, другому не быть, православной наместницей Божией в мире или, как называли наши праотичи отечество, Домом Пресвятой Богородицы.
Дом Богородицы теперь потоптан, опаскужен, попсован и кем? – папежниками, литвой, ляхами, крыжниками, самыми ненавистниками православной земли, и за одно с ними изворовавшимся русским бунтом. Нижний восстал за Русь именно как за веру, за старую веру, так же как позже пойдет за нее на костер железный протопоп Аввакум.
Восставшая Русь Козьмы Минина, нельзя забывать, была та же, что и Аввакумова Русь, – упорная до ожесточения и суровая до самозакабаления.
И вот такая Русь уже в Ярославле. Русское правительство, утвердившееся там, именовало себя в грамотах величаво:
– Великих государств и Российского царствия бояре и воеводы и по избранию Московского государства всяких чинов людей, многочисленного войска ратных и земских дел стольник и воевода князь Димитрий Пожарской со товарищи…
Но живого знамени, но объединяющего, победного образа у ярославского правительства не было.
У Московской боярской думы было свое живое знамя – польский королевич Владислав. У Новгорода тоже было – королевич Карлус Шведский. А у Ярославля нет во главе ни царевича, ни королевича. Государя нет. Какое-то громоздкое, довольно смутное и, если хотите, по-теперешнему республиканское правительство учредилось в Ярославле – «всяких чинов люди и князь Пожарский со товарищи».
Не помышлял ли этот скромный, служилый человек из захудалых и опальных князей поставить самого себя во главе Руси, стать чем-то вроде московского Кромвеля?
Нет, не помышлял никогда. А вся его тоска и все его поиски – законный государь, которому присягнула бы Русь и подчинилась, кому отдали бы всю веру и службу, без остатка. Но из своих таких уже не видно ни одного, изворованы, погублены или попсованы Смутой. На Руси все поедом едят друг друга, нет никому веры, никто никого не уважает. Нет на Руси такого, кому бы все подчинились.
Боярская дума на Москве поняла это и первая потянула к чужеземному корню. То же понял и Новгород.
А как Ярославль?
В первую пору Ярославль несомненно был за шведского королевича Карла-Филиппа. В июне 1612 года до Ярославля добралось из Новгорода посольство – игумены, торговые люди, дворяне с пятин, с ними князь Федор Черный-Оболенский. Князь Оболенский сказал прямо, что новгородцы желают иметь государем шведского королевича, что королевич уже прибывает вскоре в Новгород, и добавил:
– Чтобы и вы все, меж собой договор учиня, похотели бы быти с Великим Новгородом в общей любви и добром совете, и похотели бы вам на государство Московское и на все государства Российского царствия государя нашего, пресветлейшего и благородного, великого князя Карлуса-Филиппа Карлусовича…
Заметьте, Новгород говорит с Ярославлем как отдельное государство, уже имеющее своего пресветлого государя Карлуса. И Пожарский как будто соглашается, чтобы шведский королевич занял Московский престол, лишь бы принял православие и дал запись на управление землей Земским собором. Но князь подчеркивает в ответе: «Искони Великий Новгород от Российского государства отлучен не бывал. И ныне то видеть по-прежнему…» Князь опасается также, как бы не вышло со шведским королевичем «тоя же статьи», какая учинилась с польским королевичем Владиславом, вместо которого пожелал царствовать никем не званный король-отец.
– А тоя статьи, – отвечает ему Оболенский, – как учинил на Московском государстве литовский король, от Свейского королевства мы не чаем…
Но все что-то мучает, тревожит князя Пожарского. Не хочет он Карлуса. У него есть свои, еще неясные мысли о государстве. Он жалеет, что в Ярославле нет Василия Голицына, с которым он породнился через свою жену, что Голицын, бывший послом в Польше, задержан там Сигизмундом.
– Только бы такой столп, как князь Василий Голицын, был здесь. – говорит Пожарский на прощанье Оболенскому. – И об нем бы все держались, и я к такому великому делу мимо него не принялся бы, а то ныне к такому великому делу бояре и вся земля сильно приневолили.
Пожарский колеблется, не находит твердого решения. По отъезде Оболенского он посылает своих послов в Новгород, Секерина и Шишкина, сказать:
– Буде, господа, королевич по вашему прошению вас не пожалует и по договору в Великий Новгород нынешнего года по летнему пути не будет, и во всех городах о том всякие люди будут в сумнении, а нам без государя быти невозможно, сами ведаете, что такому великому государству без государя стояти нельзя…
Пожарский этим указывает, что окончательно не договорился о королевиче и что сам ищет государя. Так оно и было. У ярославского правительства был свой претендент на Московский престол. В те дни, когда Ярославль вел переговоры с Новгородом, в Ярославле начались переговоры и с послом германского императора Матвия. Проездом из Персии, посол германского императора Иосиф Грегори не случаем завернул в Ярославль. Грегори и предложил Пожарскому на царство Московское Максимилиана, брата германского императора. В трех ставленниках на Московский престол – Владиславе, Карле, Максимилиане – как бы скрестилась вся будущая история России в Европе, три великих силы тогдашней Европы – Польша, Швеция и Германия – стали оспаривать между собою московское наследство. Первая начала Польша, верная служанка Рима. Она первая учла слабость Борисова царствования и как будто решила захватить Москву одним сокрушительным ударом: царевич Дмитрий. Лжедмитрия можно отчасти сравнить со знаменитым пломбированным вагоном наших времен. Этот удар был тонко рассчитан и превосходно задуман, вероятнее всего, в Риме. Если это так, то это был план сокрушения самой схизмы московской, еретической Руси, при посредстве своего ставленника – царя. Это был гениальный план торжества Рима над Москвою. И Лжедмитрия в таком случае можно рассматривать только как средство для всеоправдывающей цели: завоевания московских еретиков. А Риму ли было не знать, что в таких страшных войнах с еретиками хороши все средства. И удивительно – в том именно и сказался живой гений нашего народа в Смуту, – что московский народ почуял какой-то обман в Лжедмитрии, какую-то заднюю мысль в нем, какую-то иную тень за ним. Возможно, что из беглых холопов – почему беглый холоп Болотников мог жить в Турции и в Италии – был выбран какой-нибудь другой московский беглец для ослепительной роли воскресшего царевича, тот – рыжий, с бородавкой, с живыми карими глазами, порывистый и великодушный, непутевый и хвастливый Дмитрий Первый Московский. Во всяком случае в Лжедмитрии, с его беглым знанием латыни, с его подписью «Imperator», во всем чувствуется сладковатое и, вероятнее всего, иезуитское воспитание тогдашней Италии, тогдашней Флоренции… Но царевичу Дмитрию не удалось завладеть еретичкой-Русью. Тогда литовский король Сигизмунд, заслонясь королевичем Владиславом, как будто решил овладеть ею силой. Но против Польши вмешалась Швеция, а за нею против Польши и против Швеции вмешалась Германия.