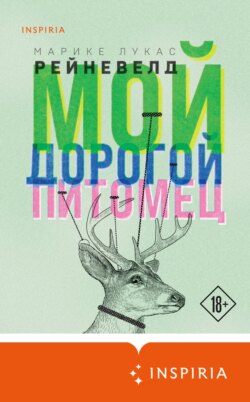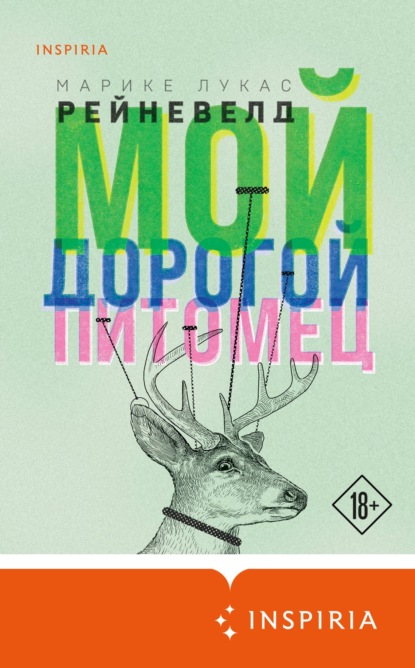Это вымышленная история. Все имена, персонажи, места и события – плод фантазии писателя или фикция. Любое сходство с реальными людьми, живыми или мертвыми, событиями или обстоятельствами является совершенно случайным.
Для тебя
Познай же меня,
Узнай, кто есть я, и познай меня.
Псалом 139 (в переложении Антона Кортевега)
Marieke Lucas Rijneveld
MIJN LIEVE GUNSTELING
Mijn lieve gunsteling © 2020 by Marieke Lucas Rijneveld
Originally published by Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam
© Новикова К., перевод на русский язык, 2023
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023
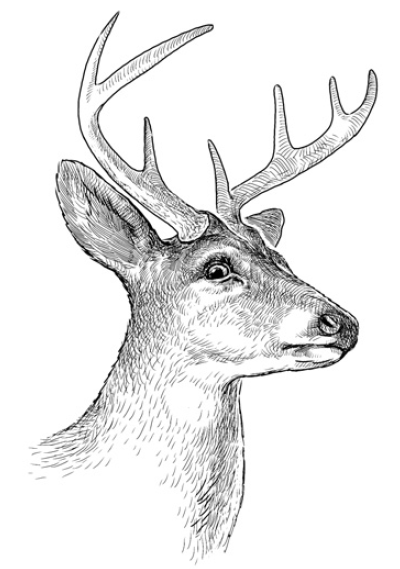
Лето 2005
1
Дорогой питомец, моя дорогая питомица, скажу тебе это сразу: в тот строптивый горячий сезон мне надо было вырезать тебя, как вырезают абсцесс из кориума копытным ножом, я должен был освободить место в межкопытцевой щели между когтями, чтобы в ней не задерживались навоз и грязь, и не могла пристать никакая зараза, а может, мне следовало просто почистить и отшлифовать тебя на станке, отмыть тебя дочиста и высушить тебя насухо со шкуркой. Как я мог забыть предупреждение, которое слышал во время обучения ветеринарному делу на занятиях по обрезке копыт и заболеваниях кориума, о ламините, о болезни Мортелларо, также называемой «вонючей ногой», о том, что нам продолжали до тошноты повторять – нужно быть осторожными: «Не резать по живому, никогда не вредить живому», – говорили нам снова и снова. Дорогая питомица, скажу тебе это сразу: мне нужно было вырезать тебя еще тогда в разгар того дерзкого и жаркого сезона, как вырезают коровам копытным ножом нарыв в межкопытных щелях, чтобы навоз и грязь не попадали туда и чтобы никто больше не смог тебя заразить. А может быть, мне нужно было тебя просто почистить, отшлифовать, отмыть и хорошенько высушить. Боже мой, как же я мог забыть все те предупреждения, которые нам бесконечно повторяли на занятиях в ветеринарной школе, на уроках, когда нам рассказывали об обрезке копыт, болезнях копытной роговицы, строптивости животных, болезни Мортелларо, которую еще называют «копытной гнилью». Раз за разом нам продолжали повторять – всегда будьте осторожны, чтобы не задеть при обрезке живую ткань. Никогда нельзя приносить вред живому.
Но моя слабость, моя порочность! В то строптивое лето ты лежала, как теленок в тазовом предлежании, в яслях моих болезненных вожделений, я был соучастником безумия, я не знал, как можно не хотеть тебя, тебя, мою небесную избранницу, и чем чаще я сидел на корточках среди дымящихся тел голландских коров и ощущал твое неотразимое присутствие совсем рядом в только что скошенной траве, что росла вперемешку с вечнозеленым иберисом, где ты часами тренировалась играть песню The Cranberries, полусогнутая над грифом своей белоснежной гитары под сенью груши, тем неистовее я надеялся на смещение сычуга или удаление межпальцевой фибромы, чтобы остаться с тобой подольше и послушать, как ты начинаешь песню заново, если ошибаешься аккордом или берешь высокую ноту своим жемчужно-ангельским голосом, а затем замолкаешь – тогда я замирал и представлял, как ты сдуваешь прядь волос с розовощекого лица, а прядь снова и снова падает вниз, и ах, ты так красиво ее сдувала, как ребенок сдувает пух с одуванчика, ты пела о танках, бомбах, пушках, о войне, но чем бы я ни занимался, я думал о тебе, да, я думал о тебе, когда надевал прозрачную оранжевую перчатку длиной до плеча, смазанную ветеринарным лубрикантом VetGel, и проникал во влагалище мясомолочной коровы, или когда моя рука обхватывала ноги скользкой от околоплодной оболочки телочки или теленка и осторожно тянула их в ритме схваток, а другая рука успокаивающе потирала липкий бок коровы-матери, когда я тихо с ней говорил и иногда даже шептал ей какие-то строчки из Беккета, которые я не собираюсь здесь повторять: кроме тебя и голландских коров они никого не трогали – и каждый раз я жаждал, чтобы ты бродила неподалеку, когда я надевал свой зеленый ветеринарный халат, застегивал пуговицы и шел работать, а потом надеялся, что ты мне улыбнешься, как всегда мило улыбалась жилистым работникам на ферме, которые во время обеденного перерыва прятались за стеной из бутербродов на кухонном столе, бутербродов с толстым слоем масла и копченой колбасой; но они не осмеливались за тобой приударить, ты была из тех животных, с которыми их не учили обращаться, у тебя не было четырех желудков, а был всего один, ненасытный, и я знал тебя с детства, я знал тебя как облупленную, хотя ты была слишком маленькой, чтобы тебя желать, и в то же время слишком живой и нетерпеливой для опеки и покровительства, и по твоему поведению я понимал, что ты хотела избавиться от родительской власти, от фермы, на которой выросла и которая носила имя Де Хюлст – она была названа в честь В. Х. ван де Хюлста[1], единственного писателя, которого знал и прочитал от корки до корки твой па: в хорошие дни он читал тебе вслух, и потом тебе снилось, что ты стала сахарной булочкой, что все были от тебя в восторге и хотели откусить кусочек, и что тебе приходилось защищать свое сладкое тело от короля, сладкоежек и муравьев; и, возможно, мне стоило отнестись к этому сну серьезно, думаю я теперь, когда пишу эти строки, хотя никогда не имел намерения это писать, – обычно я обращал внимание на твое поведение, а не на сны: на то, как ты отделяла себя не только от фермы, но и от близлежащих коровников, на крышах которых лежал асбест – твой отец отказался убирать его, потому что только Богу, а не куску старого гофрированного железа, старым гофрированным пластинам, дано право решать, заболеешь ты раком или нет, и от Него ты тоже хотела освободиться, хотела убежать от Бога, и в то же время боялась Его гнева, Его Страшного Суда, и иногда ты шептала в постели строки из сто восемнадцатого псалма: «Душа моя истаивает от скорби: укрепи меня по слову Твоему. О, освободи меня от моей страшной боли». Но больше всего ты хотела освободиться от своего отца, человека мягкого, но одновременно очень строгого, полного причуд и капризов, от которого ты хотела отделиться, а он по-прежнему хотел заботиться о тебе, как ты заботилась о Хулигане, вашем упрямом быке: ты одна могла погладить его после того, как он поел или покрыл корову – иногда вы одалживали его другим фермерам и за каждое спаривание получали деньги, которые складывали в банку из-под варенья, что стояла над камином на кухне, и на эти деньги вы ездили в отпуск; да, Хулиган оплачивал ваши каникулы в Зеландии, и там, когда ваш отец давал вам что угодно, от намазки для бутерброда до книжек про Дональда Дака, он сопровождал это словами: «Благодарите Хулигана». Я слышал, как в твоем голосе прорываются угрюмые и сварливые, недовольные и упрямые нотки, когда отец хотел застегнуть на тебе комбинезон – не ради того, чтобы уберечь тебя от хрусткого свежего утреннего тумана, а просто чтобы на мгновение прикоснуться к тебе, его ребенку, который все больше выскальзывал из его грубых рук, испещренных морщинами и мозолями; и тогда я смотрел на свои ладони, большие и достаточно сильные, чтобы крепко вцепиться в твои: я и раньше брал руки детей в свои, но все было иначе – это они хватались за меня, а теперь я хотел держать тебя, сплетая свои пальцы с твоими; у тебя на среднем пальце было маленькое пластиковое кольцо с божьей коровкой, ты получила его от ортодонта, когда услышала, что тебе нужна наружная брекет-система, и была потрясена этой ужасной новостью – тогда тебе позволили выбрать себе подарок в шкатулке с утешительными призами-сюрпризами, и ты остановила свой выбор на этом кольце, которое было тебе чуть-чуть велико; я бы часами выводил большим пальцем круги на твоей ладошке, словно жвачное животное, страдающее спинномозговой болезнью, которое ходит по кругу. И во время полдника я лишь вполуха слушал рассказы твоего па, похожего одновременно на молодого Мика Джаггера и Рутгера Хауэра, пока он с энтузиазмом рассказывал о своем скоте, о засухе на полях и на берегу реки, о том, что урожай будет скудным, если зонтичные цветы окажутся слишком вялыми, чтобы собрать их в букет для вазы на столе, а я изредка кивал: на ферме никогда не было ни одной вазы для цветов, и те, кто не держал дома букеты, имели склонность предаваться безутешным мыслям об урожае, даже если год был хороший и плодородный, но я снова кивал, когда он говорил, что коровы любят однообразный рацион, что они такие же рабы привычки, как и он сам, и что иногда он давал им послушать классическую музыку, Шопена или Вивальди, и тогда молоко вечером было жирнее; и в нужное время я растягивал лицо в улыбке, но на самом деле я хотел узнать все о тебе, хотел обсуждать тебя, как мы обсуждали коров, их течку и строптивый нрав, и я наблюдал за лужайкой, где вы с братом прыгали на батуте, соревнуясь, кто первым сможет допрыгнуть до неба, кто первым сможет пощекотать Христа, – ты хотела защекотать Его до смерти, и потом рассказывала, что в прошлом у древних римлян людей пытали щекоткой: их связывали и заставляли коз долго-долго лизать им пятки; но пока ты прыгала на батуте, все выше и выше, и твои светлые волосы, похожие на пшеничные колоски, танцевали и блестели у нежного лица, я заметил, как быстро тебе надоела эта игра и ты стала смотреть вдаль, поверх поблескивающих кочанов салата в огороде и пучков лука-порея, ты жаждала жизни, которая ожидала тебя там за этой Деревней, ты хотела уехать подальше отсюда, как многие девочки и мальчики твоего возраста хотели уйти с домашнего фронта; некоторые стали солдатами и пошли в армию, чтобы потом снова вернуться домой с ностальгией по камуфляжному цвету этой Деревни, но ты-то была уверена, что никогда не будешь страдать от подобной меланхолии, все, чем ты владела, было внутри твоей головы, и я тогда еще не мог знать, что тебе не хватало ощущения дома, хотя ты и любила ферму Де Хюлст до последней стружки дощечки, и одна только мысль, что ты ее покинешь, что уедешь прочь по дамбе Приккебэйнсе, объезжая места с выпавшей брусчаткой, что бросишь папу, одна эта мысль заставила тебя со вздохом отвернуться и снова включиться в игру на батуте; да, тебе плохо давались прощания, so bad, как ты говорила потом, и я заметил это довольно быстро: субботним утром ты, насупившись, стояла и мешкала, когда молодых бычков забирали на бойню, ты все обнимала их, и чесала им за ушком, и шептала им неразборчивые слова, и как раз тогда я понял, что эта потеря останется с тобой, и я захотел забрать ее у тебя с помощью противовоспалительных лекарств или, еще лучше, восполнить, несмотря на то, что мы еще ни разу не сказали друг другу ни слова, хотя все эти годы ты смотрела, как я частенько заходил, чтобы осеменить или обследовать корову, и приносила мне ведро с теплой водой и блюдце с куском зеленого мыла, чтобы я мог вымыть руки, испачканные кровью и дерьмом, и протягивала мне старое клетчатое кухонное полотенце, но ни слова не срывалось с твоих прекрасно очерченных губ, которые мне так хотелось потрогать, как я щупал животных, болевших блютангом[2]; но у тебя не было блютанга, ты была совершенно здорова и очень обаятельна, и я уже знал, что стану твоим первым мужчиной – ты смотрела на меня так, словно хотела, чтобы тебя полюбили, полюбили как четырнадцатилетнюю взрослую женщину; все четырнадцатилетние хотят, чтобы их видели взрослее, чем они есть, но ты не только хотела этого, ты и вела себя так, и все же в этих изящных и почти идеальных движениях я все еще видел скрытую детскость, ее-то я и любил в тебе больше всего, так сильно, что иногда у меня внезапно начинала кружиться голова, как будто я слишком много времени провел в испарениях пенициллина; эта детскость была наиболее заметна, когда ты порхала по двору и разговаривала сама с собой, когда в солнечные дни ты по-девчачьи взвизгивала, если твой па брызгал на вас с братом из дождевого шланга, или когда ты, хихикая, гуляла с подружками, твои загорелые ноги болтались в огромных рыбацких сапогах, и вы воображали, что весь мир лежит перед вами, как лопнувшие груши под деревом лежат перед осами, что лакомятся сочной мякотью; вы были осами, сильными и несокрушимыми, но еще я видел, как ты борешься с сумеречной зоной между девушкой и женщиной, борешься, чтобы не стать той, кто никогда не засияет на переднем плане, борешься с потерей, которая как вуаль висела на твоих хрупких плечах, и я наблюдал, как ты в одиночестве бродишь по берегу реки среди высокой травы и рапса позади фермы, когда там уже не было бычков, а телячьи загоны стояли тихие и пустые, а потом, надев дождевик, ты отмывала их миллиметр за миллиметром водой из шланга под высоким напором, словно думала таким образом стереть из головы само существование бычков; и еще я правда знал, что там, на берегу, ты плачешь, я просто знал это, хотя по-настоящему я стал следить за тобой только в начале летних каникул, когда тебе, если быть точным, было четырнадцать лет, два месяца и семнадцать дней, и ты лежала на спине в сене с книгой Роальда Даля «Данни, чемпион мира» над головой, а я долго и тщательно ополаскивал вилы под краном сбоку от коровника; я знал, что на какое-то время ты почувствовала себя в безопасности, представляла себя в мире, где тебя понимали, где ты хотела бы остаться навсегда, я слышал, что иногда ты смеялась и лежала там так долго, что сено примялось, и отпечаток твоего тела оставался на нем еще долго после того, как ты ушла, и я положил руку на высушенные травинки, которые все еще хранили остаточный свет; я действительно хотел, чтобы ты всегда себя так чувствовала, правда хотел, но все изменилось тогда, когда ты, если быть точным, седьмого июля, заговорила со мной – в тот день я впервые стал оставлять карандашные отметки в ящичке электрического счетчика, чтобы следить, сколько ночей остается до приезда на вашу ферму для еженедельного осмотра коров, и в тот самый летний день, когда ветер дул преимущественно с юго-востока, а я беззаботно подпевал песне, звучавшей по радио в доильном зале; я обычно не подпеваю, но в тот день меня охватила какая-то легкость и ясность, и так удачно складывалось, что мне удалось остаться у вас подольше: было много хромых коров, коров с опоясывающим лишаем или с дефицитом кальция, и я даже не заметил, как ты вошла, но вдруг услышал, как ни с того ни с сего ты сказала, что эта песня не из твоих любимых, и ты прислонилась к охлаждающему резервуару для молока и добавила, что твои любимые песни редко крутят по радио, их приходится искать в магазине компакт-дисков и пластинок в городе на другом берегу озера, на другом берегу Вудеплас, но ты сказала, что песня все равно красивая, потому что она драматичная; в клипе певица с размазанной тушью пела ее в черном такси марки Остин на станции метро «Уорик-Авеню», и ты знала, что она не чувствовала того, о чем пелось в песне, что ее слезы были фальшивыми, потому что тогда у нее перехватывало бы голос, но ты извлекала из этой песни то, что позволяло тебе чувствовать себя менее одинокой, хотя ты еще ни разу не ездила в такси, и, слегка покраснев, ты продолжила делать вид, что играешь и поешь для целого зала, и в первом ряду сидят самые важные люди, которых ты знала, им бы понравилось, они бы были в настоящем восторге, а ты бы воспользовалась каплями для слез, чтобы получить тот же эффект, что в клипе: ты не умела плакать по команде, у тебя получалось заплакать, только если ты думала о мертвых, но ты не могла петь и думать о мертвых, нет, это было невозможно, у тебя получалось думать о мертвых, только когда ты ехала на велосипеде, ты загоняла себя в могилу, а из глаз у тебя текли слезы; потом ты небрежно отвернулась, как будто все это вовсе ничего не значило, то, что ты со мной говорила, как будто заставляла меня усомниться, действительно ли ты что-то произнесла, и мне это не приснилось, и провела рукой по резервуару для молока, как будто это была коровья спина, а я хотел сказать что-то в ответ, хотел набраться смелости и сказать хоть что-то в тот день, но я молчал, как та певица по радио, и улыбался тебе в спину, и слышал только, как ведущий прогноза погоды Хэррит Хиймстра сказал, что лето будет стихийным и неуправляемым, особенно на севере страны, и слово «неуправляемый» позже приобретет особое значение: я буду задаваться вопросом, не случился ли перелом в моей жизни именно в тот горячий сезон, не там ли, среди ведер с молоком и желтоватой каймой молозива, родилось мое безумное вожделение и тяга к тебе, или они были со мной и раньше, и надлом крылся где-то в моих юношеских воспоминаниях, которые мне, в конце концов, потом придется по принуждению присяжных униженно перелистывать и пересказывать в суде – в любом случае, дома, даже не переодевшись, я кинулся искать в интернете текст той песни, что играла на радио, и с жадностью вчитался в строчки Warwick Avenue[3], вставил текст в файл Word и подчеркнул некоторые строки, если думал, что они соответствуют чувству, которое я к тебе испытал, а затем я стал слушать музыку, на которой вырос, и подчеркивал уже там, в песнях Патти Смит, «Роллинг Стоунз», Фрэнка Заппы, Лу Рида, да, особенно Лу Рида, после того как прочел, что его песня Walk on the Wild Side какое-то время подвергалась бойкоту – позже нечто похожее произойдет и с нами; я не мог слушать песни, не думая о тебе, о том, как ты будешь их анализировать, качаясь на цыпочках взад-вперед, и месяц спустя, когда я зашел осмотреть телку с уплотнением в вымени, указывающим на мастит, и снова увидел, как ты лежишь в сене с книгой, на этот раз с первой частью из серии про Гарри Поттера, «Философский камень» – в восьмом классе ты перепечатала ее буква за буквой в Windows 95 после того, как взяла книгу из библиотеки и поняла, что она слишком хороша, чтобы возвращать ее обратно, но не хотела платить огромный штраф; и я отдал тебе тексты песен в траурном конверте: у меня дома не было никаких других – эти конверты кремового цвета предназначались для людей, которым предстояло лишиться любимого животного, которого я усыплял, обычно я клал в них стихотворение Эмили Дикинсон «Радость в смерти», и я ничего тебе не сказал о подчеркнутых предложениях, я это сделаю позже, подумал я про себя, когда буду сидеть в первом ряду, сияющий и гордый, хлопать в ладоши, свистеть и даже кричать что-нибудь из Беккета, сложив ладони рупором: «When you’re in the shit up to your neck, there’s nothing left to do but sing[4]». И я буду думать: «Вот она, моя пламенная беглянка, моя великолепная зверюшка».
2
Курт Кобейн был мертв. Уже одиннадцать лет, но ты узнала об этом всего час назад, впервые услышав Smells Like Teen Spirit, и снова и снова проигрывая эту песню в плеере, твердо заявила, что музыкант умер не от передозировки наркотиков или пули, но от передозировки успехом, который заставляет человека думать, что он умеет летать, пока не обнаруживает, что у него вообще нет крыльев, а затем внезапно падает, как герои мультфильмов вроде «Безумных мелодий Луни Тьюнз»: как только они понимают, что висят в воздухе, они падают вниз. И ты продолжила, что если когда-нибудь станешь знаменитой, действительно знаменитой, то всегда будешь помнить, откуда пришла: не забудешь запахи силоса, аммиака, коровьего дерьма, и своих подруг не забудешь, правда-правда; но ты уже тогда знала, что потеряешь что-то важное, что успех по-настоящему изменит тебя, что-то в тебе укрепит или, возможно, усугубит: бесконечную пустоту, которая уже жила в тебе, хотя я упустил из виду ее симптомы, – а ведь я точно знал, когда животное заболевало или когда вырабатывало слишком много гормонов стресса; я не замечал этого, потому что хотел верить в твою стойкость, ведь в конечном итоге тебе она понадобится, я отвел глаза, как четыре года назад во время эпидемии ящура я сказал одному фермеру, что у его коров просто грипп и что он пройдет, черт побери, я просто не хотел, чтобы все стадо уничтожили, потому что раньше уже видел, как еще живые коровы, овцы и свиньи заходили в труповозки и бились ногами в их стенки, и на той же неделе я пошел к тому фермеру: у него в стаде началась вспышка плеврита, и когда в полдень я вошел к нему в дом, чтобы достать из саквояжа бутерброды с арахисовым маслом, хотя знал, что вряд ли справлюсь с ними, и, ничего не подозревая, зашел в холл, я увидел его висящим на балюстраде наверху лестницы: сперва увидел подошвы его сапог с налипшим дерьмом и соломой, затем комбинезон, а потом мне явилось все безжизненное целое, и я прищурился, чтобы оградить себя от этого зрелища, надеясь, что все еще смогу его спасти, что смогу перемотать время назад к тому моменту, когда я въехал во двор на своем черном микроавтобусе Fiat, когда я мог бы поговорить с ним, как королева Беатрикс говорила со своим народом, и как невероятно часто она использовала слово «мы», и это бы сработало, и казалось, что это работало с тобой, но в то время я не знал, каково это – потерять самое прекрасное, что у тебя есть, не знал, что иногда слова не могут выразить потерю; и все же я хотел попытаться вытащить его из петли, по крайней мере, я мог бы прижать его к своей груди, как я делал с телятами, у которых молоко попадало в рубец, с больными телятами: смотрел им в глаза и наблюдал, как обстоят дела с рубцом, – да, я бы держал его, как больного теленка и, может быть, прошептал ему что-нибудь на ухо, что-нибудь из Леонарда Коэна, думаю, ты бы оценила: First of all nothing will happen and a little later nothing will happen again[5]. Это я сейчас так думаю, но тогда я знал, что тот фермер, вероятно, не понял бы или не захотел понять эту строчку, потому что, когда человек сидит слишком глубоко в своей собственной навозной яме, он чует лишь вонь и застревает в грязи; о нет, я бы ничего ему не сказал, я бы просто обнимал его до тех пор, пока беспамятство не вытекло бы из него, как кровь из коровы, и мы сидели бы вместе на краю кузова моего фургона, как я часто делал, когда обсуждал с клиентами мои заключения: я закурил бы сигарету и дал бы ему затянуться, и его шелушащиеся губы коснулись бы моих пальцев, и я почувствовал бы, с какой силой он затягивается – сигарета стала бы слегка тоньше, а затем снова раздулась, как будто он хотел наполнить легкие надеждой, чем-то отличным от мертвого запаха забоя, – и, может быть, я закрыл бы дверь кузова и сидел бы с ним в темноте, чтобы до нас не доносились звуки, звуки животных, падающих на решетчатый пол, и мы сидели бы там, куда я намного позже положу матрас из пены с эффектом памяти и холодной пены, когда я буду иссушен и одержим тобой, моя дорогая питомица, и мы бы ждали в кузове, пока не услышали бы, как фургоны с грейферами[6] выезжают со двора, и стало бы так тихо, что мы оба задались бы вопросом, действительно ли это произошло, и не вообразили ли мы весь этот ужас, как порой после просмотра фильма о войне мне приходила мысль, что я сам оказался в бою, и на каждом углу был солдат, который мог меня застрелить, и я слышал пиф-паф в голове; но фермер по-прежнему висел на лестнице, и хуже всего было то, что в конце концов отвязали его от балюстрады люди из той же службы перевозки трупов – теми же самыми руками, которыми они забрали жизни животных, они касались этого фермера, и я ничего не мог с этим поделать, я ошеломленно стоял в холле с помятыми бутербродами в руке – и я не знаю как, но стоя там, я съел все три бутерброда вместе с корочками, которые я доедал очень редко и обычно оставлял в жестяном боксе для бутербродов, у него на крышке была поблекшая наклейка с изображением двух спаривающихся свиней и подписью Makin’ Bacon, приходя домой, корочки я выбрасывал: это был детский протест, от которого я не мог избавиться – и я наблюдал, как фермера накрывают черным сельскохозяйственным пластиком, которым обычно для сохранности укрывают кукурузный силос, а на уровне его рук кладут два мешка с песком, чтобы пластик не снесло от ветра, дующего сквозь открытые двери в сад, как будто они хотели убедиться, что он мертв и не вышло так, как бывает с некоторыми животными, которые попадали в труповозку еще живыми; и после того дня я больше не мог смотреть на арахисовое масло, не видя перед собой темно-синего лица фермера, его выпученных глаз; с тобой я тоже отводил глаза, хотя в тот раз я просто хотел спастись, я хотел остаться в сетях твоего колдовского очарования и в то же время испытывал отвращение, но ах, слабость моей плоти, огонь моих чресл, как мог я потушить его, не потушив самого себя? Я позволял тебе бесконечно рассуждать о том, что ты воспринимала ту песню Кобейна как крик отчаяния, что ты читала его прощальное письмо в интернете, и что он был слишком красив и слишком ярок для того, кто больше не хотел жить, что он вычеркнул предложения и забыл, что можно так же вычеркнуть жажду смерти, что Teen Spirit был брендом дезодорантов в Соединенных Штатах и что того, кто в отчаянии, часто не заботит то, как он или она пахнет, и как все это умещается в одной фразе: I’m worse at what I do best[7]. В этот момент ты вздрогнула, хотя я не знал: это из-за текста песни, из-за внезапного исчезновения недавно открытого музыканта из твоей юной жизни или из-за сумерек, что поднимались над коровниками и медленно окутывали нас, словно группа могильщиков из этой Деревни, которые в свободное время тоже гуляли в черном – они не могли отвлечься от смерти, потому что смерть никогда не покидала их, я иногда звал могильщиков, когда кто-то хотел закопать любимое животное под яблоней вместо того, чтобы сбросить его на дорогу, и его подобрал Rendac[8] – они копали так глубоко, что оказывались по щиколотку в грунтовых водах, а я на краю ямы вздрагивал, да, я дрожал и не мог не думать о своем собственном существовании, о смертности, что я как раз достиг библейского возраста семидежды семи лет, и я знал, что число сорок девять означало полноту, освобождение, что ученикам нужно было ждать сорок девять дней, прежде чем Дух Божий не сойдет на них, но это также было зловещее число, как говорится в сорок девятом псалме: «Это судьба тех, кто верит только в себя, и тех, кто их слова повторяет. Люди подобны овцам: могила загоном им будет, смерть будет их пастухом». Но я не хотел верить в себя, я хотел верить только в тебя, моя небесная избранница, и я не знал, через какую пустыню я в конце концов пройду, но с тобой я был таким живым, с тобой я существовал, и мое существование не было отвратительно, и я мог внезапно улыбнуться на краю вырытой могильной ямы, глядя вниз на лысеющие макушки могильщиков, потому что каким же я был молодым и полным жизни, как яблоня, которая цветет каждый год даже после того, как под ней похоронена смерть; из-за тебя я ветвился, я рос! И ты сказала, что тебе нравится имя Курт, что оно звучит как иностранное блюдо, которое ты поедала бы маленькими кусочками, чтобы подольше им наслаждаться, что ты хотела бы когда-нибудь иметь парня по имени Курт; и потом ты внезапно погрустнела, как будто что-то поняла, что-то более глубокое, чем осознание, что парней по имени Курт очень мало, но потом ты взяла себя в руки, прислонилась к двери коровника и принялась рассказывать, что все чаще сталкиваешься с тем, что открываешь для себя музыканта, а он, оказывается, уже умер: Джонс, Хендрикс, Джоплин, Моррисон, Пфафф, Джонсон, Харви. И может быть, они так хорошо и непревзойденно звучат в твоей голове, потому что они мертвы, как если бы они видели приближение смерти и вложили последние силы, последний вздох в свои песни, а мертвых никто не может превзойти; и ты знала, о чем говоришь, мы оба знали, но не выразили это словами, так же как не говорили про сумерки этой ночи, которые больше не окружали нас, но проникали внутрь и заставляли тебя говорить все медленнее и медленнее: о Клубе двадцати семи, о музыкантах, которые умерли в двадцать семь лет и очень тебя интересовали: ты читала, что Джонс утонул в бассейне в Хартфилде, Хендрикс захлебнулся в собственной рвоте, напившись снотворного и вина, Моррисон умер от остановки сердца, Джоплин и Пфафф – от передозировки героина, Джонсон – выпив отравленного виски в Гринвуде, а самой страшной стала смерть Харви, который получил удар током во время выступления со Stone the Crows, когда он коснулся незаземленного микрофона, и так было со всеми этими музыкантами: они были так далеки от всего земного. Они погрузились в свою жажду славы, жажду признания, и ты сказала, что признание – это колыбельная для ребенка, без этой мелодии ребенок будет вечно блуждать в поисках подбадривающего, одобрительного взгляда, и я видел, что сумерки поселились и в твоих глазах, видел, как ты время от времени оглядываешься на ферму, на освещенный дом, тебе нужно было идти, сказала ты, потому что темно и у тебя домашняя работа, и ты пожала плечами и сказала ну пока, а я не мог вымолвить, что ради тебя я готов назваться Куртом, пожалуйста, зови меня Курт.
- Любовь
- Злой мальчик
- Стеклянный отель
- Высокая кровь
- Плейлист волонтера
- Трилогия
- Оркестр меньшинств
- Погода – это мы
- Тысяча Чертей пастора Хуусконена
- Мой белый
- Там мы стали другими
- Валентайн
- Осьминог
- Притяжение звезд
- Жизнеописание Льва
- Две серьезные дамы
- Ночная сучка
- Мужчина апреля
- Прошу, найди маму
- Стеклянный человек
- Другое имя. Септология I-II
- Один день ясного неба
- Сожжение
- Лес повешенных лисиц
- Море спокойствия
- Мой дорогой питомец
- Вишневые воры
- Все хорошо
- Нищета