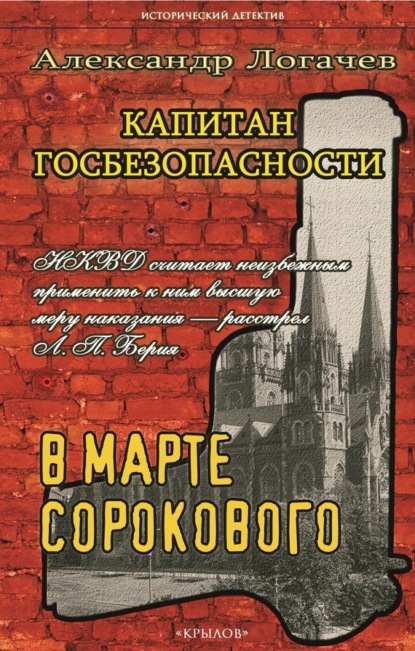Глава первая
Поезда движутся навстречу
По песчаной дорожке перекати-полем катился скомканный первый лист «L’Humanite». Комок сдуло на обочину, забросило на могильную плиту, проволокло по граниту. Газета свалилась на темную, влажную землю, из которой уже пробивались нежно-зеленые ростки травы. Следующим порывом обрывок перекинуло через чугунную оградку высотой в ладонь, ударило в вертикальную плиту, вновь опустило на почву, еще немного протащило, и он уткнулся в коричневую, до блеска начищенную кожу ботинка, повернулся названием печатного органа кверху. Ботинок с ненавистью отпихнул газетный обрывок, отправляя прочь – подальше от святого места, где ничто не должно напоминать о коммунистах, компартиях и их основателях-жидах.
Ветер трепал волосы на обнаженных головах, поднимал на макушках чубы, тревожил за кончики длинные, отвислые усы.
– Зийдутьця у вильним краю! И вирю, друзи! Днина скоро буде! Люди прибудеть в Украину не як пидпильники, а як вильни чоловики!
Закончив речь, Степан Бандера опустился на колени, вдавил в землю кулаки, в одном из которых сжимал короткую папаху, и преклонил голову перед неброским надгробием на могиле Петлюры[1].
Крестясь, встали на колени шестеро молодых оуновцев. Каждый из них протянул руку и коснулся надгробия «самого любимого вождя и знамени движения за свободную Украину», которое сейчас украшали непышные букеты из скромных[2] цветов.
Микола Волонюк подошел и поцеловал могильный камень, потом подержал на нем, словно грея, ладонь, шепча «повалю Ряданску владу, детище не тильки москалей и жидов, а и чортово». Он отошел от могилы последним. Его дожидался Бандера. Остальные торжественно и молча уже двинулись к выходу с кладбища, надевая на ходу головные уборы и оставляя наедине своих вожаков.
Микола Волонюк, командир группы, взял под руку Бандеру, лидера младооуновцев, и они пошли по песчаной дорожке, держа дистанцию в полсотни шагов от товарищей по движению.
На улицах Парижа не так часто можно было услышать украинский язык, в отличие от русского. Но среди каменных надгробий, плит и склепов именно этого кладбища украинская мова звучала нередко.
– Ты, Микола, давеча спрашивал о допустимых методах нашей борьбы. Так ты бы еще при немцах спросил. Или ты не понимаешь, о чем можно говорить на людях, а о чем нет?
– Прости, батька, – горячо зашептал Волонюк. – Поторопился, побоялся, что другого случая не будет.
Хотя Бандера был девятьсот восьмого года рождения, а Волонюк девятьсот десятого, Микола не только обращался к Степану уважительно, но и действительно испытывал перед ним прямо-таки сыновнее благоговение.
– Нам, Микола, пока приходится считаться с немецкими капризами и со старческими неврозами Мельника. Этот дряхлеющий маразматик смотрит немцам в рот, шагу не ступит без их согласия. И тут же побежит докладывать им, если разнюхает, что мы надумали своевольничать. А разве можем мы быть уверены, что кто-то из наших братьев не работает еще и на Мельника? Вот то-то, Микола…[3]
Они шли по дорожке неторопливо. Бандера вертел в пальцах трость, держа ее за середину. Волонюк иногда поглядывал на него, но, видя, что батька думает, не лез с вопросами. А вопросы были.
– Они, – Степан показал рукоятью трости на идущих впереди товарищей по организации, – на территории врага будут находиться в твоем и только в твоем распоряжении. Ты для них станешь царем и богом. Они вынуждены будут выполнять твои приказы. Но о нашем разговоре, о том, что я тебе сейчас скажу, никто из них не должен узнать в любом случае. Понимаешь, о чем я?
Бандера повернул голову к собеседнику и заглянул ему в глаза, но ничего, кроме, пожалуй, собачьей преданности, в них не заметил.
– Не сомневайся, батька, – с жаром заверил Волонюк. – Со мной в могилу уйдет разговор.
– Зачем же сразу в могилу? Я рассчитываю на тебя живого. Очень рассчитываю на тебя, Микола.
Степан отвлекся взглядом на памятник – гранитная люлька, в которой угадываются очертания спеленатого младенца. И выбитая на камне надпись: «Моя маленькая Лулу, которую бог забрал к себе через три месяца после ее рождения». «Вот пожалуйста, – подумал Бандера. – Бог допускает смерть даже невинных. Значит, не отнятие жизни греховно, а цель, во имя которой отнятие совершается. Если отнимаешь чью-то жизнь во имя собственной корысти, то прощения не будет, а если приносишь жертву на алтарь народного блага, то милостью и благодарностью народной прощение получишь. Мои хохлы потом возблагодарят меня и деяния мои, воспоют мои помыслы, что служили лишь матери нашей Украине, и до Бога дойдет их признательность».
Размышления о жизни и смерти не оставляли Степана со времени, проведенного им в камере смертников варшавской тюрьмы. Готовя себя к эшафоту и стараясь гнать прочь позорные мысли о предательстве, о вымаливании прощения на любых условиях, он не мог не думать о том, а что же ждет после, уж не расплата ли на божьем суде?[4] Те ночи бессонных хождений среди скребущих тюремных звуков, то ощущение раскаляющегося под черепом мозга, бессильного найти выход, тот особенный холод прутьев оконной решетки, останутся – Степан уже смирил себя с неизбежностью – всегда рядом, будут его тенью, не видимой другими людьми.
Бандера отогнал не ко времени пришедшие мысли и продолжил разговор:
– Ты получил задание от абвера. На абвер же и будешь ссылаться каждый раз, на батьку Канариса. Мол, немцы мне надавали таких инструкций и полномочий. А то, что я согласие даю, про то молчи. Дойдет до Мельника, он тем самым станет на твою сторону перетягивать наших братьев.
– Значит, разрешаешь, батька, бить коммунистов?! – В радостном порыве Волонюк приблизил свое лицо к «батькиному», заставив Бандеру поморщиться – Микола обдал его луковым выхлопом.
– Разрешаю. Но бить тоже с умом надо. Если уж идти на рисковое дело, то так, чтоб наибольшая польза от него всему нашему движению. Про то, на какие дела тебе идти во Львове, мы в две минуты не обговорим. До поезда, – Бандера запустил руку под пальто и под пиджак, достал брегет, соединенный с желеточным карманом серебряной цепочкой (Волонюк знал, что брегет отбивал мелодию гапака и часы эти подарены Бандере гетманом Скоропадским[5]), – три часа пятьдесят минут. Мы отправим наших братьев на вокзал, а сами посидим недолго в каком-нибудь подвальчике, закажем по тарелке, – Бандера усмехнулся, – парижского борща, выкушаем на посошок по рюмочке французской горилки.
– Можно просто пройтись по улицам.
Если бы Бандера потрудился взглянуть на спутника, то заметил бы румянец на его щеках.
– Не беспокойся, Микола, у меня завалялось несколько грошей.
Отложив разговор до ресторана, оставшийся путь до кладбищенских ворот они проделали в молчании. Степан Бандера думал о том, чем грозит, если Миколу возьмут живым на задуманном деле. А вроде бы ничем не должно грозить. Волонюк знает не больше того, что и без него известно в НКВД. Все лидеры ОУН и видные боевики перечислены в алфавитной последовательности в чекистских списках. Что их организацию патронирует абвер – тоже для коммунистов давным-давно не секрет. Ну, сдаст Микола, не сдюжив, свои явки во Львове – так не велика беда. Провалы неизбежны.

Степан Бандера
Лишь бы здесь в Германии не стало известно, что он получил от него, от Бандеры, благословение на деяние свое. Ведь абвер организует засылку на советскую территорию групп, подобных той, что возглавит Микола Волонюк, совсем с иными целями: организация антикоммунистического подполья, подрывная пропагандистская работа среди недовольных властью жителей, вербовка в свои ряды новых членов, минирование мостов и других стратегических объектов, заготовка схронов с оружием и – ожидание. Ожидание приказа из Германии, а он должен поступить накануне немецкого выступления на Советы, и тогда вся «пятая колонна» должна будет прийти в движение, ударить изнутри, облегчить войскам вермахта вторжение на Украину.
Однако Степан ждать не желал, слишком надолго может затянуться ожидание. Сколько Гитлер будет еще раздумывать и мяться? Один бог то ведает… или чёрт. А борьба будет пробуксовывать на месте, настоящая борьба, а не ее видимость. Вот о том и поведет он разговор с Миколой в оставшееся до поезда на Берлин время. О настоящей борьбе.
А если у Волонюка все пройдет успешно, то бойцы ОУН, что колеблются, на чьей стороне им быть, на Бандеровой или на Мельника, встанут под знамена Бандеры. Потому что убедятся – с Бандерой и только с Бандерой они могут полностью, без страха и оглядок на немцев, уже сейчас воплощать свою мечту. А общая мечта у них у всех одна – рубить жидов и коммунистов, пока рука не устанет, как поступал и им завещал вождь Петлюра.
А если же у Миколы все же сорвется задуманное, если он живым попадет в лапы НКВД, то всегда можно отказаться от Волонюка. Мол, его личная инициатива, кровь молодецкая взыграла, за всеми ж не уследишь, всем в душу глубоко не заглянешь. Придется отречься от него, придется. Второй раз немчура не простит Степану Бандере его ослушание. Да и батька Канарис тогда подумает, что у ОУН должен быть один лидер по имени Мельник, а смутьяна Бандеру лучше запрятать подальше в какой-нибудь из концлагерей…
А Микола Волонюк, двигаясь под руку с Бандерой, размышлял о том, что плотный ресторанный ужин да еще под рюмочку выйдет достойным завершением паломничества на могилу Симона Петлюры, в которое их отпустили на один день. Ох и устал Микола от скупых немецких харчей в столовой разведлагеря абвера под Дрезденом, где его группа проходила подготовку…
Парижская проститутка Мари Жуардене шла на могилу подруги, скончавшейся прошлым летом от сифилиса. Ее славной подруги Жаннет, которая так любила эклеры и молочные коктейли. Они снимали когда-то на двоих комнатку на Монмартре, разделив ее на две половины китайскими ширмами. Ширмы теперь на помойке, Жаннет в земле, а Франция по-прежнему поет и веселится, словно не бежит по Европе, как по сухому лесу, пожар войны.
Недалеко от входа на кладбище Мари разминулась на дорожке с группой мужчин. На французов не похожи: повыше будут и корпулентнее, кожа не смуглая, да и лицами не похожи. На некоторых из чужаков под пальто (дешевая ткань, плохой пошив) она заметила странные рубахи с вышивкой. И усы какие-то вычурные… что-то ей напоминают. О-ля-ля, однажды в кинематографе она видела картину, где мужчины в шароварах и с саблями отвоевывают у других мужчин восточную женщину в парандже и с голым животом. Потом что-то у них происходит на корабле, кажется, мужчины не могут поделить, кому она достанется…
Но вот из этих усачей ни один не обратил внимания на Мари. Неужели я выгляжу такой старой? Или эти мужчины похоронили кого-то настолько дорогого и близкого, что считают неприличным давать волю страстям? Может быть, они из какой-нибудь такой сложной секты, о которых пишут в газетах, из каких-нибудь умерщвленцев плоти? Наверное, это русские, решила Мари. Самые странные из обитателей Парижа обязательно оказываются русскими эмигрантами.
А потом мимо Мари прошли еще двое мужчин, конечно же, из той же секты. Они тоже не бросили взгляд в сторону женщины. Из-за них, из-за этих противных сектантов, Мари очень расстроилась…[6]
– Направо, товарищ майор. Следующая дверь. Прошу!
Выкрашенная в белое дверь отошла, открывая проем в салатного цвета коридорной стене. Четверо вошли в помещение, окунулись в тяжелые запахи больничной палаты.
– Справа у окна, товарищ майор, – поторопился главврач.
– И где же он?
Больничная койка справа у окна пустовала. Взгляды вошедших не опознали искомого человека также ни в больном с рукой на перевязи, нехотя покидающем широкий подоконник, ни в больном, подсевшем на чужую кровать сыграть партию в шахматы. И вообще в палате людей насчитывалось меньше, чем кроватей, а быть такого не могло – Финская война переполнила госпиталя и больницы Ленинграда.
– Где остальные? – накинулся главврач на больного, оказавшегося к нему ближе других. – В курилке опять?!
– Курят, – не стал скрывать не бог весть какое правонарушение товарищей по стационару человек с забинтованной головою, нехотя оторвавшись от истрепанной книги без обложки.
– Сколько можно вам говорить! Я вас заставлю соблюдать режим! Чекисты называется!
Главврач ругался напоказ, демонстрируя высоким гостям из НКВД, что борется за дисциплину во вверенном ему госпитале. На самом деле подобные мелочи его нисколько не волновали.
– Товарищ майор, позвать его? – Главврач взглянул на майора госбезопасности Алянчикова. И снова ощутил позорную дрожь внутри, натолкнувшись на вспарывающий, скальпельный взгляд майора. И тут же он, военврач первого ранга[7], испытал прилив стыда за собственную беспочвенную трусость.
– Ведите к нему, – распорядился Алянчиков. И, выйдя в коридор первым, обратился к главврачу, закрывавшему дверь: – Разве ему разрешено курить, ему разрешено вставать?
Военврач растерялся, подыскивая пригодный ответ. И подыскал такой:
– Больные, они ж как дети. Им говоришь, говоришь, а они не слушают.
– Ладно, – многообещающе проговорил майор. – Идем.
Курилкой этому отделения госпиталя служила библиотечная комната.
Из приоткрытой двери библиотечной курилки выползал дым и доносился смех, сопровождающий чей-то рассказ:
– …Смотрим на них в бинокль. Ну точно, бутылка, никаких сомнений. Наполовину вылезла из кармана. И как достать? Не подползешь. Финны, собаки, все простреливают. Подгоняем саперный[8]. Бабахаем кошкой раз. Мимо. Бабахаем два. Зубья проползают рядом, цепляют белофинскую шапку с ушами и тянут на нашу сторону…
В каждой больнице, как и в каждой роте, найдется такой балагур-рассказчик, непременно собирающий вокруг себя благодарную аудиторию. Видимо, один из таких затейников и выступал сейчас в сизых папиросных облаках.
Четверка остановилась на краю тени, отбрасываемой дверью курилки.
– Похоже, многие у вас тут перележали, половине пора на выписку, – заметил Алянчиков без тени улыбки или иного намека на шутку. – Позовите капитана.
В ожидании, сцепив за спиной руки, Алянчиков вышагивал от стены к стене. Его сегодняшняя мрачность превосходила его повседневную мрачность. И в кого-то должна сегодня ударить молния. Двое сопровождающих майора сотрудников Ленинградского НКВД надеялись, что их сия участь минует.
Из двери библиотечной курилки, из табачной завесы вышел тот, за кем они пришли – появился капитан Шепелев, стряхивающий пепел в пустой коробок. Ни перевязи, ни бинтов под пижамой Алянчиков на больном не разглядел. («В левую или правую руку он был ранен?» – попытался вспомнить майор. И не вспомнил). За спиной капитана бушевал голос главврача: «Забавляемся! Значит, лечиться не хотим? Симулируем! Значит, с таким диагнозом и отправить вас в части? Марш по палатам!»
– Здравия желаю, товарищ майор, – капитан стряхнул пепел в коробок.
«Разве только осунулся капитан, да синяки под глазами», – подумал Алянчиков и сказал:
– Здравствуйте. Выгляните вполне здоровым человеком, товарищ Шепелев. Собирайтесь, будете долечиваться в Москве. Приказ товарища Берии. Машина ждет внизу. Поезд отходит через два часа, в восемнадцать сорок. До Москвы вас будет сопровождать лейтенант Билик и сержант Пахомов.
Алянчиков повел рукой в сторону, этим самым указывая, что стоящие за его спиной люди и есть упомянутые лейтенант и сержант.
– Успеваете заехать домой, переодеться. Вы же так и не были дома с той поры?
– Нет, – подтвердил капитан.
Под «той порой» подразумевалась командировка на финский фронт, где повоевал он недолго, но эти дни оказались переполнены боями, холодом, снегом и смертями. А потом был полевой лазарет, оборудованный в блиндаже, где капитан пошел было на поправку, но схватил воспаление легких. Ничего удивительного, когда за бревенчатыми стенами свирепствовали морозы, доходившие в иные дни этой зимы до минус пятидесяти. Его срочно переправили в тыл, поместили в этот госпиталь, где он вот уже больше месяца избавлялся от воспаления, долечивал руку, восстанавливал силы.
Собеседники пристально смотрели друг другу в глаза. Каждый из них не отказался бы вскрыть другому черепную коробку и прочитать мысли стоящего напротив человека. Алянчиков полагал, что Шепелев сейчас нервно угадывает значение вызова в Москву, не арест ли его там ждет? Однако капитан думал о другом – о том, что товарищей Билика и Пахомова он видит впервые. Значит, назначены во время его финской командировки, значит, они – назначенцы Алянчикова и взяты, может быть, на место его погибших на фронте ребят. Да, Зимняя война за какие-то считанные недели отняла у капитана всех его товарищей. Погибли его подчиненные, погиб на линии Маннергейма Ленька-Жох, в городе умер от сердечного приступа старший майор Нетунаев, непосредственный начальник капитана, прикрывавший его от служебных неприятностей, в том числе и от того же Алянчикова, с которым у Шепелева были серьезные контры по разным вопросам.
А майор Алянчиков сейчас как раз размышлял, зачем товарищ Берия вызывает капитана Шепелева в Москву чем это может грозить лично ему, Алянчикову. Если капитана собираются оставить в Москве и повысить в должности за его подвиги на линии Маннергейма, то не захочет ли он свести счеты, решив, что именно майор стал причиной сердечной болезни его, капитанского, приятеля Нетунаева? Это заставляло волноваться.
Из курилки повалил болящий народ, разогнанный главврачом. Вместе с разновозрастными мужчинами в полосатых пижамах, мало напоминающих комначсостав войск НКВД, выкатился из библиотечной комнаты белохалатный и круглый военврач первого ранга. Алянчиков подозвал его к себе взглядом.
– Оформляйте выписку, товарищ главврач. Теперь нашим больным займутся московские специалисты…
Две «эмки» отъехали от госпиталя. Из окна первой машины смотрел на пробуждающийся от зимы город капитан госбезопасности Шепелев. Он сидел на переднем сидении в зимнем обмундировании, в котором в январе покидал Ленинград, в котором спал в снежных норах среди карельских лесов.
Капитан провожал глазами точащиеся ледяным соком сталактиты сосулек, трамваи с бесшабашной, экономящей пятаки для мороженого детворой на «колбасе», зимние шубы и пальто, уже расстегнутые сверху на несколько пуговиц, освеженные солнцем лица. А думал он о женщине по имени Ольга. Недавно он позвонил ей с госпитальной вахты. Сообщил, что жив, что залечивает простуду. На ее порыв навестить его в госпитале попросил не делать этого. Сказал, что через неделю-полторы выпишется и тогда уже ничто не помешает им встретиться в подобающем состоянии в подобающей обстановке. Она ждет его… он тоже ждет встречи с ней. Но лучше, так он решил тогда, подождать еще какую-то недельку и явиться здоровым, предстать не в застиранной пижаме, а в человеческом костюме, с букетом. Однако вот как поворачивается…
А во второй «эмке» все-таки разразилась накапливавшаяся в течение дня гроза. Под разряд командирской молнии попал шофер, везший Алянчикова на Литейный. Слишком лихим показался майору разворот на слякотной улице, покрытой взбитым колесами грязным снегом. И товарищ майор выговорился. Странно, что водитель служебной «эмки» взамен обещанным ему карам и наказаниям не предпочел красивую шоферскую смерть в лобовом столкновении с грузовиком на встречной полосе…
…Дома Шепелева встретила только пыль. Сопровождающие его товарищи Билик и Пахомов сопроводили до квартиры и сейчас дожидались на коммунальной кухне, скрипели там стульями. Видимо, им было приказано на всякий случай не отпускать от себя товарища капитана. А вдруг какая глупость придет в голову товарища капитана и он попытается скрыться? Ведь ему же неизвестно, для чего его везут в Москву, насочиняет еще себе всякого, напридумывает. А кому, спрашивается, известно? Алянчиков тоже в известность не поставлен, иначе бы по-другому себя вел, с какой бы то ни было определенностью. Скорее всего, лишь товарищ Берия и в курсе, зачем ему понадобился Борис Шепелев из Ленинградского НКВД.
Надев костюм, капитан понял, что похудел. Брючный ремень требовал новой дырки, в плечах и талии отсутствовала привычная плотность прилегания. «Не в Москву бы тебе, товарищ, – капитан носовым платком очистил свое изображение в зеркале от пылевой завесы, – а в Ялту или Гагры на усиленное санаторное питание». Седой налет пыли покрывал и черный лакированный корпус телефона. Позвонить ей из дома, рассказать о вызове в Москву? Нет. Если все будет в порядке, он сможет телефонировать и из столицы. А если не будет в порядке, то тогда уже будет все равно…
В поезде капитан госбезопасности Шепелев всласть отоспался. Не иначе на него от колесного перестука и унылого присутствия товарищей Билика и Пахомова нашла болезнь сурка. Двенадцать часов дороги он дрых без сновидений на нижней полке мягкого вагона. В госпитале так поспать не получалось, будили стоны соседей по палате, их ночные хождения, давила на голову духота в помещении, мучили собственные кошмары, состряпанные из воспоминаний разной степени давности. Железнодорожные условия подарили полное отключение от яви. Впрочем, один раз он все-таки пробудился. Доел бутерброды и пирожки, купленные на Московском вокзале, запил холодным чаем и тут же снова упал на подушку, и на сей раз не отнимал от нее голову до самой Москвы…
* * *
До смены оставалось полчаса. А может… Петр отвел рукав шинели, опустил взгляд на часы – двадцать девять минут. Если так часто глядеть на время, то оно будет стоять на месте. Это знает каждый часовой, и каждый часовой поминутно смотрит на часы. И каждый берет с собой их единственные на караул часы. И не забывает напомнить тому, кого сменяет, чтобы снял их с руки и отдал.
Вообще-то как должно быть оборудовано: охраняемые объекты должны ярко освещаться, а дорожка часового находиться во тьме. Здесь же наоборот. Фонари стоят вдоль тропы, проложенной по периметру мимо складов, автопарка, спящей казармы, хрюкающего свинарника, мимо забора части, отделяющего ее от города. Скудно светят одинокие лампочки над дверями складских помещений – да и то не всех, а лишь некоторых. Автопарк так тот вообще темен, как ночной ярославский лес, окружающий родную Петину деревню. Когда проходишь мимо него, то вспоминаешь бабкины сказки про леших и ведьмаков, наскакивающих на добрых людей по ночам. Ну и темны ж ночи на этой Украине, как ведро смолы!
Словом, при таком раскладе из-за любого куста, дерева и из-за забора на часового, который торчит как на ладони, могут запросто напасть. Могут отобрать винтовку, а самого зарезать. Хотя и стараешься держаться середины тропы, но не так уж она и широка. Вот потому неуютно чувствовал себя Петр в карауле. Его бы воля, он бы лучше ходил в непочетные наряды на кухню.
И вообще не нравилось Петру во Львове, хотя в городе он и не бывал ни разу с тех пор, как его часть сюда перебросили. Какими-то неспокойными и придирчивыми стали командиры, кормят хуже, политучебы стало в два раза больше. И вообще всё кажется чужим, неродным, даже на территории части. Даже к здешнему воздуху никак не придышаться…
А дальше все пошло не так, как прописано в караульном уставе.
Сначала был шорох. Тихий такой, несерьезный. Военная часть полна мелкими звуками: протрещит крыльями перелетающая птица, закачается, а то и треснет под ней ветка, под ветром или само собой звякнет что-то в автопарке, боров приложится в свинарнике тушей к стене, раздадутся, наконец, осторожные шаги начальника караула, который любит подкрасться с проверкой бдительности часового. И чего насторожил Петра тот шорох? Насторожил, прямо как их домашнего кота, который дрыхнет на кухне среди грохота, звона и трескотни бабьих перекоров, но стоит только хрустнуть ветви где-нибудь за оконцем, тут же навострит уши и примет стойку. Видать, было в том шорохе нечто неуловимо непривычное, и донесся он оттуда, откуда всегда исходило ощущение опасности – от узкого прохода между свинарником и складом, от прохода, который скрывает от глаз высокий край рампы.
Петр закаменел. Взгляд шарил по сгустку тьмы. Кровь прилила к ладони, придерживающей ремень винтовки. А патрон-то не в стволе. Надо передернуть затвор, но страшно пошевелиться, страшно выдать себя звуками. Дождаться разводящего и сменщика? Втроем-то чего ж будет не подойти…
Петр несколько раз собирался с духом на окрик «Эй, там, выходи, стрелять буду!», но… слова застревали в горле.
Прошла минута. Или больше? А то и меньше? И столбняк вдруг отпустил Петра. «Чего я пужаюсь? – подумал он. – Ну, прошуршало там, крыса, может, пробежала. Ну, темный закуток, над которым давно пора столб с фонарем поставить. Чего ж я от всякого куста шарахаюсь! Прям как Ванька-убогонький, который и в двадцать лет бегал от гусаков, собак и курей».
Застыдив сам себя, Петр ожил. Снял – но все ж проделывая это медленно и аккуратно, следя, чтоб не звякнул ремень, не клацнул затвор – с плеча винтарь, левой подхватил под магазинной коробкой, правой обхватил узкую часть ложи перед прикладом. И, ступая сторожко, почему-то непроизвольно наклоняясь вперед, стал продвигаться к проходу между складом и свинарником. Он переступил границу, за которой заканчивался фонарный свет. Примкнутый штык прорезал, покачиваясь влево-вправо, холодный ночной мрак в полутора метрах перед часовым.
А дальше все пошло не так, как происходило на страницах устава гарнизонной и караульной службы и на учебных картинках в караульном помещении. Не было и в помине той ясности, определенности и четкости, где все зависит только от бдительности и правильности твоих действий. Не дали крикнуть «Стой, стреляю!», не позволили совершить предупредительный выстрел в воздух. Петр даже не понял, что, как и зачем он делает. Да и не он это действовал, а его страх. Когда часть тьмы вдруг ожила и кинулась к нему, озвучивая движение шорохом песчаного грунта, руки Петра направили в ту сторону винтовку, выбрасывая ее вперед, навстречу. Руки почувствовали сопротивление, нажали и продавили сопротивление.
– На помощь! – Взвился по-пионерски звонкий крик и не сразу, но Петр осознал, что это стараются его легкие и горло. – Сюда!!!
И он продолжал звать во весь голос «на помощь» и «сюда» почти до самого конца.
А руки Петра толкали винтовку по-прежнему вперед. Тот, кого поддел игольчатый штык трехлинейки, заваливался на спину, а часовой наступал на него, давая увлечь к земле винтовочное дуло. И тут второй силуэт отделился от черноты и бросился на Петра.
Красноармеец оставил табельное оружие и побежал. Ноги понесли его к рампе, он нырнул под нее, прополз на карачках к стене и лег.
Прогремел пистолетный выстрел, Петины глаза ухватили вспышку. А в руку впились бетонные крошки. «В меня!» – ужаснулся часовой.
Мама! Прогремело второй раз. А потом явственно послышался удаляющийся топот ног. «Я жив?» Все указывало на то, что жив. Кроме зуда в руке ничего ужасающего он не испытывал. Тогда он испугался того, что ему будет за брошенную винтовку и позорное бегство. Он выбрался из укрытия, побежал обратно. И облегченно выдохнул, обнаружив винтовку непохищенной.
Петр выдернул из тела того, кого он – чего уж там! – случайно поймал на штык, сорок три сантиметра окровавленной стали. Потом склонился над убитым. Гражданский мужик какой-то. И его вдруг наполнила радость, когда он стал смекать, что произошло. Это ж было нападение на часового! А он одного убил! «Отпуск получу! Да чтоб мне лопнуть получу! Однако надо пострелять для порядка».
Часовой Петр пять раз передергивал затвор и пять раз стрелял в воздух. Можно сказать, празднично салютовал, дожидаясь, пока прибежит его караул…
А человек с револьвером влетел по загодя приставленной лестнице на ограду воинской части и спрыгнул вниз. Когда он забирался по лестнице, за спиной заговорила винтовка. Ночь сотрясли выстрелы, и из-за них шофер грузовика, державший мотор включенным, сорвался с места. Поднявшись с земли, человек с револьвером увидел, как машина скрывается за углом.
Проклятье, одно к одному! Говорил же он, что шофер хиловат, может подвести. А-а, что теперь… Он оглянулся. Дьявольщина! С той стороны улицы торопливо шел человек в милицейской форме. Да, они всегда тут ходят кругами вокруг части, но мог бы он сегодня оказаться и подальше. Неудачи продолжались – легавый увидел его, припустил, придерживая фуражку и на бегу расстегивая кобуру.
Человек с револьвером пересек дорогу, нырнул в узкий, в одну телегу шириной, переулок, наткнулся на двух прохожих и попытался обогнуть с криком «В сторону, суки!», угрожающе подняв оружие.
– Тоджесть москаль! Холера! – Услышал он радостный пьяный возглас и челюсть его содрогнулась от удара. Словно кувалдой долбанули.
«Свий я чоловик, брат-поляк, виду боротьбу за национальне визволення!» – хотел закричать беглец, разжимая пальцы и выпуская револьвер на булыжники мостовой, но сознание вместе с телом стало валиться набок подрубленным деревом.
– Молодцы! – вбежал в переулок милиционер. – Задержали!
– Так ми тут, пан офицер, э-э… – развел могучие руки в стороны первый из припозднившихся гуляк и поглядел на своего собутыльника, который, судя по бессмысленному выражению лица, вообще не понимал, где они и что деется вокруг, и назавтра вряд ли что вспомнит…
- Капитан госбезопасности. Ленинград-39
- Капитан госбезопасности. Линия Маннергейма
- Капитан госбезопасности. В марте сорокового