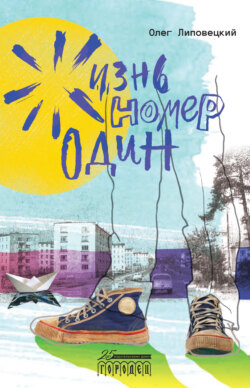© Липовецкий О., 2022
© ИД «Городец», 2022
* * *
Моей семье посвящается
Дисклеймер:
Все персонажи и события в этом тексте являются вымышленными.
Все совпадения с реальными людьми и событиями случайны.
Я смотрю в свое окно. Уже лет тридцать, как левый нижний угол наружного стекла откололся, и папа склеил его изолентой.
Папы нет уже пять лет. Из окна виден мой детский сад. Я помню каждое дерево на его территории. Запах группы. Лица одногруппников и момент, когда воспитательница говорит: «За тобой пришли».
Глава I
Черная полоса
Детский сад «Тополек», куда я самостоятельно, а потому гордо шагал каждое утро, находился прямо за нашим домом. Обычно, захлопнув дверь квартиры, я сбегал по лестнице с третьего этажа, скользя рукой по перекладинам подъездных перил, каждая из которых отзывалась на прикосновение моей ладошки своей нотой. Эту мелодию я знал наизусть – с нее начинался каждый будний день моего детства. Но сегодня мне было не до музыки. Дверь подъезда с треснутой фанерной вставкой, выкрашенной в синий, легко распахнулась и выпустила меня на улицу. Ночью прошел дождь, и неровный асфальт вдоль дома был покрыт пятнами небольших лужиц, как шкура жирафа на картинке в какой не помню книге. Вспомнив мамино «Не ходи по лужам» и оглянувшись на окно кухни (мамы в нем не оказалось), я смело затопал напрямик, дерзко разбрызгивая жирафные лужи новыми ботинками. Мне казалось, что, уничтожая их беспечную гладь, я мщу миру за свои злоключения. Дойдя до угла дома, я повернул направо и прошел мимо крыльца кулинарии. Она была еще закрыта. По какой-то неведомой причине человек, проходящий мимо торца дома в любое время дня и ночи, попадал в невероятной силы поток аромата свежей выпечки. Обычно я останавливался здесь на минутку понюхать воздух. Мне очень нравилось улавливать в теплых волнах отдельные запахи. Вот это сочень. А это, похоже, пирожок с повидлом. Или свежая глазированная полоска. Обычно, но не сегодня. Сегодня я миновал кулинарию без остановки и подошел к дороге, на другой стороне которой стоял детский сад. В это утро он казался неприветливым и зловещим. Сегодня все казалось мне неприветливым и зловещим.
Вчера вечером ничто не предвещало беды, пока папа не решил надеть в гости свои золотые запонки. Запонки достались ему от его отца – моего деда Давида. Были подарены на свадьбу. Надевал их папа редко, по особым случаям. Они входили в комплект, который назывался «на выход». Еще в комплекте была белая рубаха с дырочками на рукавах вместо пуговиц, коричневый костюм, блестящие кожаные туфли, галстук и штука, которой этот галстук прикреплялся к рубашке. У меня тоже был свой комплект на выход. И у брата. И у мамы. Но только у моего папы в комплекте были такие запонки. О них и речь.
Знали бы писатель Стивенсон и дедушка Давид, к чему приведут роман «Остров сокровищ» и старые портновские ножницы. Какая связь? Просто месяц назад чрезвычайно одаренный и смышленый ребенок, каким считали меня все соседские бабушки, был поражен одноименным фильмом. А точнее, волшебным блеском драгоценных камней в сундуке мертвеца, на который, как вы знаете, претендовали пятнадцать человек. Романтическая натура взяла верх, и, справедливо рассудив, что каждый человек имеет право на пару-тройку драгоценных камней, я незамедлительно приступил к их поиску. Поиски начались и закончились в родительской шкатулке. Клад был найден. Как вы догадались – папины запонки. Но возникла проблема. Мне нужны были только камни. И вот, дождавшись момента, когда родители оставят меня одного, а брат уйдет гулять, не теряя ни минуты, я, оправдывая оценки пожилых соседок, огромными портновскими ножницами, кстати, тоже доставшимися от дедушки Давида, вспорол презренный желтый металл запонок и стал обладателем двух маленьких драгоценных звезд. Исковерканные запонки были положены на место в коробочку, коробочка в шкатулочку, шкатулочка в трюмо, пахнущее мамиными духами и помадами. Камни я закопал. В надежном месте. Под цветком алоэ, в горшке, в спальне родителей.
Вечером, доедая рисовую кашу и услышав истошный папин крик, я понял все и сразу. Сотой доли секунды хватило мне, чтобы среагировать и запереться в туалете. Я всегда запирался в туалете в минуты опасности. Об этом свидетельствовали многочисленные парные отверстия, оставшиеся от шурупов, которыми папа прикручивал на новое место дверной шпингалет, вырванный после очередной осады. Не знаю, что заставляло меня каждый раз запираться в сортире и не открывать дверь, несмотря на все уговоры. Я знал, что это не поможет и защелка не выдержит папиного гнева, но ведь мы всегда хотим отсрочить неизбежное. После папиного предупредительного рывка должен был последовать второй, который дверь, конечно, не выдержала бы. И тут в моей голове мелькнула, как мне тогда показалось, гениальная мысль, и я закричал: «Папа, не надо! Я сам выйду!» Шум за дверью стих, и я, казалось бы покорно выйдя из туалета, опрометью ринулся к электророзетке, сжимая в руке мамину шпильку. «Если подойдешь – воткну!» – крикнул я и приставил шпильку к отверстию. «Втыкай», – ответил папа и сделал шаг в моем направлении. Он же не думал, что его сын, как бы это помягче… Короче, в следующее мгновение меня, как бы это опять помягче… так шарахнуло током, что я отлетел и размазался по противоположной стене коридора. Волосы у меня реально встали дыбом. Ни ремень, ни ладошка папе не пригодились, ибо я наказал себя сам. Подъезд лишился электричества, мама – шпильки, а я – прогулок и лимонада на месяц.
Понятно, что на следующий день мне все казалось мрачным и зловещим. День не задался с самого утра. Потихоньку от папы: после вчерашнего он мог и не разрешить, мама дала мне десять копеек на мультфильмы. Помните, раньше в саду группой ходили в кино, и детский сеанс стоил десять копеек? Уже в том нежном возрасте у меня была одна вредная привычка. Нет, конечно, я не курил и не пил тем более. Но я почему-то очень любил носить деньги во рту. Естественно, только монеты. Купюры мне еще и не давали, к моему большому сожалению. Выйдя из квартиры, я, как обычно, засунул десять копеек в рот и, гоняя во рту денежку, а в голове мрачные мысли о своей тяжелой доле, отправился в детский сад. Подойдя к большой и тяжелой входной двери, я с трудом двумя руками, преодолевая сопротивление толстенной пружины, приоткрыл ее и юркнул внутрь. Как оказалось, юркнул я недостаточно быстро, потому что дверь меня догнала и врезала по заднице. И в этот момент я проглотил свои десять копеек.
Это был первый инородный предмет, который я съел за свою недолгую жизнь. Мне стало страшно, что я умру и не пойду на мультфильмы. И если со смертью было еще не все понятно, то мульты мне точно не светили. Если я умру, то какие тут мульты, а если даже не умру, то денег на билет все равно нет. Испугавшись, я взбежал на второй этаж, где находилась наша группа, и бросился к воспитательнице: «Татьяна Ивановна, я проглотил десять копеек, что теперь будет, я умру?» Татьяна Ивановна сделала озабоченное лицо и ответила: «Нет, Олег, ты будешь жить, но станешь копилкой…» В шесть лет я точно знал, что ребенок не может превратиться в грибок с прорезью, поэтому понял, что воспитательница шутит. «А мультфильмы?» – спросил я. «Мультфильмы придется пропустить. Будешь помогать тете Мане накрывать полдник».
Пока группа наслаждалась мультфильмами в кинотеатре, я наслаждался обществом тети Мани. Надо сказать, что тетю Маню я правда очень любил. Ее все любили. Тетя Маня была нашей нянечкой. Мне кажется, что она прямо родилась нянечкой. Вот в этом белом переднике, в этой косынке, с большим носом картошкой и добрыми-предобрыми глазами. У тети Мани не было возраста. Правда. Я до сих пор не знаю, сколько ей было лет. Вроде старше всех, но не бабушка. Бабушка была у меня дома. А тетя Маня… Ну, наверное, она была такая добрая, что непонятно было, когда она родилась. Непонятно же, когда появилась доброта. Но в тот день я дулся на всех. Даже на тетю Маню. Ведь все были в кинотеатре «Ладога», а я разносил кружки.
Я родился и вырос на берегу Ладожского озера в городе Питкяранта, и в нашем городе все называлось «Ладога» или «Питкяранта». Кинотеатр «Ладога», ресторан «Питкяранта», мастерская обуви «Ладога», хлебный магазин «Питкяранта» и так далее. Правда, бывали исключения. Например, местная газета называлась «Новая Ладога».
Вареная детсадовская свекла сегодня была особенно противной, колготки сползали с ног и сбивались в тапках гораздо быстрее, чем обычно, и новая машинка Толи Комеля вызывала гнетущее чувство собственной неполноценности. Но природная жизнерадостность взяла верх, и ко времени прогулки я начал забывать, что меня окружает жестокий мир, полный коварных ловушек и неожиданных неприятностей. Тут-то все и началось. Вернее, продолжилось.
Как в любом стандартном детском саду, в нашем было четыре группы. Младшая, средняя, старшая и подготовительная. Соответственно, и двор детского сада был поделен на четыре резервации. Каждая со своими границами, своей верандой, за которой справлялись исключительно свои «групповые» надобности, и со своим детским домиком. Вот это безобидное строение и стало причиной моего немыслимого позора. Надо сказать, что наш домик несколько отличался от остальных. У него был потолок. Не просто, знаете ли, крыша коньком, а настоящий потолок из добротных досок. И вот одна из досок пропала. Наверное, понадобилась кому-то из жильцов близлежащих домов. Добытчик был человеком интеллигентным и не только не повредил остальные доски, но даже аккуратно сложил на скамеечке гнутые гвозди, мол, нам лишнего не надо. Так вот, благодаря неизвестному похитителю у нас появилось дополнительное помещение, этакий таинственный чердачок, куда среднестатистический ребенок мог забраться головой вперед, почувствовать себя разведчиком и выползти, не меняя положения тела и нащупывая ногами заветный лаз. Я среднестатистическим ребенком не был. Я был очень толстым ребенком, вскормленным на пирогах бабы Клары, рисовой каше бабы Ривы и молочных коржиках, которые покупал сам в нашей кулинарии на мелочь, стыренную из карманов старшего брата. Но ведь толстым тоже хочется быть разведчиками. К тому же я не мог даже представить того кошмара, который ждет меня впереди. Короче, когда очередь лезть дошла до меня, я залез. До половины. Вернее, до середины… живота и застрял. Гвозди, торчавшие из досок, не позволяли мне двинуться назад, впиваясь при малейшей попытке освободиться. Часть тела, располагавшаяся выше моей ватерлинии, пребывала в темноте и неизвестности, другая же свисала с потолка и дергалась в тщетных попытках спасти первую. Через несколько минут безуспешной борьбы с домиком я взмолился о помощи, и над мирно пасущимися детьми взвился крик: «Татьяна Ивановна, Любашевский застрял!!!» Через минуту возле домика собрались все воспитатели и нянечки, через две – абсолютно все воспитанники всех четырех групп, через пять – пришел дворник Савелий Семенович с пилой и гвоздодером. К этому времени я уже рыдал. Не знаю, от чего больше – от страха перед угрозой провести остаток жизни врастая в домик или от стыда и позора, представляя себе момент своего освобождения. Меня выпилили. Происшествие это неделю обсуждалось коллективом детского сада, его воспитанниками и их родителями. Короче, всем городом. Я же с тех пор ненавижу чердаки любых размеров и любой формы. Ненавижу.
Чердаки – чердаками, а мне нужно было продолжать жить среди этих людей… Вы сами знаете, сколько для нас значит общественное мнение, а мнение детсадовского сообщества и конкретно моей группы грозило мне сомнительной перспективой разделить славу с небезызвестным Винни Пухом. Нужно было предпринимать решительные действия. Пока мои товарищи мирно посапывали во время послеобеденного сна, который мы терпеть не могли в детском саду и о котором почти все грезим сейчас, я лихорадочно перебирал способы реабилитации своей поруганной чести. Ко времени подъема я осознал, что выход из сложившейся ситуации только один: я должен стать лучшим. Лучшим во всем.
Случай начать приводить план в действие представился очень скоро. После сна воспитательница посадила нас лепить из пластилина самолетики. Я, естественно, решил, что должен опередить всех, поэтому с необычайным рвением взялся за создание своей скульптуры. Но возникло неожиданное препятствие. Вернее, надобность. А еще точнее – нужда. Можно даже сказать – большая нужда. Передо мной отчетливо встал выбор между суетным и вечным: либо я удовлетворяю свои сиюминутные надобности, либо думаю о будущем. Как мальчик умный, я, конечно, выбрал второе и таки слепил самолетик первым. Собрав волю, и не только волю, в кулак, я подошел к воспитательнице и, положив на стол пластилиновое искусство, попросил разрешения удалиться. Получив положительный ответ, я стремительно посеменил в туалет, стараясь при этом сохранять достойную осанку. Как вы знаете, туалетные комнаты в детских садах представляют собой помещение из двух частей. Первая – это умывалка, а уже за ней то самое место, куда я так стремился. Так вот, меня хватило только до умывалки. Заскочив в нее, я захлопнул за собой дверь, и одновременно с ее грохотом захлопнулась дверь в мое светлое будущее. Глаза мои мгновенно наполнились слезами, а колготки… Все двери в этот день были против меня. Все двери в этот день были для меня закрыты. Там за стеной мои ровесники лепили самолетики, и я понимал, что не могу выйти к ним с полными колготками. Путь в общество был закрыт навсегда. Оставалось одно – бежать. И я побежал. Закрыв дверь из туалета, куда я так стремился, благо на ней был крючок, я открыл окно. Наша группа находилась на втором этаже, но рядом с окном проходила старая, коричневая от ржавчины водосточная труба. Было страшно… Но выхода не было. И я это сделал. Я перелез на трубу и медленно пополз вниз. Я уже говорил, что был мальчиком, мягко скажем, очень плотненьким… Не успел я преодолеть и полуметра, как труба с холодящим детское сердце скрежетом начала отделяться от стены, и я тут же впал в ступор и застыл, обхватив железяку всеми конечностями, которые свело от жуткого страха высоты. Не знаю, к счастью ли моему или к горю, но в это время внизу проходил тот самый дворник Савелий Семенович, который несколькими часами раньше выпиливал меня из домика. Увидев висящего на трубе на уровне второго этажа маленького толстого еврея в полных колготках, конечно, колготки он не разглядывал, это я так добавил, для красного словца, – так вот, увидев висящего на стене детсада ребенка, он ринулся в группу с неожиданной для его столь преклонного возраста прытью. Если бы у дверных крючков и защелок была душа, то они, наверное, ненавидели бы меня всей этой самой душой. Уж больно часто их вырывали из дверей, чтобы до меня добраться. Итак, дверь, теряя крючок, распахнулась, и в туалет влетели дворник и воспитательница. Савелий Семенович схватил меня, Татьяна Ивановна схватила Савелия Семеновича, и меня как репку втащили обратно в окно. Потом я, упав на колени, умолял, чтобы никто никому ничего не рассказывал, Татьяна Ивановна мыла меня и переодевала в рейтузы из шкафчика. Для детей была придумана легенда о том, что мне стало плохо и я потерял сознание. Я тут же стал героем группы, а потом и всего детского сада. Это ведь невозможно круто – потерять сознание.
Когда за мной пришел папа, он, конечно, как и любой другой папа на его месте, не заметил, что я уже в рейтузах. Татьяна Ивановна вынесла ему пакет, состоящий из моих колготок, завернутых в несколько слоев газет. Я, кстати, недавно научился читать и читал все надписи, попадавшиеся мне на глаза. Как сейчас помню заглавие какой-то статьи на этой газете: «Подвиг во имя…» Во имя чего, было не видно, потому что газета в этом месте загибалась. На вопрос «Что это?» папа получил ответ: «Это вам сюрприз от сына. Возможно, там даже есть деньги!» – «Да?» – живо отреагировал папа и потянулся развернуть сверток. «Нет-нет. Дома посмотрите». Татьяна Ивановна сдержала слово и никому ничего не сказала. Мое уважение к ней будет жить столько, сколько буду жить я.
Вот такой был денек… Дома папа развернул пакет. Но об этом лучше не писать…
Глава 2
Белые клавиши
Я купил дочке пианино. «Красный Октябрь» 1965 года выпуска. Такое же, какое мама взяла в пункте проката, когда мне было шесть лет. Это было событие, сравнимое для меня разве что с Новым годом. Четыре здоровых дядьки втащили блестящее, как наша полированная стенка в гостиной, коричневое чудо на третий этаж, больно придавливая друг друга на поворотах к перилам и обмениваясь выкриками, значения которых я еще не понимал, хотя и слышал некоторые такие слова от старших пацанов во дворе. Однако по порядку.
Однажды я пришел из детского сада и с загадочным видом попросил маму и папу сесть на диван в большой комнате. Папа отложил газету, мама – недолепленные котлеты, и я начал одно из первых своих выступлений. Включив проигрыватель «Рекорд-320» и поставив пластинку группы, кажется, «Самоцветы», я под песню «Увезу тебя я в тундру» лихо отплясал вприсядку. Родители восторженно зааплодировали. Теперь, когда я сам родитель, я понимаю, что особо восторгаться наверняка было нечем, что в этих аплодисментах папы и мамы крылся аванс моим предполагаемым будущим жизненным успехам. Но тогда, окрыленный признанием, я, подбоченясь (подбочениваться нас научили, когда мы готовили в саду танец казачков ко Дню Советской армии), заявил, что хочу учиться играть на пианино. На резонное родительское предложение пойти в танцевальный кружок я ответил категорическим отказом и добавил что-то вроде того, что они ничегошеньки не понимают в искусстве. Если точнее, то с криком «Только пианино!» упал на пол и стал рыдать. Папе и маме не помогло ничего. И то, что они убедительно объясняли мне, что в музыкальную школу берут с семи лет, а мне только шесть, и то, что сейчас на дворе ноябрь, а вступительные экзамены в сентябре… Дело дошло до истерики, которая повторялась день за днем, как только я возвращался из сада. В конце концов родители сломались, и папа позвонил в музыкальную школу… Не знаю, каких трудов ему стоило уговорить педагогов сделать для меня исключение, но они это сделали.
И вот день настал. На меня надели матросский костюмчик – это был мой комплект на выход, и за руку с папой я отправился на индивидуальный вступительный экзамен. Сердце мое трепетало, когда я переступил порог храма музыки, который располагался под шиферной крышей одноэтажного деревянного здания с печным отоплением. Мне страшно нравился этот запах натопленных печей. Потом, в перерывах между гаммами и этюдами, я с неизъяснимым, но таким знакомым всем, кто хоть раз топил печь, наслаждением буду подбрасывать дрова в большую, от пола до потолка, выкрашенную серебрянкой круглую печь и слушать рассказы моего любимого педагога по специальности Анатолия Александровича Алексеева или, как его звали старшие девочки – Три А. Но это будет потом, а сейчас я уверенно хамил еще незнакомому мне Анатолию Александровичу, который в целях определения моих способностей пытался запутать меня в клавишах. Папа краснел и прятал глаза от педагогов, Анатолий Александрович счастливо хохотал и давал мне все более сложные задания, а я свирепел от его, как мне казалось, попыток разрушить мою мечту и колотил по клавишам, не поддаваясь на его происки. В общем, меня взяли. Три А сказал, что никому меня не отдаст и я буду учиться в его классе. Он мне понравился. У него были длинные волосы и загибающиеся вниз усы. Вообще, он был похож на певца из телевизора, который пел про Олесю в Полесье. Олеся в Полесье, кстати, это моя первая мечта о женщине. Я страшно хотел увидеть красавицу, о которой даже птицы кричат. И был уверен, что придет время, и я ее обязательно найду. И вот часть этой симпатии к Олесе досталась Анатолию Александровичу, потому что он был похож на певца, который был знаком с Олесей и написал про нее отличную песню. Анатолия Александровича я встречал в городе и раньше. Его можно было узнать издалека. Он прихрамывал на правую ногу, и длинная прическа покачивалась в сильную долю. Одноклассники из музыкалки по секрету рассказали мне, что прихрамывал он не на ногу, а на протез, что правой ноги ниже колена у него вообще нет. Это добавило загадочности в его и так романтический образ. Спросить, куда делась нога, я стеснялся, но часто об этом фантазировал, выдумывая про нее разные истории. Вот молодой Анатолий Александрович в армии наступает на мину, а вот заблудился в лесу и ногами отбивается от стаи волков. Иногда он даже становился одноногим пиратом, потерявшим ногу во время абордажа. Но, хотя ему бы очень пошли камзол и сабля, я быстро отметал эту мысль, потому что понимал, что пираты давно вымерли.
Из-за отсутствия ноги Три А нажимал педаль левой, а правую, когда садился за пианино, всегда отставлял в сторону. Я нажимал на педаль правой. Прошло много лет, но, когда я сажусь за пианино, отставляю левую ногу в сторону.
Остаток года в детском саду прошел просто сказочно. Я стал практически взрослым. Мне купили коричневую, пахнущую клеенкой нотную папку с оттиснутой на ней лирой, и я самостоятельно посещал музыкальную школу, ведь родители были на работе. Для этого я уходил из детского сада раньше времени. Мне завидовали абсолютно все. Даже воспитатели. На детсадовском выпускном я исполнил два этюда, спел песню про пограничников и, конечно, сплясал вприсядку.
Впереди была широкая светлая дорога, ведущая в школу, и огромная, необозримо огромная жизнь. В ней больше не было места послеобеденному сну, противной вареной свекле и деревянному домику на участке подготовительной группы. Но я не жалел о них. О ком я жалел, так это о Якубке и Клубке. Это два мифических существа из моего детства, с которыми я заочно очень дружил и когда-нибудь собирался познакомиться. Я их не придумывал. Про Якубку мне спел Михаил Боярский в фильме «Три мушкетера»:
Пора-пора-порадуемся на своем веку
Красавице Якубке, счастливому клинку.
Когда я попросил Три А помочь мне подобрать на пианино эту песню, он долго хохотал, а потом сказал мне, что никакой Якубки нет. Есть кубок. Радоваться надо было красавице и возможности выпить вина. Целый сказочный мир рухнул в этот момент в моем сознании. Я очень переживал. Почти как тогда, когда Яна из нашей группы переехала в другой город навсегда, и папа с мамой объяснили мне, что мы, наверное, больше не встретимся. Ну а с Клубкой после Якубки я разобрался сам. Я думал, что Клубка – это существо вроде Мурзилки. Только Мурзилка сочиняет журнал для детей, а Клубка путешествует с кинокамерой и присылает рассказы о разных странах дядьке, который их пересказывает по телевизору. Оказалось, что телепередача называется не «Клубкино путешествие», а «Клуб кинопутешествий». Короче, Клубка отправился вместе с Якубкой туда, где мы не встретимся, наверное, никогда.
В остальном моя жизнь складывалась удачно. Хотя нет. Забыл сказать, все-таки было еще одно событие, омрачившее безоблачное небо моего дошкольного детства. Девятого мая, а девятого мая родился мой папа, и поэтому в доме всегда был двойной праздник, у нас собрались гости. Приходили они после парада, на котором все взрослые шли в своих колоннах по месту работы, а мы с братом менялись колоннами, потому что папа шел с колонной медиков, а мама – с колонной службы бытового обслуживания. У папы в колонне было веселей – там было много мужчин, которые непонятно шутили, но очень заразительно смеялись и мощно кричали «ура», когда толстый голос из громкоговорителей объявлял: «Мимо трибун шествует колонна Питкярантской районной больницы! С годовщиной Победы! Ура, товарищи!» Я всегда удивлялся, что я шествую, потому что по моим ощущениям – я просто шел, да и трибуна была всего одна, и, как я ни старался, я никогда не мог увидеть вторую. В колонне у мамы было не так весело, зато тетеньки не курили вонючие папиросы и угощали конфетами. Главное, надо было поздороваться, поздравить с праздником и пожелать мирного неба над головой. К концу парада карманы моего светло-коричневого в мелкую крапинку пальто с воротником из черного короткого, наверное искусственного, меха были набиты разными батончиками и карамельками. Кульминацией парада, конечно, был воинский салют после того, как под грустную музыку на гранитные плиты с фамилиями ставились венки из пластмассовых листьев. Они были каждый год одинаковые, и некоторое время я думал, что их просто накануне убирают с плит, немножко моют и во время парада ставят на место. Салютовали солдаты, специально для этого привезенные из соседней пограничной части вместе с карабинами и настоящими патронами, гильзы от которых были самой желанной добычей для любого мальчишки Питкяранты от пяти до восьми лет. Те, кто младше, еще ничего не понимали в гильзах, а те, кто старше, считали ниже своего достоинства бросаться под ноги солдатам, как только они опускали от плеча карабины. Короче, парад на День Победы был огромным событием в нашем городке. Таким же большим, как демонстрация на Первое мая. Они, кстати, ничем друг от друга не отличались, кроме того, что на Первое мая не было салюта и часто шел снег. К этим датам мама готовилась еще в середине апреля. Как только на улице обрезали тополя, мы с папой выбирали прямые веточки и приносили их домой. Еще папа срезал где-то ветки вербы. Мама ставила их в наполненных водой бутылках из-под молока на подоконник, и происходило чудо. Через некоторое время почки утолщались, и из них показывались липкие ярко-зеленые листики. А из почек вербы высовывались, как будто кончики заячьих ушей. Пушистую вербу было очень приятно трогать подушечками пальцев, а зеленые листочки нюхать. За окном еще было совсем холодно, а у нас на подоконнике царила весна. За пару дней до праздников мы с мамой делали из цветной гофрированной бумаги разные маки и розы, а утром, в Первомай или День Победы папа надувал воздушные шарики. Ветки вытаскивались из бутылок, к ним привязывались цветы и шары, и с этой красотой в руках я, брат и мама шли в праздничных колоннах. Папа с ветками не ходил. Он нес или фотографии старых серьезных дядек, или красную тряпку на палке. На тряпке были написаны разные, в зависимости от праздника, предложения, но начинались они почти всегда одинаково – со слов «Да здравствует». Дядьки на фотографиях были всегда серьезные, в черных костюмах и галстуках. Некоторых из них я видел по телевизору. Непонятно было, за что и зачем их показывают. Они были страшно скучные и почти всегда по бумажкам медленно читали какую-то белиберду. Особенно часто выступал самый старый дед с хриплым голосом. Читал он очень плохо, все время сбивался, чмокал, кашлял и издавал всякие смешные и противные звуки. У нас бы в детском саду любого за такое чтение отстранили от участия в празднике или просто не дали бы слов. Вот Лёне Хоркину никогда не давали слов. Он стоял на утренниках в общем ряду, но всегда молчал. Потому что ничего не мог запомнить. Однажды Лёне все-таки дали выучить одну строчку и когда до него дошла очередь, он стал говорить так медленно, делал такие паузы между словами и так жалобно втягивал носом, что Лена Пронина, стоявшая рядом, не выдержала и выпалила его фразу. Лене влетело от воспитателей и родителей, но Лёне больше слов не давали. А этому деду слова давали всегда. Каждый день. Было непонятно, почему вместо этих скучных людей не показывают мультфильмы и кино. И почему на фанерке, прибитой к древку, носят по праздникам именно их фотографии, а не тех, кто действительно это заслужил. По моему мнению, там должны были быть Волк и Заяц из «Ну, погоди!», Паспарту из «Вокруг света за 80 дней», Алла Пугачева, Дядя Федор, кот Матроскин, дети капитана Гранта и другие достойные люди. Несколько раз я задавал этот вопрос родителям. Они смеялись одобрительно, но немного странно, как заговорщики, и говорили мне в ответ, чтобы я не болтал ерунды. Но я понимал, что я прав. Потому что, когда после парада гости собирались за столом, включались пластинки с Пугачевой, а не с этим странным дедом.
Я отвлекся. Праздник, парад, папин день рождения.
Застолье, как любые хорошие посиделки, поделилось на три этапа. Сначала взрослые говорили тосты и делились новостями. Потом пели под гитару дяди Гриши про то, что только пуля казака догонит, и танцевали, все время поправляя прыгающую от их топота иглу проигрывателя, а потом разрезали торт и стали грустить о том, как быстро летит время. Папин друг, дядя Гриша, со светлой грустью отметил, что и дети уже совсем большие… Все дружно и грустно вздохнули, и я, чтобы поддержать взрослый разговор, в тон дяде Грише, но достаточно гордо добавил: «Да… и я вот уже с горшка на унитаз пересел…» Взрыв смеха, который за этим последовал, даже ржанием назвать трудно. Я в слезах кинулся в свою комнату, которую от гостиной отделяла тонкая стенка, не заглушавшая неутихающего смеха, бросился на кровать и стал бить в стену ногами, пытаясь остановить это безудержное веселье. Минут через десять в комнату заглянул папа и пообещал, что я получу. Я оставил стенку в покое, но обиду на эту компанию, а особенно почему-то на дядю Гришу затаил нешуточную. Но это уже другая история…