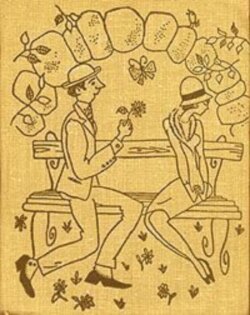По-моему, это только справедливо, если в конце сборника мне предоставят несколько страниц, где бы я мог с полной откровенностью высказать то, что думаю.
Еще две недели назад я взялся бы за перо, чтобы написать о юморе с уверенностью всеми признанного авторитета.
Но увы! Это золотое время прошло. У меня уже не та репутация. По совести говоря, я полностью разоблачен. Некий английский рецензент, помещающий свои статьи в весьма солидном журнале, одного названия которого вполне достаточно, чтобы снять любые возражения, написал обо мне примерно следующее: «Что такое, в конце концов, юмор профессора Ликока, как не ловко составленная смесь гиперболы и литотеса?»
Он совершенно прав. Не понимаю только, как ему удалось разнюхать мои производственные секреты. Но, поскольку тайна уже раскрыта, я охотно признаю, что он действительно докопался до истины: изготовляя что-нибудь юмористическое, я, как правило, спускаюсь к себе в погреб и смешиваю полгаллона литотеса с пинтой гиперболы. Если по ходу дела желательно придать моему новому произведению беллетристическое звучание, я обычно прибавляю еще полпинты катарсиса. Как видите, нет ничего проще.
Все это я говорю только для того, чтобы предпослать моей статье своего рода введение, к тому же мне хотелось бы развеять даже самую мысль о том, будто я настолько самоуверен, что берусь писать о юморе с таким же профессиональным апломбом, с каким Элла Уилер Уилкокс [1] пишет о любви, а Ева Гэнгвей [2] рассуждает о балете. Единственное, на чем я позволяю себе настаивать, – это то, что я обладаю не меньшим чувством юмора, чем другие люди. Впрочем, как это ни странно, я еще не встречал человека, который не думал бы о себе того же. Каждый признает, когда этого нельзя избежать, что у него плохое зрение или что он не умеет плавать и плохо стреляет из ружья. Но избави вас бог усомниться в наличии у кого-нибудь из ваших знакомых чувства юмора, – вы нанесете этому человеку смертельное оскорбление.
– Что вы! – сказал мне на днях один мой приятель. – Я никогда не хожу в оперу. – И с гордым видом добавил; – У меня совершенно нет слуха.
– Не может быть! – воскликнул я.
– Клянусь вам! Я не в состоянии отличить один мотив от другого. «Родина, милая родина» или «Боже, храни короля» – мне все едино. Я не разбираю – когда еще только настраивают скрипки, а когда уже играют сонату.
Его прямо-таки распирало от гордости, и он приводил все новые и новые факты, словно хвастаясь своим недостатком. В заключение он сказал, что его собака куда музыкальнее его самого: стоит его жене или кому-нибудь из гостей сесть за рояль, как чуткое животное начинает выть, да еще так жалобно, словно от боли. У него лично никогда не возникало такого желания.
И тут я позволил себе вставить, как мне казалось, совершенно безобидное замечание.
– С юмором у вас, должно быть, тоже неважно, – сказал я. – Ведь тот, кто лишен слуха, как правило, лишен и чувства юмора.
Мои приятель побагровел от гнева.

– Чувства юмора! – крикнул он. – Это я-то лишен чувства юмора! Я! Да если хотите знать, юмора у меня хоть отбавляй! У меня его хватит на двоих таких, как вы.
И он накинулся на меня, утверждая, что если у меня когда-нибудь и было чувство юмора, то теперь оно явно исчезло.
Он ушел, весь дрожа от негодования.
Все же лично я не боюсь признаться – пусть даже себе во вред, – что некоторые, с позволения сказать, формы юмора или, вернее, забавы совершенно недоступны моему пониманию и среди них в первую очередь то, что англичане называют практической шуткой.
– Вы, кажется, не были знакомы с Мак-Гэном? – спросил меня на днях один приятель, и когда я подтвердил, что действительно никогда не знал Мак-Гэна, вздохнул и сочувственно покачал головой.