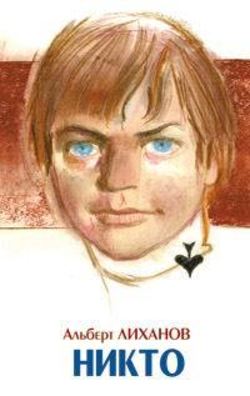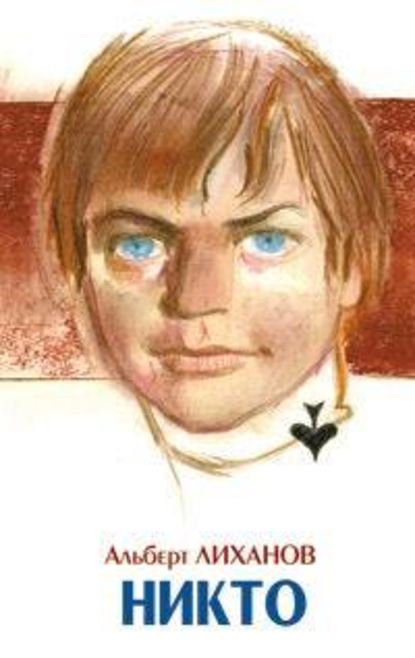Часть первая
Нечаянный интерес
1
По имени звали его очень редко, да и как тут станешь по имени к каждому обращаться, когда одних вот Колек не меньше чем десятка три во всем интернате из двух-то с половиной сотен живых душ, так что для различения училки да воспитательницы звали их по фамилиям, а меж собой обращаться принято было по кликухам, придуманным, кажется, не кем-то лично, каким-нибудь остроумцем, а, можно сказать, самим существованием. Как-то так выходило, что кличка выговаривалась сама собой, нередко даже самим ее будущим владельцем, порой произносилась в споре о чем-нибудь совершенно постороннем, и кем произносилась, никто потом вспомнить не мог, и были они, их новые имена, самыми разными – от нейтральных, как у него, вполне естественных, до обидных и даже оскорбительных – но это оставим пока в стороне.
Его же кликали Топорик, Топор, а когда сердились, то и Топорищем, хотя это слово означало совсем иное, чем означает топор. Все шло от его фамилии Топоров, а по имени его звали Кольча – ласкательно и уменьшительно сразу.
Светлоглазый, с круглым лицом, в раннем детстве он был одним из стайки головастиков, не просто похожих друг на друга, но абсолютно одинаковых, а потом, с годами, не то чтобы вырвался вперед, а отошел в сторону, пожалуй. Обрел масть – темно-русые, откуда-то шелковистые красивые волосы, которые, если их не состригать безжалостно воспитательскими ножницами, наверное, предназначенными когда-то для стрижки баранов, льются волшебными струями от макушки во все стороны, легкие и пышные, сами по себе составляя в зависть беспородному девчачьему большинству неслыханное богатство.
Еще одна подробность – брови. Казалось бы, и они должны иметь цвет в масть волосам, но по прихоти природы брови у Кольчи были абсолютно черные, ровно насурьмленные, и разлетались от переносицы прямыми стрелками, придавая его лицу решительное выражение.
Широкий нос с широкими же ноздрями и широкие губы завершали Кольчин облик какой-то утвердительностью, определенностью, твердостью. С годами он обогнал сверстников ростом, хоть и был при этом тонок, как прут или лозина, но главное, всегда обгонял остальных каким-то непонятным признанием, никоим образом им самим не создаваемым.
Причиной признанию были два качества – вот этот самый решительный вид и неспешность заключений.
Среди этих неспешностей были явные, когда требовалось вынести свое суждение о ком-то или о чем-то. Но были и тайные.
На глазах у него время от времени происходили странные сцены, на которые он взирал в разные годы своей жизни по-разному. Пока был мал и не больно смышлен, он независимо от себя почему-то волновался, подрастая же, волнение это как будто заталкивал вглубь себя, сам же усмехался снисходительно, выражая презрение всем своим видом, но непонятно для самого себя всегда помалкивал.
А сцены эти были такие. Вдруг во дворе интерната появлялась женщина и начинала, обращаясь к тем, кто тут оказывался, охотнее же все-таки не к взрослым почему-то, а к детям, просить, чтобы ей позвали Нюру такую-то или Васю такого-то. Заторможенный интернатовский народ начинал вслух соображать, о ком же конкретно идет речь, впрочем, чаще всего замедленность эта объяснялась тем, что имена в интернате слегка подзабывались, уступая, как было сказано, место кличкам, и требовался ресурс времени, чтобы определить искомую фигуру. Наконец, ее высчитывали, будто решали задачку, и за званым или званой устремлялся гонец, и чаще всего не один; бывало, что в погоне, оттирая друг дружку, обгоняя, ставя подножки, гонцы забывали свою задачу, затормаживая или даже останавливаясь вовсе и обмениваясь тумаками, и тогда оставшиеся в ожидании начинали им орать, чтобы те вспомнили, зачем они вызывались бежать.
И вот во двор выбегал пацан или девчонка, которую звала женщина. Выход этот взирала уже, как правило, целая толпа – к тому времени, пока вычисляли, к кому пришли, скачки гонцов и, главное, сам факт появления постороннего человека выводил на улицу немалую часть интернатовского люда, среди которого возвышались и взрослые фигуры – учительница, воспитательница, а то и сам директор Георгий Иванович.
Высокий и тощий, вершитель судеб, генеральный прокурор и верховный судья, начальник и милостивец, человек всегда и во все вмешивающийся, он тем не менее в таких вот положениях никогда не торопился. Выходил, стоял среди ребят, сходил с тропки, сдвигался в тень и там все ждал, когда найдут того, кого ищет женщина. Наконец вызываемая фигура являлась. Женщину признавала, ясное дело, издали или даже вовсе еще не видя, и вот тут бывало по-всякому.
Чаще всего, если это была девчонка, она бежала к этой Женщине. Маленькие девчонки ревели при этом, и тогда народ, не задерживаясь, расходился. Девчонки постарше могли идти не спеша, на одеревеневших ходулях, лицо покрывалось рваными алыми пятнами, народ снова разбредался, но не так поспешно. Мальчишки постарше приближались нерешительно, и было ясно, что они боятся, как бы остальные не разглядели их слабины.
Странное дело, ни одна из женщин, приходивших в интернат, не запомнилась Кольче. И фигурами, и лицами, и одеждой, и даже родом они все походили одна на другую, будто были скроены, сшиты одной рукой. Этакие одинаковые поношенные куклы. На них мог быть платок или берет, они могли быть простоволосы, но это не обманывало проницательный взгляд. Лица стерты и невыразительно круглы, ноги коротки и некрасиво обуты, руки недлинны, а сами тела будто обрезаны – этакие обрубыши.
Это были матери, когда-то родившие сдержанно идущих к ним или опрометью бегущих детей. Детей, которые им больше не принадлежали, и потому, наверное, наблюдавшие интернатовцы женщин этих матерями не называли, а называли мамашками.
Давно прошли времена, когда врали про своих родителей, выдумывая им красивые беды. Мол, отец сидит в тюрьме, потому что защищался от бандитов и одного убил. Или, дескать, родители погибли в автокатастрофе. Нынче правда не украшалась, наоборот, по новой неписаной моде дети старались ее подчернить. Не раз Кольча слышал, как вполне хладнокровно какая-нибудь интернатовская девчонка, сама слывущая недотрогой, называет свою мамашку проституткой. Он поражался, когда обнаруживал эту проститутку во дворе: такая же, как все остальные, – плосколицая, коротконогая и короткорукая кукла в обтертом плаще – кому она нужна. Он представлял себе проституток совсем другими.
Кольча знал, как и знали все остальные: бывшие матери приходят сюда со страхом. Некоторые для храбрости принимали полстакашка, и это было видно на расстоянии не одним детям, но и взрослым, особенно Георгию Ивановичу, и он, бдительным оком установив сей факт, не удалялся, а, напротив, приближался к мамашке и ее дитю, но для начала на деликатное расстояние, чтоб не слышать внятно их разговора, а если устанавливал, что допустимая норма в полстакашка неразумно преодолена и мамашку несет не в ту степь при рассуждениях о жизни и ее бедной доле, выдвигался на ближние позиции и требовал обтертую куклу покинуть вверенную ему территорию.
Пару раз Кольча вместе со всеми бывал свидетелем громких скандалов на эту тему, но чаще всего одинаковые куклы одинаково тихо исчезали, чтобы появиться через полгода, через год или вовсе не появиться.
Зачем они являлись вообще? Чтобы отдать своему дитю шоколадку и полистироловую игрушку – какого-нибудь крохотного медвежонка? Чтобы все в интернате узнали, какая у тебя мать?
А несколько раз, то ли по причине редких посещений, то ли из-за пропитой памяти, а может, по иным, неведомым первому взгляду причинам мамашки просили позвать своего сынка или доченьку у ребячьего кружка, в котором и были эти сынок и доченька, не узнавая их. На фиг нужны такие мамашки?
Впрочем, тоже пару раз, не более того, Кольча видел, как безликий обрубок менялся, превращался в человека.
Это выглядело странно, во многом непонятно, потому как невидимо, по крайней мере им, детям, и происходило главным образом где-то на стороне. Оба раза матери эти сидели в колонии за какие-то незримые отсюда дела, приходили обтрепанные, похуже остальных, но трезвые и, обняв своих дитяток, просились в кабинет к Георгию Ивановичу. Тот не отказывал, они удалялись. Выходя от него, женщины казались просветленными, появлялись вновь и вновь, сразу направляясь в директорский кабинет, и, наконец, по интернату, точно сквозняк, проносилась весть: такая-то мамашка снова стала матерью, восстановила свои родительские права, а такая-то и вообще их не теряла, но после колонии потребовалось время, чтобы устроиться на работу, и она забирала своего ребенка.
В первый раз, помнится, им был шестилетний пацан, еще не заслуживший даже клички. К младшим до определенного возраста, когда человек может чем-то отличиться, до времени получения заслуг, обращаются одинаково обезличенно: «Эй, пацан!» – и этого бывает достаточно. К белобрысому маленькому пацану, одному из немногих, а потому одинаковому, вернулась мать. А потом счастливицей оказалась девочка по кличке Мусля. Была она черноголова и черноброва, походила на цыганку, но оказалась не то татаркой, не то башкиркой, кто-то, может она сама, сказал, что она мусульманка, и это слово, непривычное для интерната, странно трансформируясь, обратилось в кличку.
За Муслей пришла ее такая же черная мать, коротенькая, невзрачная, затерханная, как другие матери, но, когда они уходили, Кольча поразился ее изменившемуся лицу: щеки у Муслиной матери порозовели, зато лоб и нос побелели, будто их сильно подчистили, как-то осветлились, и жгуче-черные глаза и брови контрастно сияли на этом белом от страха с розовыми пятнами лице.
Георгий Иванович никогда не устраивал никаких проводов. Однажды он обронил фразу, которая, хотя ее больше никогда не повторяли взрослые, жила в интернате самостоятельной жизнью, то ли негласно передаваемая из уст в уста, то ли вообще обреталась в воздухе, подразумеваемая как явная истина. А и сказал-то он вроде того, что не надо торжественных проводов, потому как может ведь все обернуться неторжественным возвращением.
Господи, да разве же напугаешь этих ребят таким предсказанием! И все же лучше не терять фразы. Они – не вещи, их не найдешь, не вернешь обратно.
Так вот о мамашках. Они приходили. Не часто, но все же. Приходили и тетки, двоюродные сестры, еще какие-то дальние женщины. Приносили мелкие гостинцы и еду, будто здесь не кормили, видите ли. Мужчины не появлялись. Словно не было у этих ребят отцов. Или хотя бы дядьев. Нет, не долетал до этого интерната мужицкий дух.
А к Коле Топорову вообще никто не приходил. Когда он был маленьким, ждал, что придут. Но он не один такой. Таких хватало. И все же как-то постепенно, без всяких объяснений со взрослыми, даже среди тех, к кому не приходили, произошел окончательный отсев: так или иначе дети узнавали, что и у них кто-то и где-то есть. Если и не запропавшая мамашка, то еще хоть кто-то, старая бабушка, например… В окончательный осадок выпало совсем немного, но и ведь немало – душ десять. Им ничего не говорили, а они не спрашивали… Топоров был среди них.
Он давно перестал ждать затерявшегося гостя, а когда стал Топором и уж тем более Топорищем, смотрел на эти мамашкины явления со скрытым презрением.
Однако что-то мешало его выразить.
Ему, давно не стеснявшемуся выражать свои чувства.
2
К этому праву выражать свои чувства без всякого стеснения лежал длинный путь – во всю его жизнь. Впрочем, чувств у Кольчи было немного – как и у каждого из них. Он не знал, например, что такое нежность. Просто потому, что ничто и никогда не пробуждало в нем такого чувства, оно не требовалось в его жизни. Что-то щемящее толкнулось, правда, однажды ему меж ребер, когда на заднем дворе в дощатой клетке крольчиха родила крольчат и дворник Никодим дал ему в руки пушистый комочек. Дрожащая, теплая, беззащитная плоть, ощущение полной власти над ней родило в нем прямо противоположное чувство бесконечной слабости и желания слиться с ней. Он постоял, покачиваясь, прижимая к животу пушистый комочек, потом положил его к крольчихе, поглядел еще недолго на маленьких ушастиков, отправился по своим делам и сразу забыл про непонятное ощущение, толкнувшее его куда-то левее и ниже горла, а увидел этого – или похожего – кролика через несколько месяцев в виде скользкой туши, освобожденной от шкурки, совсем ему незнакомой, висевшей как тулуп летом, вывернутой мездрой наружу на дощатом заборе, огораживающем крольчатник.
Ничто в нем не шелохнулось, хотя он сразу сказал себе: это тот крольчонок. Никакой нежности он не вспомнил.
Не было в нем и любви. Ведь любовь сама по себе не возникает, вроде бы не летает в пространстве, будто чайка. Может быть, она похожа на эхо, ведь ее смысл – обязательно в ком-нибудь откликаться. Сильное сердце рождает любовь, она исходит невидимыми волнами, ее ударяет в другое сердце и, если вызывает ответ, возвращается назад – и так они обмениваются незримыми волнами, неслышными словами, предназначенными только для двоих, и любовь жива, пока сердца способны излучать адресованные друг другу сигналы.
Есть волны, обращенные от мужчины к женщине, но начинается в мире все не с этого, а с волн, которые обращены от больших к маленьким, от матери к дитю, от отца к своему малышу.
Но движутся ли к чужому ребенжу эти волны? Вряд ли, хотя слов об этом сказано великое множество, да толку-то? И еще если этих чужих детей – почти три сотни?
Нет, в безответном мире любви не бывает, и пустое дело ждать ее от тех, в чье сердце ни разу не стукнула волна взрослой нежности. Откуда взяться ответному импульсу? Куда направить свою собственную волну, если ты даже и жаждешь обратить извне свое чувство? На взрослую тетю, которая ответит устало-равнодушным взглядом? На дружка, который, как и ты сам, пуст и не изведал живящей волны интереса к себе?
Увы, увы, пуста, не заполнена добрыми чувствами аура детского интерната, зато полна чувствами недобрыми, рано повзрослевшими – у чувств ведь тоже есть возрасты.
Среди интернатовских была темная забава – курево для лягушек. Отыскивали лягушку, желательно покрупнее, раскуривали папироску и всовывали ей в рот. Лягушка сразу раздувалась и, если из нее папироску вытащить, пускала струю дыма. Все интернатовские хохотали, для них это была элементарная шутка, а вот посторонние, даже пацаны, не говоря уж о девчонках, шарахались в сторону и торопились поскорее уйти. Поэтому, поймав лягуху, Кольча в окружении своей братвы выходил на улицу, ждал, когда кончатся уроки в соседней, «нормальной» школе, и учинял аттракцион как бы напоказ, когда приблизится кучка посторонних, штатских зрителей.
Себя они считали вроде как военнообязанными, еще точнее, рекрутами, но это слово пришло позже, после пятого класса, когда его узнали из учебника истории. Впрочем, и понятие военнообязанный тоже являлось откуда-то сверху, из старших классов, из взрослого мира, осознание же своей особенности приходило из собственного нутра: да, в отличие от этих гражданских, штатских, родительских школяров, интернатовских объединяло нечто обезличенное, государственное, до поры до времени прикрывавшее их и позволявшее делать если и не все что угодно, то многое из того, чего этим, родительским, возбранялось, за что штатским воздавалось дома, а дом интернатовцев был слишком велик, чтобы возились с каждым за каждое прегрешение, да еще совершенное целой толпой! Когда же ты грешишь не один, а вместе с товарищами, спрашивать, в сущности, не с кого и наказывать некого. Не накажешь же сразу семерых-восьмерых. Вот почему курили мальчишки поголовно с пятого класса, а некурящий был белой вороной, и долговязый Георгий Иванович, не говоря об училках и воспитательницах, ничего с этим поделать не мог. Выходило, пацаны из «нормальной» школы если и покуривали, то тайком, это для них было геройство и нарушение правил, интернатовцы же смолили не таясь, даже наглея, просили прикурить у взрослых прохожих, которые, окруженные толпой хихикающих пацанов с наглыми взорами, заметно робели и вместо того, чтобы шугануть малолеток как следует, с готовностью щелкали зажигалкой или доставали коробок спичек.
Так вот и определялся возраст жестокости.
То, что было не с руки даже десятиклассникам из родительской школы, полагалось нормой среди интернатовских, включая совершение забав вроде курящей лягушки или налетов на чужие сады, регулярных наскоков на старшеклассников из «нормальной» школы – дабы подчеркнуть их ненормальную слабину, нечастые, но случавшиеся все же время от времени взломы садовых домиков по окраинам городка или полудеревенских, вырытых в земле частных хранилищ овощей, где народ прятал законсервированные в банках помидоры, огурцы, овощную икру и прочую снедь, включая даже мясную тушенку.
Продукты воровали не из-за голода, а из-за желания испытать слабость закона, ведь чаще всего грабителей находили, но проводить серьезное разбирательство, судить, отправлять в колонию из-за нескольких, пусть и трехлитровых, банок с тушенкой да пары-тройки сосудов с огурцами никакая милиция не решалась, то ли потому, что речь шла не об одном воришке, которого следовало изолировать, а о целой группе, в которой ни один никогда не назовет заводилу по неписаным интернатовским правилам, то ли потому, что милицейские и другие государственные чины, видать, в душе не сильно отделяли интернат от колонии, сливая их в своем сознании почти в одно и то же, а может, все-таки жалели ребят, понимая, что из колонии им ход один – на большую дорогу, а тут, глядишь, ничего, вырастут и как-то устроятся: нынче и семейные дети – оторви ухо, чего уж про интернатовских говорить.
Ну а Кольча, вырастая потихоньку параллельно со всеми остальными своими корешками-интернатовцами, нутром и кожей все яснее чувствовал свою – и всех их – особенность. Она состояла в том, что, отвергнутые родными – очевидными и безвестными, – они становились как бы собственностью государства, его грузом, и никуда оно, родное, от них не денется – будут они в интернате, колонии или позже во взрослой зоне. Везде ему придется их кормить, поить, обувать, одевать, не дать заболеть, а коли заболеют – лечить, в общем, возиться, как возятся со своими детьми их родители. Ну а если у детей нет родителей, так тому и быть: возиться должно государство посредством своих многочисленных Георгиев Ивановичей, училок и воспитательниц на всем протяжении великой нашей и неповторимой отчизны.
И хотя внятных представлений о необозримости своей отчизны Кольча сотоварищи не имел, как и о масштабе и бедственности заведений, в одном из которых пребывал, он ясно ощущал главное – что Родина его похожа на замусоленных мамашек, которые в полутрезвом состоянии являются на интернатовский двор, чтобы быть облитыми слезами своих детей и обсмеянными их сверстниками, что отчизна, взявшая их под покровительство, не справляется с материнскими своими обязанностями, а за то должна быть помалу и наказана своими непутевыми детьми.
Чем? Да разным. Но для начала тем, чтобы прощать их мелкие пакости, их налеты на овощные ямы, синяки и шишки их благополучным сверстникам в качестве компенсации за несправедливость судьбы, их с малолетства желтые, не очень чищенные и прокуренные зубы, виртуозное обращение с непубличной, непечатной частью русского языка, взрослую жестокость и незнание любви, нежности и других сопливых чувств, от которых, как хорошо известно в интернатовском обществе, ни тепло, ни холодно.
Бессознательно жизнь учила их эффективным чувствованиям – беспощадности в борьбе за самого себя, краткости товарищества и дружбы, простиравшихся только до определенного предела, например, до границы, внутри которой может существовать каждая проказа и общий ответ, но за ее чертой не было ничего, никаких обязательств и привязанностей – там каждый избирал свое сам.
Они нападали толпой, отчетливо зная, что, если обиженные толпой же поймают тебя одного, жаловаться некому и придется за всех ответить самому, помалкивая и не ища ничьего утешения.
Не требуя того публично, внутренне они ждали от мамашки-отчизны еды три раза в день, желательно чистой постели, подспудно ждали ученья, пригляда, крыши над головой и теплых батарей в палате, внятно сознавая, что без этого будет плохо, и подсознательно чуя, что, лишившись этого, им предстоит чего-то сделать.
Чего – этого они точно не знали. Может быть, учеба, работа, еще что-то такое, чего они тайно страшились. И что было далеко впереди. Пусть даже и произойти это должно через месяц, и об этом все знали.
Отсутствие чувства времени – еще один признак казенного сиротства. В спальнях не бывает больших настенных часов, окружающие, как это происходит с родителями, никуда не торопятся, поглядывая на часы, поторапливая детей, нервничая и создавая ситуацию, когда ощущаешь срок, знаешь час и чувствуешь минуты.
У самих интернатовцев часов нет, так что все они делают не по минутным стрелкам, а по командам. Команда – подъем. Команда – на завтрак. Закричит воспитательница, значит, надо что-то дальше делать по ее расписанию, например, идти на прогулку. На какую-нибудь репетицию. На самостоятельные занятия. Ну и, конечно, по команде – криками и звонками – на уроки в соседний, школьный корпус. А там: звонок – урок, звонок – перемена, снова урок, и так считают до пяти, до шести – кому сколько полагается. Часы снова не нужны.
Бывало, часы дарили выпускникам. Или шефы какие расщедрятся, или Георгий Иванович сам поднапряжется – то ли купит, то ли просто раздобудет, и, бледнея от торжественности момента, жмет на прощальной линейке каждому руку, вручая бесценный дар хоть и отечественного, не самого лучшего производства.
Но Кольча знал, как знали почему-то и все остальные, что это бесполезняк: часы дарят поздно. И ребята, выросшие в интернате, разбежавшись кто куда – на ученье или работу, – все равно станут просыпать и опаздывать, зарабатывая всякие небрежные эпитеты, потому как всю жизнь шевелились по командам, а теперь эти команды исчезли и приходилось жить по часам, к которым они никак не смогут привыкнуть.