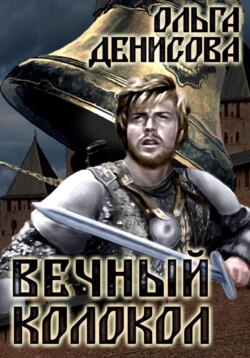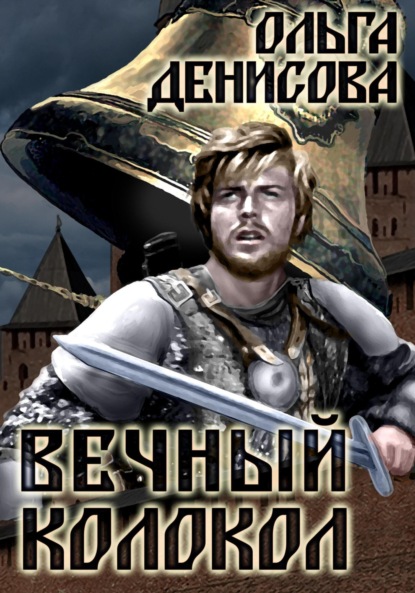Предисловие
Я не пишу исторических романов. Мне интересна связь времен, переплетение в одном клубке отголосков истории настоящей, выдуманных миров и сегодняшней действительности. И роман «Вечный колокол» – это, скорей, игра в историю. Мир, в котором хотелось бы жить.
Представьте себе, что ключница княгини Ольги Малуша Любечанка не родила князя Владимира. И в 988 году крещения Руси не произошло.
1510 год. В истории настоящей – год присоединения Пскова к Москве. Новгород давно стоит под Иваном III, вечный колокол перевезен в Москву, республики больше нет. Культура вольного города чахнет, и за два столетия от поголовной грамотности новгородская земля уйдет в полную темноту невежества и мракобесия.
И новгородцы, не переча,
Глядели бледною толпой,
Как медный колокол с их веча
По воле царской снят долой!
Сияет копий лес колючий,
Повозку царскую везут;
За нею колокол певучий
На жердях гнущихся несут.
Холмы и топи! Глушь лесная!
И ту размыло… Как тут быть?
И царь, добравшись до Валдая,
Приказ дал: колокол разбить.
Разбили колокол, разбили!..
Сгребли валдайцы медный сор,
И колокольчики отлили,
И отливают до сих пор…
И, быль старинную вещая,
В тиши степей, в глуши лесной
Тот колокольчик, изнывая,
Гудит и бьется под дугой!..
Константин Случевский
Это легенда. На самом деле вечный колокол добрался до Москвы и был разбит через двести лет, во время правления Федора Алексеевича, в конце XVII века.
Если я не могу ничего изменить в прошлом, я изменю прошлое в своей фантазии. Пусть Новгородская республика живет в этой книге.
Итак, фантастический мир. Не Москва, а вольный Новгород объединяет Русь вокруг себя. В этом мире нет церквей, и жреческое сословие – волхвы – не занимаются политикой и не ищут власти: они несут людям волю богов. Шаманы же, появившиеся в результате сращения культур северо-восточных народов с русской, несут богам волю людей. И язычество развивается на Руси, созревает постепенно, достигает апогея, как религия древних греков, из набора суеверий превращаясь в философию жизни, подобно буддизму и конфуцианству.
Не связанная религией наука опережает европейскую, но не идет по пути прогресса в европейском его понимании – наш склад ума и характера ближе к созерцательному Востоку, нежели к деятельному Западу. Особенных успехов в этом мире достигает медицина, совмещающая знания строения человеческого тела и нетрадиционные способы лечения. Развиваются горное дело, металлургия, химия, агрономия.
В восьми верстах ниже по течению Волхова стоит Новгородский университет, подобно давно существующим университетам Европы, в котором учится две тысячи студентов. В истории настоящей к началу XVIII века на Руси не было не только высших учебных заведений, но и средних. И лишь начальное образование иногда получали священнослужители и знать.
Новгородское право и в реальной истории было прогрессивным для своего времени, мне не потребовалось много фантазии, чтобы представить себе право в выдуманном мною мире.
Ну а политика… Шаманы ходят в иные миры, чтобы изменить что-то в своем. И мои книги, повествуя о несуществующих мирах, призваны менять к лучшему наш.

Пролог
(За пятьсот шестьдесят лет до описываемых событий)
В псковской земле, в глухой Будутиной веси, ключница княгини Ольги Малуша Любечанка покачивала колыбель и размазывала по лицу злые слезы.
Все напрасно. Унижения от старухи-княгини, рабство, страхи, ненавистное, пахнущее потом тело Святослава, его отвратительно бритая голова и пьяные, грубые лапы. Книга солгала. Все напрасно.
Добрыня зашел в избу с земляным полом, низко пригибаясь под притолоку. От хлопка двери с потолка полетели хлопья сажи и закружились в воздухе, подхваченные коротким водоворотом сквозняка. Брат был мрачен, как всегда в последнее время, понюхал носом воздух, словно проверяя, нет ли в доме чужих, и сел на прогнивший от времени сундук возле маленького окошка, затянутого пузырем.
– Ну? Что уставилась? – спросил он у сестры.
– Ты так смотришь, будто это я во всем виновата! – выкрикнула Малуша. – А это ты, ты виноват во всем! Ты и твоя Книга, которую ты не умеешь читать!
– Молчи, дура… – оскалился Добрыня. – Не твоим бабьим умом думать о Книге.
Он снова понюхал воздух, повернувшись к двери.
– У тебя что, кто-то был?
– Приходила повитуха, принесла беленого полотна для дитяти, – Малуша шмыгнула носом.
– Дегтем пахнет… – Добрыня сузил глаза. – Не может повитуха сапоги носить. Кто был, быстро отвечай!
– Никого у меня не было! – крикнула Малуша. – И нечего меня пытать! Дегтем ему пахнет! Ты сам, сам во всем виноват! Ты и твои дружки царьградские! Я бы сейчас замужем была, шелка носила, в молоке купалась! А из-за тебя здесь до конца дней буду гнить! В этих болотах комариных!
Дитя в колыбели зашевелилось от ее крика, захныкало, а потом разразилось тонким, визгливым плачем. Малуша со злостью толкнула колыбель, и младенец заплакал еще громче.
– Ты… лахудра… – Добрыня поднялся, подошел к люльке и нагнулся над ребенком, – чего на дите-то злобишься! Дите-то при чем?
Он поднял на руки крошечное тельце и неловко угнездил голову младенца у себя на локте.
– Ну? Что ты плачешь? Вот дядька тебя покачает, дядька тебя утешит! А? Что плакать-то, девочка моя милая? Красавица. Княжна…
Часть I. Новгород

Волхвы не боятся могучих владык,
А княжеский дар им не нужен:
Правдив и свободен их вещий язык…
А.С. Пушкин
Глава 1. Шаман
Крепкий мороз после короткой оттепели высеребрил высокие терема Сычёвского университета: и бревна, и тесовые крыши, и резьбу ветровых досок, полотенец и наличников. Университет превратился в пряничный городок, облитый сахарной глазурью. Сычёвка, заваленная снегом, дымила печками, и дымы уходили в небо прямыми пушистыми столбами.
Холода в тот год наступили рано, обильные снегопады завалили Новгород снегом в конце месяца листопада, Волхов давно стал, превратившись в проезжую дорогу, и оттепель не поколебала крепости льда. Листопад уступал права грудню: вместо распутицы, ледяных дождей и сырого осеннего ветра Зима в хрустальных санях, запряженных тройкой белых коней, вовсю катила по безукоризненно чистой земле.
Млад вышел из Большого терема, поспешно нахлобучивая треух на голову: мороз впился в уши, стоило только оказаться на крыльце.
– Счастливо тебе, Млад Мстиславич! – вежливо кивнула ему старушка-метельщица, убиравшая снег с дорожки.
– Счастливо, – пробормотал он, запахивая полушубок. После оттепели мороз казался непривычным.
– Что ж ты так легко оделся? – метельщица сочувственно покачала головой.
Млад не вспомнил о морозе, когда выходил из дома. Только по дороге на занятия глянув на восходящее солнце, он подумал, что мороз – покрепче утреннего – установился дней на десять (предсказание погоды было для него делом привычным).
Млад на ходу что-то пробурчал метельщице и почти бегом направился к естественному отделению – двухъярусному коллежскому терему, где жили студенты: сегодня он пообещал диспут вместо лекции. Конечно, уважающий себя наставник ни за что не пошел бы на поводу у студентов, но Млад любил диспуты в учебной комнате – уютной, с потрескивающей печкой, – а иногда и за чарочкой меда.
Он столько внимания уделял тому, чтобы не уронить с головы треух и одновременно не дать распахнуться полушубку, что неожиданно наткнулся на декана, идущего по тропинке ему навстречу. Декан был человеком крупным, и Млад, хотя на рост и не жаловался, ткнулся головой в его выпуклую грудь, плавной дугой переходящую в не менее выпуклый живот.
– Млад! – декан недовольно сложил мягкие тонкие губы и пригладил мех куньей шубы на груди. – Ну что это за вид? Ты что, истопник? Что ты бегаешь по университету, как студент, грудь нараспашку? В валенках! Будто сапог у тебя нет! И когда ты наконец избавишься от этого собачьего полушубка? Сычёвские мужики побрезгуют такое на себя надеть!
– Это волк, настоящий волк, – улыбнулся Млад.
– Никакой разницы! Заведи хорошую шубу, а то мне стыдно смотреть студентам в глаза. Будто наставники на естественном отделении нищие!
– Хорошо, – в который раз пообещал Млад и хотел бежать дальше.
– Погоди, – декан попытался поймать его за руку. – Ты опять заменил лекцию диспутом?
– Ну… Я в следующий раз диспут на лекцию заменю…
– Да ладно! – хмыкнул декан в усы. – Беги, пока совсем не замерз… Но чтоб в последний раз!
Млад оглянулся на часозвонную башенку Большого терема – до диспута оставалось полчаса, и он прямо с улицы завалился к старому коллежскому сторожу по прозвищу Пифагор Пифагорыч. Пифагорычу было далеко за восемьдесят, в лучшие годы он служил грозным коллежским старостой и мог бы доживать век в покое и достатке, но расстаться с университетом не смог, поселился в сторожке на входе в терем и присматривал за студентами не хуже родного деда. Со времен службы остались внешняя солидность и строгий взгляд, ясность ума, разве что с возрастом Пифагорыч стал чрезмерно ворчлив.
Настоящего его имени никто и не помнил.
– Здорово, Пифагорыч, – выдохнул Млад, сунув голову в дверь, – погреться пустишь?
– Здорово, Мстиславич, – не торопясь ответил старик. – Заходи, раз пришел.
– Я на полчасика. Ребята пообедают…
– А сам обедал? – Пифагорыч поднял седую кустистую бровь.
– Да некогда домой бежать…
– Садись, щей со мной похлебай, – дед указал на скамейку за столом.
– Похлебаю, что ж, – Млад пожал плечами: отказываться показалось ему неудобным, хоть голода он не чувствовал.
И, конечно, Пифагорыч тут же сел на любимого конька:
– Да, не так живем, совсем не так… В щах курятины и не разглядеть, сметаны будто плюнули разок на целый котел. Про молодость мою я и не говорю, а ты вспомни, как мы при Борисе жили, а?
– Пифагорыч, ну что ты хочешь? – Младу щи показались наваристыми, и сразу откуда-то появился голод.
– Был бы жив князь Борис, он бы быстро всех к порядку призвал. Бояре жируют, власть делят, а княжич против них еще сопля.
– Ты слышал, дознание будет? И года не прошло, решили узнать, своей ли смертью умер князь Борис.
– А ты откуда знаешь? – глаза старика загорелись.
– Меня тоже зовут. Всех, кто волховать1 может, зовут.
– Расскажешь?
– Ну, если слова с меня не возьмут, чего б не рассказать…
– Да убили его, тут и к бабке не ходи. Либо литовцы, либо немцы, – крякнул дед.
– Наверное, княжич и хочет узнать, литовцы или немцы. Кто убил, того и погонит из Новгорода взашей вместе со всем посольством.
– Долго собирался княжич твой. Батьку родного убили, а он сидит себе и в ус не дует!
– Пифагорыч, ему и пятнадцати еще не исполнилось, что ты хочешь от мальчишки? Он наших студентов с приготовительной ступени моложе на два года почти. Посмотри на них и скажи, о чем они в шестнадцать лет думают? О девках сычёвских, да о пиве с медом.
– Эти пусть балуют сколько душе угодно, а княжич на то и княжич, чтоб о всей Руси думать! Князь Борис в двенадцать лет в первый поход на крымчан вышел и с победой вернулся! Да и ты, помнится, в пятнадцать в бою успел побывать.
– Я от озорства и от дури, – Млад опустил глаза.
– Это от какой такой дури? А? За Родину сражался от дури? – вскипел старик. – Дожили до того, что за Родину драться стыдимся… Это купцы иноземные людям свой вздор нашептывают! Им, вишь, выгодно, чтоб мы стыдились. А жрецов иноземных сколько понабежало? Не убий, да возлюби ближнего! Опять же, врагам нашим выгода. Да начни сейчас против нас войну, ни один студент не побежит в ополчение записываться! Ты вот тайком сбежал, а эти задов со скамеек не подымут.
– Напрасно ты так, Пифагорыч… Это они пока друг перед дружкой носы задирают, а до дела дойдет – не хуже нас окажутся.
– Ни в твое время, ни в мое так носов никто не задирал, наоборот, мы ратными подвигами хвалились. А теперь все боярами быть хотят, белы ручки из рукавов вынуть брезгуют! Война не боярское теперь дело, вишь ты…
– Так боярами или христианами, Пифагорыч? – подмигнул Млад.
– Один хрен, и редьки не слаще! Одни мошну набивают, другие колени протирают да морды под оплеухи подставляют. И скажи еще, что я не прав!
– Да прав, прав… – улыбнулся Млад.
– Не успел прах Бориса остыть, как тут же воинскую повинность для бояр отменили! – проворчал старик. – Дождали́сь его смертушки… Ты смотри, хорошо дознавайся-то… Вдруг и не немцы это вовсе, а наши бояре сговорились? Им-то теперь какая благодать настала!
– Или князья московские, или киевские, у них благодати не меньше… Или астраханские ханы, или крымские, или казанские… Пифагорыч, без Бориса всем благодать, кроме нас. А от меня там ничего не зависит, нас человек сорок соберут.
– Все равно смотри в оба! Наведут морок на сорок волхвов, что им стоит…
– Не так-то это просто – навести морок на сорок волхвов, – вздохнул Млад и в первый раз подумал: а почему позвали именно его? Он не так силен в волховании, есть гадатели и посильнее.
Студенты не дали Пифагорычу высказаться до конца. Впрочем, о боярах и иноземных жрецах он мог брюзжать бесконечно, переливая свое возмущение из пустого в порожнее. Млад не любил подобных разговоров, от них он чувствовал себя соломинкой, которую несет стремительное течение ручья. Соломинкой, которая по своей воле не может даже прибиться к берегу.
Сегодня на диспут пришли в основном ребята с первой ступени, и оказалось их раза в два больше, чем рассчитывал Млад: человек двадцать. Он ощутил легкий укол: неужели его объяснения столь непонятны, что большинству студентов не хватает лекций? Ходить на диспуты было вовсе необязательно…
– Я надеюсь, все собрались? – спросил он скорей смущенно, чем недовольно, и подвинул скамейку к переднему столу.
– Млад Мстиславич, а правду нам сказала третья ступень, что к тебе на диспуты без меда приходить нельзя? – развязно спросил кто-то из заднего ряда.
– Можно. Можно и без меда, – Млад вздохнул: студенты никогда его ни во что не ставили – строгим наставником он не был.
– А с медом? – полюбопытствовал тот же голос.
– И с медом тоже можно… – вздохнул Млад еще тяжелей.
По рядам студентов сразу прошло оживление, глухо стукнули деревянные кружки, а потом на второй стол с грохотом взгромоздили ведерный бочонок.
– Подготовились, значит? – хмыкнул Млад. – Ну, тогда скамейки вокруг печки ставьте… Чего за столами сидеть, как на лекции?
Они только этого и ждали: загремели столами, сдвигая их в стороны, зашумели радостно, словно предвкушали пирушку, а не диспут. Младу в руки сунули полную кружку теплого меда и не стали дожидаться, когда он предложит задавать вопросы.
– Млад Мстиславич, а это правда, что ты шаман?
– Правда. Летом увидите.
– А шаманом может каждый стать, если долго учиться?
– Нет, разумеется.
Сразу же раздался обиженный стон и вслед за ним – шепот:
– Я ж тебе говорил!
– Ничего хорошего в этом нет. Шаманство – это болезнь, в какой-то степени – уродство, – попробовал пояснить Млад, – стремиться к этому не имеет никакого смысла. Ваша задача – использовать шаманов, а не становиться ими.
– А их много?
– Их не много и не мало. Способность к шаманству передается через поколение. Сейчас у меня учатся два мальчика, у которых деды не дожили до их пересотворения. А всего в Новгороде и окрестностях белых шаманов около двух десятков. А во всей новгородской земле – не меньше сотни. Особенно их много на севере, среди карел.
– А что такое «пересотворение»?
– А почему только белых?
– Я плохо знаю темных шаманов, их знают на врачебном отделении, – ответил Млад и вздохнул, – а пересотворение… Это когда шаман становится шаманом. Ну, как юноша превращается в мужчину… Примерно. Испытание.
Наверное, он объяснил плохо, потому что никто ничего не понял и все ждали продолжения. Продолжать Младу не хотелось, о шаманах следовало рассказывать весной, когда можно показать вызов дождя в действии. Но из него все равно вытянули рассказ – как обычно, впрочем: он никогда не мог устоять перед настырностью студентов. А через полчаса, когда в голове зашумело от сладкого меда, он и вовсе забыл о том, что ведет диспут, и пустился в долгий спор об отличиях между волхованием и шаманством, о глубине помрачения сознания, о том, что нет разницы между шаманом и волхвом, если исход их волшбы одинаков. Говорил он, как всегда, увлеченно, забыв о времени, размахивал кружкой и не заметил, как поднялся на ноги, – так же, как и другие особо рьяные спорщики.
И стоило ему взобрался на скамейку, показывая, как волхв притягивает к себе облака за невидимые нити, дверь в учебную комнату распахнулась: на пороге стоял декан.
– Млад! – с прежней укоризной начал он, но только покачал головой и процедил сквозь зубы: – Затейник…
Млад спрыгнул со скамейки, пряча за спиной полупустую кружку, и ее тут же подхватил кто-то из студентов.
– К сожалению, вынужден прервать диспут, – декан слегка поморщился, говоря о «диспуте». – Млад Мстиславич, тебя зовут в Новгород.
– Что-то случилось?
Декан то ли кивнул, то ли покачал головой и показал на дверь.
– Извините, ребята… – Млад пожал плечами. – Но раз мы сегодня не успели, придется завтра собраться еще раз…
Похоже, они нисколько не обрадовались окончанию занятия, но повеселели, услышав о продолжении. Млад решил, что студенты со времен его молодости сильно изменились: в его бытность студентом все обычно скучали, слушая наставников.
Как только он прикрыл за собой дверь в учебную комнату, декан скорым шагом направился к выходу и быстро заговорил:
– За тобой прислал нарочного доктор Велезар. Врачебное отделение сани дает – чтобы быстрей ветра… Как наставник поедешь, а не как голодранец, в кои-то веки.
– Что случилось-то? – Млад едва поспевал за деканом. То, что за ним прислал нарочного сам доктор Велезар, не могло не польстить…
– Он подозревает у мальчика шаманскую болезнь. Все думали – падучая… Велезар Светич посмотрел и решил посоветоваться с тобой.
– Юноша в лечебнице?
– Нет. Не все так просто. Мальчик из христианской семьи… Его лечили крестом и молитвой, изгоняли какого-то дьявола. А ему, понятно, все хуже. Так что жди отпора, христианские жрецы сбегутся – на весь свет орать станут. Ну да Велезар Светич знает, как с ними разбираться, не в первый раз. Дикие люди эти христиане… Дитя родное угробят за свою истинную веру.
У выхода их поджидал Пифагорыч.
– Мстиславич, платок возьми теплый… В санях шкуры постелены, а грудь-то голая. К ночи, небось, еще холодней станет.
– Станет, станет, – улыбнулся Млад, – и не «небось», а в точности так.
И хотя восемь верст до стольного града тройка лошадей и впрямь пролетела быстрей ветра, на торговую сторону въезжали в сумерках. Млад не любил путешествовать в санях и снизу смотреть в спину вознице. В Новгород ему нравилось въезжать верхом, когда над берегом издали, постепенно, поднималась громада детинца, сравнимая величием с крутыми берегами Волхова, и хотелось, вслед за Садко, скинуть шапку, поклониться и сказать:
– Здравствуй, Государь Великий Новгород!
Сегодня и красные стены детинца покрылись инеем, и он слился с белым берегом, белым Волховом, белым сумеречным небом, в которое упирались его сторожевые башни.
Кони пронеслись по льду Волхова мимо гостиного двора, мимо торга, мимо Ярославова Дворища, свернули к Славянскому концу, миновали земляной вал и потрусили по узким улицам к Ручью.
Возница остановил сани около покосившегося забора: дом за ним напоминал согбенного временем старца. Один угол просел в землю, крыша накренилась в его сторону, оконные рамы смялись перекошенными тяжелыми бревнами и почернели от времени. Словно не было в доме хозяина… Впрочем, Млад не осуждал, он и сам хорошим хозяином себя не считал. Если бы сычёвские мужики не следили за жильем студентов и наставников, он бы давно переселился в землянку.
Доктор Велезар – красивый стройный старик, убеленный сединами, с умным лицом и внимательным добрым взглядом – вышел на улицу встречать Млада, пригнувшись под сломанную перекладину калитки.
– Здравствуй, Велезар Светич! – Млад еле дождался, когда кони остановятся, и немедленно выкарабкался из-под овчины, в избытке наваленной на сани.
Доктор, конечно, считался наставником университета, причем старейшим и весьма уважаемым, и счастливы были те студенты, которым довелось слушать его лекции. Но основное время Велезар Светич уделял практике и в ученики брал молодых врачей, осиливших знания, данные университетом. Млад иногда задавался вопросом: а когда старый доктор спит? Три новгородские лечебницы, бесконечное число больных по всему городу и округе, университет, ученики! Говорят, доктор Велезар лечил самого князя Бориса. А кого еще могли позвать к князьям в случае тяжелой болезни? При этом доктор не обращал внимания на мошну своих больных – легкие, скучные для него случаи тут же отдавал ученикам.
Он терпеть не мог исконно русского слова «врач», говорил, что оно происходит от слова «вранье» и порочит его доброе имя, поэтому предпочитал зваться по-латыни – доктором.
Нельзя сказать, что Велезар Светич ничего не понимал в шаманской болезни: он частенько прибегал к помощи темных шаманов и знал их подноготную досконально, но одно дело – знать понаслышке, и совсем другое – за руку вести молодого шамана к пересотворению. Такое может только другой шаман, который сам когда-то прошел этот путь, который знает, что происходит за плотно сомкнутыми веками бесчувственного тела, какие видения преследуют юношу на этом пути, какая смертельная опасность его подстерегает. Млад не мог не отдать должного знаменитому доктору – не каждый в его положении способен сказать: я плохо в этом разбираюсь, позовем того, кто знает об этом больше меня.
– Мальчику стало лучше, – вместо приветствия ответил он Младу, – наверное, ты сможешь с ним поговорить.
– Откуда шаман мог взяться в христианской семье? – вполголоса спросил Млад, пока они поднимались на крыльцо.
– Это новообращенные. Дед умер, отец погиб на войне, остались мать, бабка и молодая тетка. Вот они и окрестились, чтобы не скучать… И юношу, конечно, втянули. Я побоялся спросить, по какой линии идет наследственность: по отцовской или по материнской. Ты бы слышал, что началось, когда я только заикнулся о шаманах! Пришлось брать свои слова назад, иначе бы их жрецы оказались тут раньше тебя. Так что… поосторожней. Они и в лечебницу не хотят его отдавать, иначе бы давно забрал.
– Они католики или ортодоксы?
– Какая разница? Похоже, ортодоксы, – пожал плечами доктор Велезар и распахнул дверь.
В нос сразу ударил тяжелый масляный запах благовоний, вырвавшийся на крыльцо с облаком мутного, серого пара. По всей избе горели свечи, не меньше трех десятков тонких свечей, распространявших, кроме чада, непривычный аромат, которого не дает обычный воск. Млад перешагнул через порог, и взгляд его сам собой тут же уперся в темный лик одного из христианских богов, облаченный в блестящий золотом оклад. Взгляд бога показался Младу угрожающим, несмотря на благостное выражение лица и приподнятые домиком брови: рука сама потянулась к оберегам на поясе. В убогой обстановке полунищей избы, потерявшей кормильца, блеск золота выглядел по меньшей мере странно. Словно бог оттяпал у горькой вдовы лучший кусок и не погнушался этим.
Мальчику было лет пятнадцать, хотя больше двенадцати-тринадцати никто бы ему не дал: не потому, что он похудел до прозрачности – это стоило списать на болезнь, – просто выражение его лица показалось Младу не соответствующим возрасту, слишком наивным, что ли… Он и сам всегда выглядел моложе своих лет, что в деле обучения студентов сильно смущало его и мешало; всю вину за это он сложил на имя, полученное после пересотворения.
С таким лицом – беспомощным, ищущим заступничества у всех вокруг – подходить к пересотворению нельзя… А Младу хватило одного взгляда, чтобы не сомневаться в подозрениях доктора Велезара: это именно шаманская болезнь. И, похоже, на завершающей своей ступени: еще несколько дней, самое большее – неделя, и начнется испытание… Но зимой? Неужели боги не видят, когда призывать парня к себе? Когда они так далеко, а ему так трудно будет остаться с ними наедине?
Млад осмотрелся и заметил трех женщин за столом, глядевших на него подозрительно и без надежды. Все три были одеты в темно-серые широкие балахоны, с платками на головах.
– Погасите свечи, – велел он им, – и оставьте нас ненадолго. И не мешало бы проветрить…
– Щас! – поднялась с места самая молодая из них. – Ишь, чего захотел! Чтоб дьяволу в нем вольготней было, что ли?
– Видали, видали мы, как ты от ладана-то шарахнулся! Будто кипятком тебя ошпарили! – заголосила вторая.
– У него только что закончился судорожный припадок, – доктор Велезар нагнулся к юноше и заглянул в глаза.
– От ладана, да от свеч, да от молитвы дьявола в нем корчит! – пояснила молодая – видимо, тетка. – И в церкви его всегда корчит!
Младу показалось, что он сошел с ума. От какого ладана? В какой церкви? Мальчику нужен свежий ветер и одиночество… И не лежать он должен сейчас, а бежать от всех, прочь из города, в лес, в поле, где никто не помешает ему слышать зов богов.
– Как давно он заболел? – спросил он у Велезара.
– Прошлой зимой он стал раздражительным и беспокойным. Все время норовил убежать…
– Зимой? – едва не вскрикнул Млад. – Да ты что? Как это – зимой? Ты хочешь сказать, боги зовут его больше полугода?
– Да год скоро, – вставила бабка.
– Благодарение отцу Константину! – проворчала тетка. – Не дает дьяволу забрать нашу кровиночку…
Если боги зовут будущего шамана, а он не идет им навстречу, он умирает. Зов сжигает его. Может, у христиан все иначе? Что станет с мальчиком, если он не откликнется на зов? Если он захочет служить чужому богу? Млад никогда с этим не встречался. Бывало так, что юноша не понимал, что с ним происходит, но безотчетное побуждение заставляло его искать одиночества, и, рано или поздно, голоса из густого белого тумана видений становились осмысленными и объясняли, куда его зовут. Конечно, с учителем было легче, быстрей, проще. Млада готовили к пересотворению с младенчества, его учили быть сильным и в трудный час полагаться только на себя. И болел он совсем недолго: от первых смутных ощущений до судорожных припадков прошло едва ли два месяца. Ему было тогда всего тринадцать, за что он и получил свое имя.
Пересотворение – всегда смертельная опасность. Но целый год противиться воле богов? Целый год мучительной, страшной болезни, выворачивающей душу наизнанку? Млад хорошо помнил тот день, когда его дед понял, что происходит. Ни дед, ни отец не ждали этого так рано: чем раньше боги призывали шамана, тем верней была его смерть во время испытания.
Тогда его звали Лютиком… Млад привык вспоминать свое детство так, словно это произошло с кем-то другим, с мальчиком по имени Лютик… Сначала он чувствовал лишь странную опустошенность, от которой хотелось выть на луну – про себя он называл это ощущение безвыходностью. Тогда он убегал в лес и бесцельно бродил там, стараясь разогнать непонятную, неприятную тоску. Сперва ему нужно было совсем немного времени, чтобы прийти в себя и вернуться в хорошем настроении, но с каждым днем времени требовалось все больше, а тоска накатывала все чаще. Потом к тоске прибавилось странное ощущение: Лютик чувствовал, как в нем что-то ноет, доводит его до дрожи – это было похоже на зуд, но внутри. Как будто он долго лежал в неудобной позе и должен немедленно пошевелиться, что-то изменить.
Ощущение было ярким и нестерпимым, и если он не мог немедленно уйти и побродить где-нибудь, то становился раздражительным, чего с ним обычно не бывало. А потом внутренний зуд обернулся муторной болью в суставах и судорогами, он стал плохо спать. Он не мог долго обходиться без движения, в нем что-то клокотало, накапливалось, набухало. Он помогал отцу и деду, играл со сверстниками, но это перестало его радовать, раздражало, ему все время хотелось побыть одному. Однако когда он оказывался в одиночестве, становилось ненамного легче: ему слышались странные пугающие голоса и мерещились тени там, где их вовсе не было. Он не просто ходил – он метался по лесу, бился головой о стволы деревьев, падал ничком на землю и стучал по ней кулаками.
Как-то раз отец попробовал его остановить на пути в лес – это случилось сразу после завтрака, и они собирались косить сено.
– Лютик, ты куда? – спросил отец.
– Я сейчас приду, – ответил Лютик, недовольно сжав губы.
– Мы же договорились, по-моему.
– Я сказал: я сейчас приду!
– Нет, дружок, никуда ты не пойдешь. Собирайся и пошли со мной.
Лютик скрипнул зубами, развернулся и упрямо направился к лесу.
– Эй, парень! – окликнул его отец озадаченно: Лютик всегда уважал и отца, и деда, но тут не остановился и не оглянулся. Отец догнал его, крепко взял за плечо и развернул к себе лицом.
– Отпусти меня! – выкрикнул Лютик. – Я же сказал! Отпусти!
– Лютик, ты чего? – отец встряхнул его за плечи, но Лютик начал вырываться и пихать отца руками. Его трясло от мысли, что он не сможет сейчас же остаться в одиночестве; то, что в нем накапливалось, требовало немедленного выхода, ему хотелось бежать, он просто не мог стоять тут так долго! Немедленно! Ему хотелось разорвать грудь, разломать ребра и выпустить наружу это нечто, что зудело и дрожало внутри.
– А ну-ка прекрати! – прикрикнул отец, но Лютик только сильней озлобился и стал сопротивляться всерьез, извиваясь и пиная отца кулаками и босыми пятками. Конечно, справиться с отцом он не мог, тот с легкостью скрутил его и усадил на землю. Но от этого по телу Лютика побежали болезненные судороги.
– Да что с тобой? Что случилось? – отец вовсе не сердился, он удивился и испугался.
– Ничего! – вскрикнул Лютик. – Я сказал, отпусти!
– Да иди, пожалуйста, раз тебе так надо, – отец убрал руки и отступил на шаг. Лицо его было растерянным.
Лютик подпрыгнул и побежал в лес, глотая слезы и сжимая кулаки. Но и в лесу легче ему не стало. Он упал на колени и завыл волчонком – невыносимо, невыносимо! Да как же избавиться от этого непонятного зуда? Он схватился за воротник и рванул с груди рубаху – она лопнула с треском, а он, наверное, и вправду решил разорвать себе грудь голыми руками, царапая ее ногтями до крови… Белый туман, пугающий белый туман окружил его со всех сторон.
– Мальчик Лютик? – спросил женский голос, похожий на колокольчик.
– Да, это он, – ответил густой бас.
– Он же совсем маленький! – возмутился женский голос.
– Ему тринадцать, – согласился бас, – не так это и мало.
…У Млада до сих пор остались тонкие белые шрамы на груди – так глубоко он ее процарапал. Тогда он впервые оказался в белом тумане, наполненном непонятными, пугающими голосами. И в тот же вечер дед объяснил ему, что у него началась шаманская болезнь.