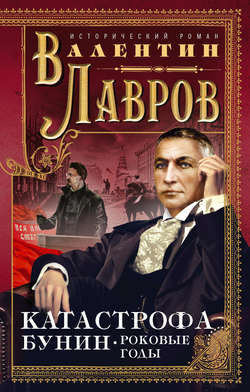
000
ОтложитьЧитал
Когда около восьми утра большевики без боя вошли в Кремль, разрушения большой силы находили повсюду. Тяжелые снаряды оставили свои гибельные следы практически на всех кремлевских соборах. Жалкое зрелище представлял Малый Николаевский дворец. Разорвался снаряд в домовой церкви Петра и Павла, превратив в щепы иконостас великого Казакова.
* * *
Очевидец большевистского преступления епископ Нестор Камчатский писал: «…позор этот может загладиться лишь тогда, когда вся Россия опомнится от своего безумия и заживет снова верой своих дедов и отцов, созидателей этого Священного Кремля, собирателей Святой Руси. Пусть этот ужас злодеяния над Кремлем заставит опомниться весь русский народ и понять, что такими способами не создается счастье народное, а вконец разрушается сама когда-то великая и Святая Русь».
Другой свидетель тех событий – американец Джон Рид. Ленин горячо ратовал за его книгу «10 дней, которые потрясли мир», «от всей души» рекомендовал «это сочинение рабочим всех стран». Иначе как вывихом больного ума это желание объяснить невозможно. Рид обличал большевиков-вандалов:
«„Они обстреливают Кремль“.
Новость эта переходила из уст в уста на улицах Петрограда, зарождая чувство ужаса. Прибывающие из Белокаменной, златоглавой матушки-Москвы рассказывали о страшных вещах: о тысячах убитых, о том, что Тверская и Кузнецкий мост горят, церковь Василия Блаженного представляет собою дымящуюся развалину, Успенский собор разгромлен, Спасские ворота Кремля уничтожены, Дума сожжена дотла.
Ничто из совершенного большевиками до того не могло идти в сравнение с этим ужасным варварством, учиненным в сердце святой Руси. Для верующих пушечный гром звучал как оскорбление, нанесенное святой Православной Церкви, ибо он в прах превращал святыни русской нации…»
Что говорить о чувствах православных людей, когда даже иудей Анатолий Луначарский, первый нарком просвещения, был потрясен случившимся. Может, потому, что почти два года занимался в Цюрихском университете, жил во Франции и был гораздо развитее большинства своих товарищей по партии, отличавшихся узостью взглядов и удручающей малограмотностью.
На заседании Совета Народных Комиссаров, на котором речь шла о бомбардировке Кремля, Луначарский не выдержал, вскочил с места и крикнул в лицо красным вождям:
– Какой вандализм! Какое преступление! Я не могу выносить этого… – и с рыданиями бросился вон из зала.
Тогда же газеты опубликовали его письмо, в котором он заявил о выходе в отставку: «Я только что услышал от очевидцев то, что произошло в Москве. Собор Василия Блаженного, Успенский собор разрушаются. Кремль, где собраны сейчас все важнейшие художественные сокровища Петрограда и Москвы, бомбардируется.
Жертв тысячи. Борьба ожесточается до звериной злобы.
Что еще будет? Куда идти дальше?
Вынести этого я не могу. Моя мера переполнена. Остановить этот ужас я бессилен. Работать под гнетом этих мыслей, сводящих с ума, нельзя. Вот почему я выхожу в отставку из Совета Нар. Комиссаров.
Я сознаю всю тяжесть этого решения, но я не могу больше».
Впрочем, пройдет совсем немного времени, и красный комиссар остудит свой гнев. Он найдет какие-то оправдания действиям товарищей по партии и бодро замарширует в общем большевистском строю.
6
– Какое бесстыдство – восхвалять «социалистическую революцию», которая якобы принесла «счастье трудящимся»! – возмущался Бунин.
Он мрачно курил, часами сидя в глубоком кресле, почти не выходил из дому, мало кого видел и вот теперь нервно комкал в руках горьковскую «Новую жизнь».
Вера молча слушала, иногда вздыхая, и бережно вытирала влажной тряпкой сухие шуршащие листья пальм, стоявших в громадных приземистых кадушках.
– Что было? – продолжал Иван Алексеевич, стряхнув пепел под пальму. – Было могущественное Российское государство. И могущество это создавалось трудами многих и многих поколений. Чтили Бога, уважали прошлое. Материальное изобилие было исключительным, какое не снилось ни Англии, ни Германии, ни Карлу Марксу с Фридрихом Энгельсом.
Кучка авантюристов, называющих себя политиками, свергла монархию. А что дали взамен? Убогое правительство Керенского, которое постоянно демонстрировало свою беспомощность, не в состоянии было предотвратить захват власти большевиками, вскормленными на германские деньги.
И вот теперь под интернациональные лозунги (но вовсе не российские!) идет разгром и разграбление всего нашего государственного дома, неслыханное братоубийство. И кошмар этот тем ужаснее, что он всячески прославляется, возводится в перл создания…
Вера поставила на журнальный столик чашечку:
– Ян, выпей кофе…
Бунин, не замечая жены, порывисто встал. Он начал привычно, наискось расхаживать по комнате – от рояля к угловому окну. Вдруг остановился и, словно открывая для себя что-то новое, с изумлением произнес:
– Ведь в революциях совершенно не было нужды!
Вера, осмелившись, вставила:
– Для России – не было…
– Вот именно – для России! Да, были в нашей жизни неполадки, но государство, несмотря на недостатки, цвело, росло, со сказочной быстротой развивалось и видоизменялось во всех отношениях.
Бунин подошел к столику, отпил уже начавший остывать кофе, спросил рюмку коньяку.
– Когда-то меня поразили своей точностью слова Ключевского. Он сказал, что конец Русскому государству будет тогда, когда разрушатся наши нравственные основы, когда померкнут лампады над гробницей Сергия преподобного, закроются врата его лавры.
Я с ужасом вижу: жуткое пророчество ныне сбывается. Что такое бить из пушек по святым стенам Кремля? Это и есть загасить лампады отеческого духа, сознания себя великой нацией. Этот разгром старинных церквей – крест на могилу русской государственности. И кто совершил это неслыханное со времен Орды злодеяние? Кучка негодяев, среди главарей которых русских почти не найти. Впрочем, когда народ одумается, осознает всю преступность свершившегося, тогда и этим жалким отщепенцам будет отказано в праве называться русскими. Но сейчас миллионы людей стерпели, старухи плачут, мужики бранятся, интеллигенция скорбит: «разрушены кремлевские святыни!..» Но что мешает этим миллионам растереть в порошок кучку негодяев-разорителей?
– Ты же знаешь, что большинство ничего не доказывает!
– Да, еще Герцен говорил, что десяток конвойных этапируют в Сибирь несколько тысяч колодников. Вот я и скорблю, что кучка вооруженных разбойников из нас, свободных россиян, сделала колодников!
– А на что же теперь нам надеяться?
– Как – на что? На домового.
– Какого такого домового?
– Того самого, про которого писал в своей «Деревне». Собрался народ возле кабака в кучу, ну, мужики, девки семечки лузгают, гармонь наяривает, частушки выкрикивают. Кузьма недоуменно спрашивает Меньшого:
«– Что это народ веселится, с какой такой радости?
– Да это они надеются…
– На что?
– На домового».
Вот и нам остается надеяться лишь на домового. Большевики молодцы. Они дело свое знают. Солдатам мир обещают, крестьянам землю, морякам воду, несогласным с ними – удавку. Средство у них универсальное – страх. Мы сидим и боимся. Ведь любой убийца ворвется в дом, перестреляет нас, и никто с него за это не спросит. Это и есть «революционный порядок».
– Может, уехать в Питер? Андреева мне говорила, что там сейчас спокойнее…
– Сейчас спокойнее на Гавайских островах, только никто там нас не ждет. Вчера у газетного киоска я столкнулся с доктором Манухиным. Он получил письмо от Зинаиды Гиппиус. Та пишет, что в Питере царит большевистский произвол, тюрьмы забиты, офицеров и юнкеров расстреливают десятками, облавы, обыски. Свет и газ выключили, телефон не работает.
И, сев рядом на диванчик, они обнялись и надолго погрузились в безрадостные думы.
7
Зинаида Гиппиус, зябко кутаясь в шубу в своей нетопленой петроградской квартире, записывала в дневник:
«27 октября. Невский полон, а в сущности, все „обалдевши“, с тупо раскрытыми ртами… Захватчики, между тем, спешат. Троцкий-Бронштейн уже выпустил „декрет о мире“. А захватили они решительно все.
Возвращаюсь на минуту к Зимнему Дворцу. Обстрел был из тяжелых орудий, но не с „Авроры“, которая уверяет, что стреляла холостыми, как сигнал, ибо, говорит, если б не холостыми, то Дворец превратился бы в развалины. Юнкера и женщины защищались от напирающих сзади солдатских банд, как могли (и перебили же их), пока министры не решили прекратить это бесплодие кровавое. И все равно инсургенты проникли уже внутрь предательством.
Когда же хлынули „революционные“ (тьфу, тьфу!) войска, Кексгольмский полк и еще какие-то, – они прямо принялись за грабеж и разрушение, ломали, били кладовые, вытаскивали серебро; чего не могли унести – то уничтожали: давили дорогой фарфор, резали ковры, изрезали и проткнули портрет Серова, наконец, добрались до винного погреба… Нет, слишком стыдно писать…
Но надо все знать: женский батальон, израненный, затащили в Павловские казармы и там поголовно изнасиловали…
Только четвертый день мы под „властью тьмы“, а точно годы проходят…
Сейчас льет проливной дождь. В городе – полуокопавшиеся в домовых комитетах обыватели да погромщики. Наиболее организованные части большевиков стянуты к окраинам, ждя сражения. Вечером шлялась во тьме лишь вооруженная сволочь и мальчишки с винтовками. А весь „временный комитет“, т. е. Бронштейны – Ленины, переехали из Смольного… не в загаженный, ограбленный и разрушенный Зимний Дворец – нет! а на верную „Аврору“… Мало ли что…
Вот упрощенный смысл народившегося движения, которое обещает… не хочу и определять, что именно, однако очень много и, между прочим, ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ БЕЗ КОНЦА И КРАЯ».
Бесноватых рать
1
Подслеповатый, с интеллигентным доброжелательным лицом литературовед Айхенвальд, автор знаменитых литературных портретов – «Силуэты русских писателей», сидел в квартире Бунина и ел картофельный суп. Его привел Юлий. Айхенвальд ел жадно, тщетно стараясь унять дрожь в руках.
Оправдываясь, сказал:
– По ресторанам ходить не люблю, а в лавках теперь ничего купить не умею. Моя кухарка куда-то сбежала, взяв «на память» все столовое серебро. Ну а я сижу на пище святого Антония.
– Этот святой питался лишь акридами и водой, – отозвался Юлий Алексеевич.
– Ну и я тоже…
– Так ноги таскать не будете! – сказала Вера. – Наша кухарка – сущий клад. Ее брат мясником служит на колбасной фабрике братьев Елисеевых, в лавке для рабочих покупает. Вот кушайте, пока горячее…
– Сударь, водочки примите. – Бунин заботливо наполнил рюмку. – Перцовая – замечательное средство от простуды, а у вас, вижу, насморк. Я готов кормить вас до той поры, пока большевиков не прогонят. Это мой гонорар за хорошую статью в «Силуэтах».
– Ну, Ян, тебе недорого обойдется такая щедрость, – улыбнувшись, сказала Вера. – Уже через две-три недели большевиков как ветром сдует.
Юлий согласно кивнул:
– Пограбят, покуражатся и разбегутся. Покажи, пожалуйста, новинку! Итак, третий том «Силуэтов», вышел в московском издательстве «Мир». Верочка, почитайте нам, пожалуйста!
Вера взяла в руки увесистый том, ощутила свежий запах типографской краски.
– Герцен, Карамзин, Жуковский, Языков, Горький, Бальмонт, а где Бунин? Вот он, сердечный, на странице сто тридцать четыре! Итак, «на фоне русского модернизма поэзия Бунина выделяется как хорошее старое. Она продолжает вечную пушкинскую традицию и в своих чистых и строгих очертаниях дает образец благородства и простоты. Счастливо-старомодный и правоверный, автор не нуждается в „свободном стихе“; он чувствует себя привольно, ему не тесно во всех этих ямбах и хореях, которые нам отказало доброе старое время. Он принял наследство. Он не заботится о новых формах, так как еще далеко не исчерпано прежнее, и для поэзии вовсе не ценны именно последние слова. И дорого в Бунине то, что он только – поэт. Он не теоретизирует, не причисляет себя сам ни к какой школе, нет у него теории словесности, – он просто пишет прекрасные стихи. И пишет их тогда, когда у него есть что сказать и когда сказать хочется. За его стихотворениями чувствуется еще нечто другое, нечто большее – он сам».
– Браво! – восхитился Юлий. – Как точно, какой изящный стиль.
Иван Алексеевич, слушая лестные слова, тихо посмеивался. Айхенвальд, кажется, мало обращал внимания на этот разговор. Он с аппетитом уписывал телятину с картошкой.
– Главное – в истинности слов, в точности формулировок, – поправила деверя Вера. – Но, господа, позвольте продолжить чтение. «Его строки – испытанного старинного чекана; его почерк – самый четкий в современной литературе; его рисунок – сжатый и сосредоточенный. Бунин черпает из невозмущенного кастальского ключа. И с внутренней, и с внешней стороны его стихи как раз вовремя уклоняются от прозы; скорее он ее сделал поэтичной, скорее он побеждает прозу и претворяет ее в стихи, чем творит стихи, как нечто особое, от нее отличное. У него стих как бы потерял свою самостоятельность, свою оторванность от обыденной речи, но в то же время из-за этого не опошлился. Бунин часто ломает свою строку посредине, кончает предложение там, где не кончился стих; но зато в результате возникает нечто естественное и живое…»
– Юлий Исаевич, а вам какие стихи Ивана нравятся более? – спросил Юлий Бунин.
Айхенвальд с видом сытого человека откинулся на спинку стула, вытер салфеткой рот. Прикрыл глаза. После паузы:
– «Зов», – и начал на память читать, чуть шепелявя:
Как старым морякам, живущим на покое,
Все снится по ночам пространство голубое…
Иван Алексеевич, внимательно слушавший, вдруг сильным чистым голосом подхватил:
И сети зыбких вант; как верят моряки,
Что их моря зовут в часы ночной тоски, —
Так кличут и меня мои воспоминанья:
На новые пути, на новые скитанья
Велят они вставать – в те страны, в те моря,
Где только бы тогда я кинул якоря,
Когда б заветную увидел Атлантиду.
В родные гавани вовеки я не вниду,
Но знаю, что и мне, в предсмертных снах моих,
Все будет сниться сеть канатов смоляных
Над бездной голубой, над зыбью океана:
Да чутко встану я на голос Капитана!
– Если мир – море и правит его кораблями некий Капитан, то среди самых чутких к Его голосу, среди ревностных Божьих матросов находится и поэт Бунин… – закончил Айхенвальд.
Бунин молчал. Думал он о своем, о безрадостном… О том, что много месяцев почти ничего не может писать. Жизнь выбивала из колеи. Неужто это все, неужто исписался весь?
– В шестнадцатом году для горьковского «Паруса» я дал свои стихи, – сказал Бунин. – Вот, послушайте:
Хозяин умер, дом забит,
Цветет на стеклах купорос,
Сарай крапивою зарос,
Варок, давно пустой, раскрыт,
И по хлевам чадит навоз…
Жара, страда… Куда летит
Через усадьбу шалый пес? —
Это я написал, сидя в Васильевском, оно же Глотово. Помню, вышел из усадьбы, спустился с взгорка к пруду. Наш священник сидит, рыбу ловит. Знаток этого дела, так и клюет у него. «Пропитание! – смеется. – Девчонкам моим на уху».
Семья у него большая, и все девчонки рождались.
Я присел рядом на поваленное дерево. Долго молчали, следя за игрой поплавка. Вдруг, без связи, священник произнес: «Загудит скоро набат, ни рыбу ловить, ни сеять, ни жать некому будет…»
Мурашки пробежали у меня по спине. Я сам в тот момент думал о том ужасе, который, чувствовал, скоро придет на нашу землю. Тогда же написал стихотворение:
Вот рожь горит, зерно течет,
Да кто же будет жать, вязать?
Вот дым валит, набат гудет,
Да кто ж решится заливать?
Вот встанет бесноватых рать
И, как Мамай, всю Русь пройдет… —
Вдохновение снизошло на меня. В то лето стихи так и лились, случалось, что в день писал два-три.
– И твоя поэзия удивительным образом предсказала грядущее. Увы, сбылось пророчество, – тихо проговорила Вера. – Бесноватых встала рать, дым валит.
Юлий нарочито бодро заговорил:
– Не спорю, поэты – лучшие предсказатели. Не хуже мадам Ленорман. У них, видать, прямая связь с Создателем. И все же нельзя теперь судить о русской революции беспристрастно.
– О какой беспристрастности говорить можно? – поморщился Бунин. – Настоящей беспристрастности не было и не будет. Для убийцы и грабителя сейчас самое счастливое время. Большевики будут прославлять свой переворот и все эти ужасы.
– Только с годами полностью проявится картина.
– Когда от Руси останутся рожки да ножки? – резко возразил Бунин. Чувствуя, что его горячность задела деликатного Айхенвальда, спокойней добавил: – Есть единственный оселок, на котором исторические деяния проверять должно: польза для России и, стало быть, для ее граждан. Так не может быть: государству хорошо, а гражданам плохо. Теперь революционеры разбудили дремавшего хама, который Русь и унижает, и разрушает. Для меня, повторю, ясно одно: русский бунт всегда бессмыслен. И жаль, что мы посетили мир в «его минуты роковые». Тютчев о них с восторгом писал. А уж какие в его время были «роковые минуты»? Тишь да благодать, аж зависть берет.
2
Вскоре после ухода Юлия и Айхенвальда в городе вновь началась стрельба – частая, ожесточенная. Палили со стороны Кудринской площади. Со стороны Моховой несколько раз ухнула пушка.
Но к полуночи все смолкло, даже ружейной стрельбы почти не было. Только однажды истошный женский голос совсем поблизости звал: «Помогите! Караул! Помоги…» Крик жутко оборвался на высокой ноте. Вера нервно оглянулась на окно.
Бунин вскочил с постели:
– Нет, не могу оставаться! Пойду заступлюсь…
Вера мертвой хваткой вцепилась в него:
– Не пущу! Убьют!
Он бросился к телефону – позвонить в полицию, но телефон опять не работал.
Почти до рассвета ворочался в тяжелой бессоннице. Поднялся, когда в церкви отзвонили к обедне.
Вера, уже хлопотавшая вместе со служанкой над завтраком, сразу же сообщила:
– Вчерашние крики помнишь? Оказалось, бандиты изнасиловали, а потом зверски убили сестру милосердия, только что вернувшуюся с германского фронта. Ее спутнику, военному доктору, штыком выкололи глаза.
– Р-р-революция! – прорычал Бунин. – Такие же ублюдки, как эти убийцы, ныне решают судьбы России.
Он помолчал и с горечью добавил:
– Мне страшно, что подобное насилие творится над моей родиной. Увы, я могу лишь посылать бандитам проклятия, но не в состоянии изменить ход событий.
* * *
В окно било тяжелым снегом. Он лип к стеклам и стекал тонкими струйками.
– Ян, ты уж без крайней надобности на улицу не показывайся! – сказала Вера.
Бунин насмешливо покачал головой, смиренно завел глаза:
– Будем, как преподобный Алимпий.
– Кто?
– А это в седьмом веке был такой подвижник. Он на столпе подвизался, шестьдесят шесть лет с него не сходил. Что стоит нам месяц-другой посидеть дома? Придет Лавр Корнилов или другой генерал (у нас их уйма!), турнет большевиков. Запломбируют в вагон главарей – всех этих Лениных – Бронштейнов – и отправят обратно в Германию.
Бунин было потянулся к папироснице, лежавшей на столе, но Вера посмотрела на него так жалобно, что он вздохнул и курить не стал, забарабанил пальцами по столу.
– Мы-то можем дома посидеть, – сказала Вера, – а вот не пожалуют ли к нам в гости товарищи революционеры?
– То-то и оно!
На этой нелегкой теме разговор было замолк, но минуты через две Бунин не выдержал, добавил:
– Смолоду я всякое испытал – несчастную любовь, унижающую бедность. Со всякой жизнью умею примириться. Но не умею свыкнуться с мыслью, что в любой момент могут ворваться пролетарии и мозолистыми трудовыми руками всадить нам в животы штыки. И они будут правы: согласно большевистской логике, необходимо уничтожить всех буржуев.
Вера замахала руками:
– Господь с тобою, Ян! Не нагоняй жуду.
– Сама заговорила об этом. И потом, с другими уже случилось, вот и сестра милосердия… А мы – буржуи, вполне для большевистской плахи подходим. Под «буржуями» Ленин разумеет, прежде всего, российскую интеллигенцию. Ее труднее всего одурачить или запугать. Она вечная оппозиция правителям. Большевики знают, что захватили власть незаконно. Вот почему они не потерпят ни малейшей оппозиции.
Вера испуганно посмотрела на иконостас, перекрестилась.
* * *
Бунин отправился в ванную комнату – бриться-умываться. Через мгновение послышались его чертыхания: в водопроводной трубе зашипело, упало несколько ржавых капель, и на этом вода закончилась.
Вера полила из графина. Он кое-как привел себя в порядок и пошел завтракать. Пил чай, читал газеты, принесенные истопником.
Вскоре в столовой появилась Вера. В руках она держала французскую книгу.
– Взыскуешь истины? – иронически улыбнулся Бунин. – Послушай, что Горький пишет в «Новой жизни»: «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия… Рабочий класс не может не понять, что Ленин на его шкуре, на его крови производит только некий опыт, стремится довести революционное настроение пролетариата до последней крайности и посмотреть… что из этого выйдет?»
– Браво! – хлопнула в ладошки Вера. – Как честно и смело обличает злодеев Алексей Максимович!
Бунин укоризненно покачал головой:
– Ну-ну! «Честно и смело…» Наконец-то очухался! А когда привечал и Ленина, и его разбойничью братию – о чем тогда думал? Ведь к тому, что сейчас творится, и твой любимый «буревестник» причастен. Но послушай дальше. – Он вновь взял газету – номер за седьмое ноября, водрузил на нос очки и продолжил: – «Рабочие не должны позволять авантюристам и безумцам взваливать на голову пролетариата позорные, бессмысленные и кровавые преступления, за которые расплачиваться будет не Ленин, а сам же пролетариат…» – Окончательно впадая в гнев, Бунин взмахнул газетой. – Да, расплачиваться придется этому самому «пролетариату». А если, не приведи господи, большевики удержатся у власти, то они обязательно и самому «буревестнику» свернут шею!
Вера поспешила перевести разговор на другую тему, раскрыла книгу:
– Я прочитала, еще Наполеон говорил: власть – это пирог, которым надо накормить всех, кто к этому пирогу прорвался.
– В Смольном уже вовсю делят этот пирог: должности, особняки, кабинеты, царские сервизы, секретарш…
3
Смольный после переворота жил напряженной жизнью. Задача была невероятно трудной: как, уцепившись за власть, удержаться за нее.
Беспрерывно шли совещания, заседания, летучки, собрания. Воздух был прокурен. Лица давно не высыпавшихся людей приобрели серо-зеленый цвет, обросли щетиной, глаза воспалились, воротнички стали грязней половой тряпки.
Начальники восседали за громадными столами. Рядом густо стояли уголовные типы Ломброзо – с низкими лбами и мрачными лихорадочными взглядами, ожидавшие команд, распоряжений, приказов. Телеграфные машины выплевывали ленты срочных сообщений. Машинистки отстукивали бессчетные декреты. Носились курьеры. Самыми частыми словами стали «срочно» и «совершенно секретно».
Хотя большевистская власть утвердилась лишь в Питере (да и то относительно), главари переворота спешили делить теплые места. В кабинете горячо любимого вождя шло очередное – но самое важное! – совещание. Вокруг разместились сподвижники.
Задумчиво почесывая худосочным пальчиком рыжеватую плешивую голову, добро и устало улыбаясь, Ленин прокартавил:
– Дорогие товарищи! На повестке дня – серьезный вопрос: следует дать новые названия государственным органам и распределить министерские портфели. Как по-революционному назовем министров?
На помятом лице вождя вдруг вспыхнули острым интересом глаза. Закинув голову назад и чуть склонив ее к левому плечу, сунув пальчики куда-то под мышки за жилет, – любимая поза! – Ленин оглядел сообщников:
– Гм-гм! Какие соображения? Яков Михайлович, у вас есть соображение?
Все весело улыбаются незатейливой шутке, а Свердлов неопределенно хмыкает. Дзержинский что-то рисует на клочке бумаги, а Сталин вытряхивает пепел из трубки. Его некрасивое узкое лицо, глубоко изъеденное оспой, серьезно и спокойно.
Каменев вопросительно смотрит на Ленина:
– А почему бы все-таки не оставить прежнее название – министры? Звучит солидно, привычно…
– Нет и нет! – взмахивает короткой ручкой Ленин. – Только не министры. Это гнусное, истрепанное название.
– И вполне буржуазное! – поддакивает Зиновьев.
– Отвратительное название! – кивает Свердлов.
– Старых министров мы расстреляем, а новых не будет! – вдруг смеется Ленин. – Чем больше покойников, тем крепче революционный порядок.
Все весело хохочут, глядя вождю в рот, в котором блестит золото коронок. Не смеются только Сталин и Дзержинский.
Вдруг Троцкий поднял руку:
– Хорошо бы назвать комиссарами…
Ленин нервно стучит карандашом по чернильнице:
– Комиссары, комиссары… Что-то много нынче развелось комиссаров.
Дзержинский перестает рисовать хвостатых чертей и задумчиво произносит:
– А если «верховные комиссары»?
Все молча обдумывают предложение.
Голос подает Сталин:
– Может, лучше «народные комиссары»?
Троцкий тут же отзывается:
– Правильно, я тоже хотел предложить это – «наркомы». Только так!
Ленин задумчиво теребит бородку:
– Как вы сказали, Лев Давидович? «Наркомы»? Не очень изящно. Да ладно, привыкнут! Пусть «народные», вы правы, Лев Давидович, это звучит демократично. Все – за? Прекрасно! Секретарь, запишите! А как назовем правительство в целом?
Сталин вновь предлагает:
– Совет комиссаров…
Троцкий подает насмешливый голос:
– А сокращенно как – «совком»? Совками дети в песочнице играют.
Все хохочут, больше всех Ленин и Троцкий. Сталин нахмурился, на узком лице только желваки играют.
– Я знаю, – решительно говорит Троцкий, резко обрывая смех. – Назовем так: Совет Народных Комиссаров – Совнарком.
Все молча смотрят на Ленина. Тому хочется спать и есть. Он вскидывает голову к левому плечу и согласно произносит:
– Пусть так – Совнарком! – Он обводит глазами, красными от недосыпа, присутствующих и опять вскидывает голову к плечу. – Лев Давидович, браво! Вот мы вас и сделаем первым наркомом – внутренних дел. Это сейчас важнейшее!
Дзержинский согласно кивает:
– Правильно! Борьба с контрреволюцией сейчас самое важное.
– Характер у тебя, Лев Давидович, крутой, справишься! – лукаво усмехается Зиновьев.
Троцкий отрицательно качает головой, и его свояк Лев Каменев уговаривает:
– Уверяю, что лучшего министра внутренних дел нам не найти!
Каменев женат на Ольге Давидовне, сестре Троцкого. У них есть милейший мальчуган, которого они зовут нежно – Лютик. Пройдет немного времени, и эта славная семейка въедет на жительство в приведенный в порядок после бомбардировки Кремль. Здесь же, по соседству, поселятся Луначарский и популярнейший поэт и обладатель громадного собрания редчайших книг Демьян Бедный. Будут жить во дворцовом коридоре, прозванном Белым. Охранять их станет несколько постов часовых. Охранять от народа, в любви к которому они всю жизнь клялись, но который они ненавидели и которого боялись.
Каменев продолжает:
– Лев Давидович, соглашайся! Не справишься – поможем!
– Главное, без слюнтяйства, – советует Дзержинский. – Буржуазное происхождение – уже преступление. Среди них много умников развелось. Надо защищать пролетарскую революцию.
Ленин вдруг заговорщицки хихикает:
– А у нас революция пролетарская?
Все разом смеются. Больше всех заливается сам Ильич. Смеется и Крупская, которой только сегодняшним утром муж сделал нахлобучку за то, что на заседаниях красных вождей она по бабьей глупости лезет все время вперед. Переживая теперь ужасные мучения, она молчала все совещание – как рыба. Но теперь не выдерживает, задорно и неожиданно для всех кричит:
– Мы раздуем огонь на весь мир! Как дважды два… Да здравствует мировая революция!
Новый взрыв хохота. Все любят Надежду Константиновну, хоть она немного глуповата. Но Крупская – настоящая большевичка. И отличный – гораздо сильнее Ильича! – организатор.
– Против мировой революции не спорю, но этот пост не займу! – решительно заявляет Троцкий. Он отлично понимает его паскудность. В стране разруха и бандитизм, которые – легко догадаться! – станут в ближайшем будущем лишь увеличиваться. Так зачем ему нужна эта головная боль?
– Почему вы не цените наше доверие? – вдруг строго спрашивает Ленин.
– Я ценю. Однако я еврей.
– Ну и что? – запыхтел Ленин. – Тут почти все евреи сидят. Так их и наркомами не назначать? Один глупый еврей стоит больше, чем два русских умника.
– Умоляю вас, Владимир Ильич! Внутренние дела – такой участок, что с еврейской национальностью никак нельзя. Давайте Сталина назначим.
Троцкий откровенно недолюбливал Сталина, справедливо подозревая его в антисемитизме. Вот теперь он хотел поставить его на собачью должность, на которой он свернет себе шею.
– Нет, Сталина нельзя! – вмешался Зиновьев. – Он большевик честный, но у него характер слишком мягкий.
Ленин согласился:
– Наш грузин – чудесный человек, но слишком либеральный. К тому же я хочу поставить его к важному делу – руководить национальными делами.
Все согласно закивали: должность незаметная, на нее никто не претендовал.
В разговор вмешался Рыков:
– Назначим Льва Давидовича наркомом путей сообщения – это тоже ответственный участок.
Ленин уперся на своем:
– Нет и нет! Лев Давидович должен служить нашему делу с максимальной пользой. Лучшего организатора по борьбе с саботажем и контрреволюцией – принципиального и жесткого – нам не найти. По сравнению с этой задачей ваше еврейство, Лев Давидович, сущий пустяк!
– Дело-то, быть может, великое, да дураков в России пока хватает! – спорит Троцкий.
– Да разве мы должны по дуракам равняться? – кипятится Ленин.
– Равняться не равняться, а маленькую скидку на глупость россиян делать необходимо. Зачем нам эта головная боль?
Вдруг поднялся Сталин:
– Мнение народа учитывать надо, в этом товарищ Троцкий абсолютно прав. – Голос его звучал спокойно и убедительно. – Зачем с самого начала осложнения? И так говорят про вас, что германские шпионы. И еще, что октябрьский переворот – дело всемирной еврейской мафии.
Все неловко замолчали. Лишь Ленин сердито зыркнул глазами:
– Мы собрались здесь, товарищ Сталин, вовсе не для обсуждения буржуазной болтовни и контрреволюционных сплетен, за которые надо ставить к стенке без суда и следствия.
– Это не просто болтовня, – произнес Сталин. – Пока в мире существует капитализм, существуют порожденные им нации. Стало быть, существует национальная рознь. Не учитывать это – значит впадать в эйфорию. – Сталин не спеша огляделся и медленно продолжал: – Когда мы добьемся полного равноправия всех наций? Лишь тогда, когда ликвидируем национализм и национальную вражду. К сожалению, процесс этот сложный и очень долгий. Наше поколение, как справедливо заявляет товарищ Ленин, будет жить при коммунизме. Но увидит ли наше поколение исчезновение национальной розни? Очень сомневаюсь. Так что товарищ Троцкий абсолютно прав: с национальным вопросом пока считаться надо.



