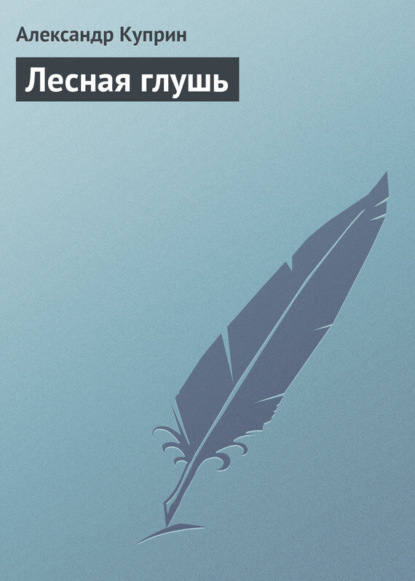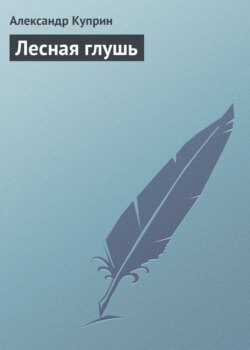
000
ОтложитьЧитал
– Кто-то идет, – сказал он вполголоса. Сотский тоже приподнялся и повернул голову по направлению взгляда Талимона. Я, как ни напрягал внимание, ничего не мог расслышать за треском разгоревшегося костра.
– Кто там иде-ет? Что ты бреше-ешь? – протянул насмешливо Кирила.
– Тихо! – махнул на него рукой, не оборачиваясь, Талимон. Действительно, его не обманул тонкий охотничий слух. Через минуты две или три послышался легкий треск сухих веток под чьими-то ногами, и из чащи точно вынырнула высокая фигура мужика в новом кожухе и картузе.
– Помогай бог! – сказал он глухим, сильно простуженным голосом и слегка приподнял картуз.
– Здорово! – ответили разом Талимон и Кирила, прикоснувшись к своим шапкам.
– Ишел я по лесу и вижу ваш огонь, – продолжал пришедший, присаживаясь на корточки. – Дай, думаю, посмотрю, что за люди… Скучно одному.
– Седайте, – проговорил из вежливости Талимон, несмотря на то что гость уже успел усесться.
Этого мужика зовут Александром. Мне никогда не доводилось с ним разговаривать, но я нередко видел его и особенно много о нем слышал благодаря той простой и в то же время тяжелой крестьянской драме, которая на глазах всей деревни разыгрывалась в его семье. Два года тому назад его жена Ониська – хорошенькая, но распутная и глупая бабенка – вернулась из ближнего городка, где она служила в разных местах за кухарку. Вернулась она в деревню не по своей охоте. Уже давно до Александра доходили слухи, что его жена ведет себя нехорошо, путается со всеми городскими господами и с их мужской прислугой и что даже проезжие посылают «из номерей» мишуреса за Ониськой. Александр не раз являлся в город, отнимал у жены все зажитые ею платья и вещи и рубил их в мелкие кусочки на пороге, а жену избивал и уводил в деревню. Но она улучала минуту и тайком сбегала опять в город. В последнее время ее «водворила на место жительства» полиция, к содействию которой обратился – не знаю уж, по чьему совету – Александр.
Вместе с городским гардеробом Ониська привезла с собою легкость городских нравов и презрение к деревенской необразованности. Держала она себя с соседями заносчиво, употребляла в разговоре никому не ведомые слова, ела в пост скоромное и даже в одно воскресенье – смешно сказать – явилась в церковь с синим пенсне на носу, за что Александр получил от священника, отца Анатолия, строгий выговор.
Поведение ее не стало лучше в деревне. Она таскалась сначала с сыном волостного писаря, потом с конторщиками соседнего лесного имения, потом с помещичьими кучерами, и, наконец, в настоящее время ее постоянным кавалером сделался вольнопрактикующий фельдшер Кацейовский, вертлявый и наглый человечек с темным прошлым, лечивший с одинаковым неуспехом и лошадей, и коров, и баб с их ребятами. Знал ли обо всем этом Александр – трудно сказать. Он никогда не отличался общительностью, а за последний год стал еще больше сторониться от людей, но с лица его не сходило угрюмое выражение упорной, затаенной мужицкой тоски. Глядя на него, крестьяне покачивали головами и со свойственным им безошибочным инстинктивным чутьем говорили:
«Не добром кончится это дело… що-сь буде промеж Онисьи с Александром…»
– Ты коней, что ли, пасешь? – спросил несколько минут спустя сотский. Александр, неподвижно глядевший в огонь, вдруг встрепенулся, точно его внезапно разбудили.
– Я-то? – протянул он, с усилием отрываясь от огня и, по-видимому, стараясь понять, о чем его спрашивают. – Коней, ты говоришь? Да, да, коней.
– Оно девствительно… теперь злодий как раз подкрадется, – поучительно заметил Кирила.
Александр опять уставился на огонь. Я вгляделся пристальнее в его большое, носатое, изрытое оспой лицо, и меня поразило его равнодушно-тоскливое выражение. И поза, в которой он сидел, сгорбившись, с головой, ушедшей в плечи, охватив обеими руками острые колени, показалась мне усталой и беспомощной. Самый голос у Александра был какой-то жалкий, пришибленный и до странного глухой, как будто бы он раздавался сквозь закрывавшую рот мягкую подушку. Пламя костра трепетало с бурным ропотом, а на лицах трех крестьян бегали длинные дрожащие тени от носов и глазных впадин. Когда же огонь вспыхивал особенно ярко, эти лица принимали медный оттенок, а в глазах ярко загорались красные точки.
Около костра было тепло, светло и уютно, но там, дальше, куда не достигал освещенный колеблющийся круг, там ночь стала непроницаемо черной, и временами до нас доносилось ее холодное, сырое дыхание. Обступившие нас вокруг деревья слились в одну сплошную, темную – темнее ночи – живую толпу, точно со всего леса сбежались сюда ночные тени и с любопытством глядели сверху, покачиваясь и перешептываясь. Иногда на мгновение выделялся из этого заколдованного круга голый прямой ствол сосны, внезапно облитый красноватым светом, но тотчас же пугливо прятался в густую толпу ночных призраков. Я лег на спину и долго глядел на темное, спокойное, безоблачное небо, – до того долго, что минутами мне казалось, будто я гляжу в глубокую пропасть, и тогда у меня начинала слабо, но приятно кружиться голова. А в душу мою сходил какой-то томный, согревающий мир. Кто-то стирал с нее властной рукою всю горечь прошедших неудач, мелкую и озлобленную суету городских интересов, мучительный позор обиженного самолюбия, никогда не засыпающую заботу о насущном хлебе. И вся жизнь, со всеми ее мудреными задачами, вдруг ясно и просто сосредоточилась для меня на этом песчаном бугре около костра, в обществе этих трех человек, несложных, наивных и понятных, почти как сама природа. Странный звук внезапно нарушил глубокое ночное молчание: точно вдали кто-то вздохнул во всю ширину необъятной груди… Даже трудно было определить, с какой стороны послышался этот звук: он пронесся по лесу низко, над самой землею, и стих.
– Птаха яка-сь, – заметил вполголоса Александр.
– Сова! – решил тотчас же уверенно сотский.
– Нет, это не птаха, – задумчиво отозвался Талимон. – Господь его знает, что оно такое… Трапляется это часом в лесу, когда ночь тихая…
– Трапляется, трапляется, – с задором передразнил сотский, – а что трапляется, и сам не знает… Ну, что такое трапляется?
– Разное бывает… – мягко и уклончиво возразил Талимон. – Лес у нас великий, в иньшее место никто не заглядает, даже лоси и волки… Одному богу звесно, что там ночью робится… Старые полесовщики много чего бают, потому что они целый день в лесу да в лесу… все видят, все слышат… Да что ж? – обвел он нас глазами.
– Я и сам многое слыхал…
– Ты слыхал… Много ты слыхал!..
– А что ж? – с добродушной настойчивостью продолжал Талимон. – Вот и слыхал. Бывает часом так, что идешь примерно в ночной обход. Тихо так в лесу… аж листик не колыхнет… А вдруг как зарегочет що-сь, как зарегочет… чудно так… не то человек смеется, не то конь ржет, не то заплакал кто-то.
– Ат!..
– А вот еще однажды слыхал я в ночь на светлое воскресенье, как печаловский колокол звонит. Что ж, скажешь, может быть, неправда тому? – укоризненно обратился Талимон к сотскому.
– Нет, это правда. Печаловский колокол звонит, я это знаю, – подтвердил своим глухим голосом Александр.
Я заинтересовался: что такое означает звон печаловского колокола? Сотский в ту же минуту завозился туловищем, ногами и руками и закричал так громко, что по лесу побежало эхо:
– Что вы их слухаете, паныч! Они вам с три короба наговорят. Ат! Бабья брехня… Не слухайте их, ваше благородие.
Но я гораздо энергичнее, чем прежде, попросил сотского молчать. Талимон принялся рассказывать, но сначала немного стеснялся и все озирался на своего противника. Александр по-прежнему тупо и печально глядел на огонь, не изменяя своей жалкой позы. Время от времени он коротко кивал головой и приговаривал: «Да, да… это верно… это так». Сотский с умышленной небрежностью повернулся спиной к рассказчику.
– Это тоже, паныч, дуже старое дело, что я вам хочу рассказывать, за той самый печаловский колокол. Случилось оно еще в те годы, окоче была у нас панщина. Давным-давно… лет… може быть… (он задумался и вопросительно посмотрел на меня). Лет триста аль бо четыреста будет?.. А мабудь, и больше? Не могу сказать, не знаю, бог его знает, сколько лет… Собирались один раз казаки в поход. Шли они тогда войной на турецкого султана. И вот стали они прощаться со своими… Журьба по всему селу, плач такой великий… аж стон стоит!.. Тот с батькой своим расстается, с маткой старой, того сестра провожает… Но наибольше голосили дивчата. Звесно, у каждой был в войске свой зарученный… И уж эти бабы завше одинаковы. Сама плачет, як река разливается, а все ж таки не утерпит на ухо шепнуть: «Будешь ты, Грицко, аль бо там Павло чи Юрко, будешь вертаться назад из Туреччины, привези мне памятку какую-нибудь, чи перстенек, чи намисто, чи хустку червонную…»
Был в том селе казак, по имени Опанас: гарный хлопец, веселый и шворный такой, але ж только совсем бедный, як собака. Всего у него богатства только и было что на нем. Служил Опанас за наймита у мельника. А у мельника была дочка, такая красивая дивчина, что лепше ее на всю округу не было. Полюбилась эта мельничиха Опанасу; так он ее полюбил, что только из-за нее одной и жил на млыне, потому что старый мельник был человек гордый и скупой, кормил наймитов плохо и даже за людей их не считал… И дочка его такая ж была. Знала она, что Опанас ее крепко любит, но только над ним смеялась. Как услышал Опанас, что идут казаки на войну, стал и он собираться… Вот пришло время и в поход выступать. Приехал Опанас в опушний раз на млын, прощается, бидака, со своей любой. А ей ничего, только смеется с него. «Привези, каже, мне из турецкой земли такое намисто, чтоб такого еще ни у кого не было, чтоб все молодицы и дивчины – и Гапка, и Катерына, и Пруська, – чтобы все они с зависти пожелтели. Тогда, говорит, может, и пойду за тебя замуж. Да помни одно: если твое намисто хоть из золотых дукатов будет, я и то его не приму, а брошу его тебе в твою наймичью пыку. Бо такое намисто я вже у одной проезжей пани бачила».