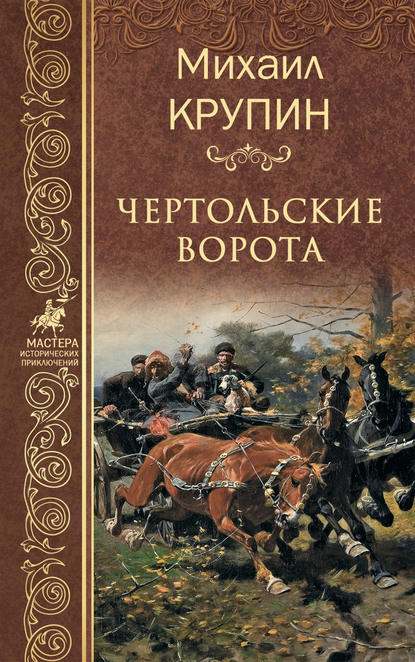© Крупин М. В., 2018
© ООО «Издательство «Вече», 2018
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018
Знак информационной продукции 12+
Легкая победа
Пал первый снег, и состоялась царская охота…
В первом по старому счислению часу, в синем предчувствии света, вышел косматый тихий поезд – из Москвы в Царево займище.
Покачивались в такт оглобель легко очерченные снежком, как попало вываленные из саней края медвежьих полостей. Хоть княжески, царски холеные и принаряженные, меринки все бежали понуро.
От задов столицы, остающейся за полукруглыми, загнутыми на поле полусвета спинками, еще долетали лениво напутствия всех проснувшихся сегодня простуженными, чуть живыми, петухов и кленовых, целыми заиндевелых, журавлей. За ними таял перезвон окраинных посадских колоколен…
Впереди светало: от тонко зеленеющей далече волны – из мрака все приходило в неустойчивость…
Между боярских возков, придерживая шеи горячащихся по первозимью аргамаков, сновали веселые польские капитаны и стольники-охотники, с ними был и царь. Бо́льшие же вельможи нарочно, державственным весом своим, вжимали санки в звучный снег и, осаживая каблуками возчиков, гордо задерживали все движение.
– Это молодым царькам нужны потехи, а старшему глубококровному сословию уже только почтение… Да грешная истома властострастия, вот и весь зуд, и весь покой…
Несмотря на рань, было не очень холодно: тулова князей обогревали шубы, щеки грел мороз.
Подымающийся свет утверждал и усиливал тьмой черты возков и путников. Кусты на медленно передающем свой свет небу снегу виделись зловещими провалами куда-то, а полевые рытвины и придорожные широкие ухабы – слабыми тенями от запорошенных стоеросовых трав. Мягкий рассвет пока не различал ни цвета платий, ни масти коней, – и всадники, на чуть отдаленный взгляд, летали разрозненно-тесными и бесславно-одинаковыми. И только в открытых розвальнях бояре переливались уже дорогой цепью.
Это сквозь иней просияли радужные лисы и соболя, крашеные под малариуз бобры, лазурные песцы, в бечетах на стрелочках охвостий горностаи… Даже в лютые морозы вышагивали в сих пушащихся убранствах думные – не ежась, в свободной теплыни, ровно где-то в Греках или Иерусалиме – при самой колыбели человеческого православия. Не сжимаясь, как южане, разворачивались чувствованиями миров, страстьми подлунными…
Нежно покусывали голые персты искорки особой усии, и боярин понимал, что мех его скрыто снабжен высокой благородной силой, как ногайчатым огнем – тучи густых небес. И пуще гордился боярин своим дивным сбором, и словно весь любовно уходил в бестрепетные чистые объятия тяжелой женщины – таежной лешачихи… Глуше, глубже думный кутался в удельно-холмистый, темно-скоромный покров.
Меховой важный человек чувствовал, почти до ощутимости мысленной, что не только честь и власть пускают человека в мех, но и сама теплица меха исподволь выпестывает, в даже невнимательной к своей одеже душе, ростки глубокого достоинства и самоволия таинственной тысячелапой мощи…
На Займище все было давно готово к ловитве: с лета выбрана земля из старых берлог и запечатано в них на зиму несколько молодых медведей. Над березняком всходили дымы ладных охотницких теремков, рубленных еще при Федоре Ивановиче, окаймленных многими клетями, ледниками и конюшней. На такое обжитое, от всех лесных страхов и неудобств хранимое местечко, на забаву, по цареву приглашению езживали даже бессильные старцы – с супружницами и внучатами.
В этот раз с царским охотным поездом везли и бедную царевну Годунову. Присутствие дочери умершего царя было окружено завесой тщательного умолчания – видно, о ней в поезде знали уже все. Тем паче, что Ксюша сидела, против всякого обыкновения, не в глухо-слепом, тисненном красиво каптане, а просто – в глубоких санях. Царевна сама отстояла сию привилегию: неволя девы рода Годуновых и при Григории осталась для нее неволей, но если дщерь любимого отца и помыслить не могла об ослушании, то пленница влюбленного разбойника все же имела право на каприз. А от суда людского нигде ведь оберега нет – закроешься в каптане, скажут: «вот, давно уж ни трона, ни жердочки за душой, а все велика боярыня – в какой каптан залезла, все туда же, хвост трубой!»; сядешь и на дровни, не похвалят: «не успела родню схоронить – ишь, на приволье вырвалась, страмница озорная!»
В рассветном рассеянии, затиснутая между новой стольницей Урусовой и недремлющей оглохшей старухой Волконской, Ксения глядела на блеклый, снующий, изменяющийся мир во все глаза.
На цуге бахматов сзади разогнался старший Шуйский и, зацепившись слегой за дугу царевниной упряжки, чуть не свалил ее и не опрокинулся сам. Бешено засигав из рукава шубеи плетью, Шуйский согнал «раззяву»-возчика Ксении прочь и сам напросился – как раньше на высочайшую честь – на облучок царевны, дабы с превеликим бережением доставить всю красу на поприще забав.
Князь Василий начал езду, как заправский говорун-ямщик, – с долгого своего повествования, не с вопросов седокам. (Или так еще делает человек, когда ему у собеседника выведать надо немного, но обязательно.)
Обсказывая, что у брата Митрия супруга на сносях, что дальнородный их племянник Миша Скопин неспроста вхож в семью царского печатника Головина, да все никак вот не посватается к его дочке, и прочее, князь вез как попало возок, почти отпустив на свою волю коней, – развернувшийся вполоборота на козлах, следил за ответами уст и глаз у Годуновой.
Ничего не разбирая из того, что ему надо было, в утверждающемся свете Шуйский сам начал, кстати и понемногу, спрашивать – все прямее, все сердечнее…
«Вспомяни, Аксиньюшка, – сказал он наконец тихо, чтобы не смотрела глухая Волконская, – ведь я – давнишный друг всего вашего рода (твердь ему небесная теперь!), так поручи мне, старику, свою печаль-тоску… Ужо замолвит Дума за судьбинушку твою царю словцо… Али чем инако послужу?..»
Но царевну, знающую и уже обжившую свое совершенное безродство, только удивила опасливая родственность князя. Чуть не ежедневно Ксении приходилось отклонять воз мелких докучных услуг, предложений мошенника-монарха и Мосальских – радушных хозяев ее жилья… О решительной же перемене участи она уже мало мечтала. И каким калачиком не оборачивался с облучка к ней князь Василий, только помаргивала ему – так же вежливо и настороженно…
У Волконской вдруг настежь расхлопнулись веки, старуха, метнувшись вперед, вырвала у полуповернутого к Ксюше Шуйского поводья и снова вся завалилась назад, тяня за собой лошадиные шеи и трепеща – «тпр-р-р-у!» – до отчаяния мягкими губами.
Впереди, уже упершись сапогом в санное дышло, в плотном облаке дыхания остановившейся упряжки, сидел на коне поперек дороги царь. Кажется, улыбаясь, он спрашивал:
– Управляетесь?.. Все ли у вас хорошо?..
Быстро поворотившись к всаднику, в каком-то дурацки поспешном, «сидячем», поклоне Шуйский ответил ему: «Хорошо!» и вспять, стопами и бородой, отворотился к царевне – скорее разглядывая, явил ли он ей свой, весь восстановленный в былом величии обычай, использовав вдруг родовую привилегию – держать перед царем односложный ответ.
Волконская вручила, разобрав, князю Василию вожжи. Царь, смутясь, посторонил коня, двинулся подле Ксюшина возка – сначала молча, потом разговорился о погодах в государстве…
Еще издалека пустым усталым оком зимующего ястреба Отрепьев улавливал жизнь в одних низких санях… Долго не приближался к ним на расстояние беседы, вяло клял приглашенных на ловитву по железному установлению бояр…
Когда же князь нахально перелез в Ксюшин возок и зашевелил бородой, Отрепьев наструнился туже и понемногу начал вдруг иначе рассуждать. Что ли не подозрительнее, если царь, чураясь всю дорогу барышни-сиротки, не перемолвит с ней словечка обычайного? А всего-то чуток поговорит – вот и не будет у тонких князей повода к каверзе, позыва к сплетне…
Самозванец смело протрусил к возку царевны, оставив капитанов и драбантов, уже не тратя время на разгадывание – что там может хорошего выйти из уединения ее с ясновельможным паном Шуйским? А что плохое обязательно из этого получится – Отрепьев и так хорошо знал.
И впрямь – едва подъехал, вышло еще хуже. Ксения отвечала ему в свободный подголосок князю, нарочито отстраненно, небрежно и резко, чего не было уже давно, и, отъезжая в уязвлении, Отрепьев проклял миг, когда позвал ее на зрелище медвежьей травли: теперь он перед всем суздальско-ростовским княжьем отмечен бесчестной чертой. Не удостоивший больше ни словом, ни зрачком горлатного Василия Ивановича, царь только как будто зажмурил и бугорки за ушами, и спину – на взошедшее позади в мелких лучиках его лицо.
А между тем за спиною царя Шуйский сам съежился на облучке, в руках у него тряслись вожжи: боярин снова ничего не понимал. Ответствуй самозванцу Ксения испуганно, приниженно или, напротив, злобно, Василий Иванович знал бы, что ей предложить. Расплывись вся вязкой сластью пред своим государем – тоже ясно, играть только пришлось бы тоньше и… как бы в попятном направлении.
Но через какую брешь влезть в помыслы, в страхи и хоти вот к такой? Чем блазнить прикажешь человека, уже провозглашающего в самой середи земного царства полную свою удельную невозмутимость и свободу от царя земли?
Шуйский не знал того же, что Отрепьев. Даже темная надежда на большой дар лицедейства у их подопечной сама по себе не наделяла никаким дальнейшим знанием, ни на вершок не открывала мягкую чью-то – кажется, заснеженную – маску.
Наверно, уже только в ровном дневном свете, уловив миг, смог бы кто-то различить, что отплывающего, одинокого на огромном приукрашенном коне охотника – безвластного и беззащитного перед сонливо роящейся в толстых стволах шапок Думой бояр – было до слезинки сердца жаль и даже впервые жутко за него…
Медведь вышел как шар – весь в не поспевающих за ним, круглых жировых жерновах, – смурной какой-то и сосредоточенный со сна, проломился он сквозь можжевеловый куст на опушку. На миг и куст, и медведь исчезли в облачном белом столпе над сияющим мозаикой горбом сугроба.
Точно мучную, зверь разогнал снежную пыль, страстно крутнув жерновами, и неохотно понюхал все стороны.
Неизвестный ему зимний лес гадко звучал. По всей оцепленной пятине схлопывались медные ладоши чьих-то лап, ругались отрекшиеся родичи волков, играли коровьи рога и здоровые невидимые соловьи громыхали и клацали самозабвенно.
И тогда царь звериной Руси поскакал вперед – к давно глядящим на него недвижным, тихим людям. Перед людьми, что дышали в одеждах зверей, плотным защитным рядом – заплетясь оглоблями – дыбились розвальни без лошадей.
Медведь приостановился.
– Дозволь, что ли? Начну, государь? – попросил человек, сидящий, свеся ноги, на одном возу.
– Приткни бунчук, казачок. Сказал, сам. – Нарядный, развернувшийся тысячью иголок искр, охотник прыгнул с санок – опершись на длинную рогатину – во внутренний безлюдный круг, где лишь зверь, недоумевая, простаивал.
Отстегнув с ремешка пустой блестящий рожок из-под пороха, охотник пустил им в медведя, дразня и приглашая его к полю, к поединку. Медведь не знал, что ему делать с железным пустым конусом, и сплюснул его в лапах уголком.
За санным рядом одни люди сразу оживились, другие – замерли.
Следующий рожок медведь расщепил на небольших средних зубах-резцах – как будто каленое семечко. И хотел отойти уже подальше от греха – от назойливого воинственного человечка, кидающегося безвкусными предметами, но тут сзади бешено взыграли трубы, человечьи и собачьи голоса, захлопотали дулья за кустами: там подымали новых заспанных зверей доезжачие и музыканты оцепления.
Раскрасневшийся охотник, трепеща от нетерпения, вырвал из-за пояса пистоль и тоже метнул ее в лоб своего медведя. Боярские детишки за санями шумно заробели: им казалось – медведь вышел из мамкиной сказки, где он с удочкой сидит над озером, готовит щи, прибирается в своей избушке и стреляет из дробовика.
Но зверь ничего такого не умел – он с досады изломал пистолю, как сухой сучок. И наконец повернул к обидчику круглую, от гнева тяжелеющую голову.
Охотник заранее приставил рогач черенком к ушедшему в снег сапогу и опять смешливо оглянулся на отверстые рты наблюдателей, кого-то ища…
Царевна понимала, что на самозванце, вызвавшемся открыть охотницкую зиму, надежный доспех под армяком и, скорее всего, стальная ермолка под шапкой. Вокруг полно оберегателей, и, вообще, Ксения как-то знала, что женщин возят – хвастать перед ними удалью – только на маленький риск. Когда же опасность и впрямь высока, мужчина биться станет осторожно, даже робко, либо уж грубо, может, подловато, нимало не заботясь о красивости осанки для восторга баб. Так что не возьмет он баб туда, где чуть мерещится нелестный ход или худой конец сражения.
И Ксения, дочь отцарствовавшего боярина, почти не шелохнулась чувством ни когда явился в куст медведь, ни когда вышел встречать сановитого гостя на уровень сугроба русский подставной царь.
Заметив рисковый скос глаза охотника, отстегивавшего булатные бирюльки, в свою сторону, Ксения вовсе отворотилась от поля, лишь крайним лучиком зрачка более чувствуя, чем видя, колебания крупных фигур на снегу.
Уже рядом кипели литавры и сурны. Видно, совсем одурев от низовой ловитвы или в насмешку ей, застучал прямо над ухом по ольхе дятел. К дереву с одной стороны были прислонены заостренные с двух концов слеги – невнятного значения, а с другого края ольхи на складном немецком стульчике посиживал князь Василий Иванович, рассеянно посвечивал из длительных морщин.
Пастью к корявому защитному ряду отворялась, чешуйчато-сканная от копыт, лежея санных следов…
Какое-то неслышное смещение на белом поле заставило Ксюшу вздрогнуть и взглянуть туда.
Медведь уже летел – маша и трепеща, точно крыльями, жирами, подбитыми мехом.
Охотник стоял как подобает – чуть направо отклонив рогач, но сам в этот миг не смотрел на противника, как раз оглянулся – смотрит ли царевна? – и таки повстречал ее глаза.
Медведь набегал.
Где-то, трудно, как одушевленный и душимый взвизгнув, перевернулся воз, – опаздывая, скатывались в снег доезжачие…
У Ксении как от теплого ветра расширились зрачки, ей казалось, что охотник целит ей в глаза невыносимо долго, пусть это даже один миг. (Доспех-то, конечно, доспехом, но и медведь медведем!)
А охотник смотрел и смотрел, завернул выю: вера, страшная робость и точная дерзость, лукавство надежды и сила отчаянности совместились как-то под пятнистым кругом оторочки одним устремлением – кажется, посеребрившим на своем пути енотовые волоски.
Ксения крикнула бы в ответ что-то или не удерживала бы в ресницах удивительный, понадобившийся ему как на грех сейчас ответ, если бы не помнила почему-то еще, что князь Шуйский совсем невдали клеевито пристыл к древу.
Зверь – как ныряльщик на семеновском лубке – замедлился, завис на двух лапах в полете: будто угроза разозлившегося человека вдруг отпустила свой загребший зверя поводок… или даже поводок перехватили сзади чьи-то руки.
В этом мгновенном замирании с остановившимся медведем, случайный ангел-зимородок приподнял было царевну под ложечкой, над сердцем, и чиркнул перед ее глазами сорвавшимся кратким крылом.
Шуйский, Отрепьев и медведь смотрели на нее, и Ксения, не выдержав прямой потравы чувства, тихо – так тихо, что не было чужого шевеления в ответ, с обтянутой тафтою лавочки встала на снег и пошла глубокими коврами – по востекающему ясно солнцу – на этот дальний восток.
– Удар, Димитр! – завопил страшно Бучинский, все время видевший лишь пятачок поединка.
На пути царевны скучились, подламывая ноги, запряженные в каптаны сизые лошадки в яблоках – темнеющих сквозь иней. Они, верно, устали от пальбы и музыки и чувствовали зверя, хоть были оставлены в загибе ста сажен от охотной пятины.
Дремлющие в теплых вязеницах руки возчика легко отдали ей набрякшие вожжи. Ксюша лишь тряхнула их, подобрала под облучком упавший кнут: лошаденки как ждали скорей уйти с жуткого места – бросились вниз по какой-то ежиной тропе.
С греющим ветром снежное искрение внизывалось ей в лицо, шарахались, хватались за склон васильковые кусты, а над этим мчимым светом – вторым солнцем поднялась, выплеснув круг льда забытья, и высоко стояла иорданская вода… Крещенский дальний берег. Хоругви у толп. Стрельцы с маленькими золотыми топориками и чернецы с тяжкими половиками…
Обходя справа, что-то кричали из саней Урусова с Волконской. Справа, со своего коня прыгнул на спину выносного из царевниной упряжки доезжачий и медленно вывернул цуг, в какую ему надо было сторону.
– Аксюненька, государыня-брусничка ненаглядная, встава-ай. Ксюнечка, просыпайся, – плавно пела стольница-постельница. – Невестки Шуйские пришли и на крылечке стоят, в большой терем полдничать кличу-ут…
Напев Урусовой хотел закрасться в самый сон хозяйки, чтобы вести ее к пробуждению как можно учтивее, постепеннее и мягче, а на деле только глубже усыплял.
– Не хочу… я утреничала хорошо… – сквозь пуховую теплую облачность сна лепетала прислужнице Ксюша, слабо перекрестилась и перевернулась на другой бочок. – Ты им скажи, занемогла… Ну их, офрось, кикимор этих…
И царевна снова засыпала в полутемной горенке, грустно, неровно благоухавшей прошлым внутридеревным уютом, как любое русское жилье, топленное во всю зиму меньше двух дней подряд. Вместо отчаянного бегства наудачу с утешной поляны, Ксения с помощью подсевшего возницы, со скромной неуклонностью, похожей на чье-то ветхозаконное, не обижающее никого насилие, попала вдруг первой обратно – на займище… Зато теремок себе здесь она уже облюбовала сама – при въезде в слободу ответив на единственный вопрос возницы. Дом самой простецкой, видно, недавней, стройки.
– И то, чего туда ходить-то? – уже громче сказала в спину засыпающей хозяйки стольница. – Там, они бают, уж и гусли, и другая всяка музыка уже. Наверное, и свистопляски будут – вот безстудие бесовье… – заметала быстрым крестиком себе живот и, помолчав, логично заключила: – А я схожу, пойду. Так, поем хоть, погляжу. Мне без полдника-то что-то и не млеется… Для госпожи моей медвежье крылышко откуда-нито оторву…
Урусова еще чуть-чуть поговорила неведомо с воображаемым кем, – пробуя, может, язычок перед беседой в обществе. Ничего этого Ксения уже не слышала, но осязала ясно через сон, что где-то замедленно пересчитывают струны домрачеи, проливается на снег вишневое вино, и на лавке возле ее теремка сидят две бабы в мехах – жены младших братьев Шуйских, выпивают и закусывают, и поглядывают на ее окно. Потом и это ее сонное осязание ослабло, уступив свободу чему-то неделимо-беззаботному и непонятному.
Когда Ксюша открыла глаза, в горницу низко светило солнце, так что Ксюша затруднилась сказать сразу – долго ли спала, нынешний ли это не свернется вечер или простерся новый день?
И никого не было в комнате. Прохладно было и тихо. Ксения откинула замшевую оленью полость и потянулась к окну.
Под серебряными ветлами на длинной завалинке, покрытой крупным неприкосновенным одеялом, с лета не сидело никаких боярынь. В мирной режущей глаз белизне пропадали дворы и дороги… Ксения зевнула с мягким отзвуком, думая, что – одна, но тут же дрогнула от приглушенного порсканья невдалеке – то ли смешка, то ли всхлипа.
Остывающая печь-варяжка разделяла своей выбеленной плоской шириной две комнаты. Тонкий простенок, как ему и полагалось, неплотно примыкал к печи, оставляя с обеих сторон щель в вершок. Ксения подошла и смущенно, но неудержимо – вскользь оглянула эту щелку, и ей показалось, что посреди той комнаты к трапезе широко накрыт стол и за ним тихо сидят люди – ждут, когда проснется и подсядет к ним царевна.
Тогда Ксения придвинулась поближе к щели и, упершись плечом в чуть теплую заслонку, посмотрела внимательнее.
За столом сидел один царский расходчик Бучинский и, сутулясь, мелко, жестко подрагивал. На столе перед ним не было ни изобильной снеди, ни питья (Ксения спуталась, глянув издали небрежно), а там располагался перевязанный вдоль и поперек бело-багровыми тряпицами царь.
– Уже лучше твоему величеству?.. – спрашивал звонким, обрывающимся шепотом поляк. – Не полегчало ли, душа моя?!..
– Еще хуже… – вяло отозвался царь. – Душа как будто полегчала… Скоро, наверно, улетит…
Бучинский затрясся быстрее.
– Ух, пощади, почекай трохи, – выговорил он, немного успокоившись. – Шредер с Кремля всех снадобий от ран твоих великих подвезет!
– Пусть попа заодно подвезет, – знай гнул свое Лжедмитрий. – …Я уложил ошкуя, но и зверь меня достал, – зачем-то прибавил он, чуть погодя, как будто Бучинский и сам лучше него это не знал. Возможно, тяжелораненый уже начал свой бред. Впрочем, он тут же осмысленно поинтересовался – где сейчас все бояре?
Бучинский отвечал, что все уже разъехались: для общего спокойствия боярам сказано, что царь о зверя только легко поцарапался, оправился и ускакал вперед.
– Езжай следом, скажи… – поднял бледную длань несчастливый охотник, – скажи, пусть ищут себе нового живого цесаря… Езжай, велю… Грехи, какие насчитают, пусть простят… А я хочу только с лебедушкой, с царевенкой моей, проститься… Согрубил я как-то по-кабацки перед ней…
– Да, да, – вставая, подтвердил Бучинский, – поэтому ты и повелел занести себя именно в этот домок, – словно царь просил ему напомнить, как сюда попал: видимо, и у Бучинского от горя ум за разум поворачивал уже.
Прощаясь с русским царем, Ян быстро стукнул лбом о край стола и, захлопнув руками лицо, весь сотрясаясь, вывалился вон из горницы.
Ксения тронула постланное на серединной широкой скамье, принятой ею сперва за обеденный стол, осторожно, одними пальцами.
Охотник медленно раскрыл глаза и тихо сказал:
– Ксюш, извини, я согрубил перед тобой… – и стал покрываться от ушей волной недоброго, кремлево-кирпичного румянца…
Ксения хотела пересчитать и понять его раны, но сразу запуталась – у нее сбилось сердце.
– Да кто ж накрутил тут такое? Дай, перевяжу, – все-таки бодрясь и отвергая пущий ужас, наконец рассердилась она и мягко потянула за нелепый узелок, закисший в бурой киновари на боку у человека. Но вмиг человек выгнулся и с страдальческим присвистом зашипел.
– Ой, прости… болит? – отдернула руки царевна.
– Так, чешется немножко, томит, – опав, мужественно улыбнулся болезный. – Ты просто ладонь положила бы, разу мне помирать отрадней станет…
Раненый снова побледнел, голос, несмотря на видимые муки, звучал ровно и чисто. То ли падающее, то ли восстающее светило зажгло красным справа его неуследимые кудри… И глаза ущербным, старым светом резали взор Ксении.
Она возложила, как он просил, руку, чутко погладила его обвязанные язвы – присев на лавку, на которой до нее сидел Бучинский.
Но скоро Отрепьев снова весь напрягся, его глаза заволоклись каким-то дымом, с уст сорвался опять темный стон.
– Не больно? – испугалась гладить Ксения.
– Нет, уж ломит в другом месте…
– Где? В каком? – тревожилась царевна.
– Да там, дальше, – примерно указывал глазами, опустив подбородок, он.
Ксюша немного краснела.
– Может мне тогда уйти?
– Да, уйди уж лучше, – обрадованно соглашался он, но через малое время опять звал из-за тесовой перегородки:
– Ксюш, иди-ка! А то я без тебя тут совсем отхожу.
Ксения шла с колотящимся сердцем. Все то, что рвами и рогатками громоздилось между ними прежде, вдруг разгладилось, сравнялось. Только тот же угловатый пояс червчатого камня, издали будто двинувшись бесплотно, тот же, да не тот – в окнах теперь смутно-фиалковый, кажется – наклонный, внове – еще родней, тяжелей в первой своей чуть-ощутимости – вдруг охватил их проще прежнего, сомкнул-таки покойные объятия, сумел сковать…
В полутемных морозных сенях, на переходе из горницы в горницу, не было и слышно никакой прислуги, Ксения громко звала – никто не подошел. У печки свалена была охапка березовых дров с налущенной щепой. Царевна открыла поддув, отвела заслонку вьюшки и на блуждающих лениво по дну топки, преувеличенных яхонтах засветила бересту, насовала сверху поленьев. Впервые сама затопила она печь, все легко получилось у нее. От такой удачи Ксения немного успокоилась, постаралась даже высмотреть в ней какую-то добрую мету, дозволение упрочиться в надежде…
Она попоила водой из чумички, висевшей на кадке в углу горницы, своего страдальца и опять присела в изголовии его – почему-то склонясь, коснулась его виска носом, пряди – щекой.
Она чувствовала, сейчас надо бы сказать ему… Но вместо слов чинные странные слезы прошли, отнявшись от ее шепчущих что-то себе самим ресниц, по его щекам…
Раненый тоже притих, тепло увлажненный. Понемногу тончайшая полость сродства закутала их головы, уста и носы, скулы, рамена, длани…
Отрепьев начал обращать тихонько голову. Храня его от лишних потуг и кручин, сиделка, не противореча, сама поцеловала его коротко, дружески в губы, потом сразу еще – и еще. И надолго их скрепила со своими.
В том, что сейчас делалось, Ксения совсем не почувствовала стыда или бесстыдья, или испуга греха – вообще, какого-нибудь срама или совращения. Будто бы сладкая озерность – чистая, томительно-узкая плоскость, и уже совсем, кажется, рядом весь береговой покой, дались ей.
Обняв за плечи, Отрепьев потянул ее к себе. Чтобы он страшно не выворачивал завязанную шею и не тратил зря остатних своих, дорогих сил на мышцевы упрямства, Ксения тоже к нему прилегла на высокую лавку, вся обвила счастливого несчастного собою – как уж сумела: сразу преображая возможную часть его муки в усладу и эту озерную усладу впивая и в себя.
Подле них застрекотала уже, дыша, печкина топка. Царь ясно пылал. Ксения с помощью больного стянула с себя лисицей подбитую кофту – кортель.
Отрепьев легко перевернулся. Коротенькие мускулы его лихорадочно и чисто ходили под китайчатой жесткой парчой, в просветах натягивая льняное сукно, – царь точно не любил, а устанавливал, ковал какой-то свой указ… Или по частям громил чужой закон…
Ксения ни о чем уже не мыслила, успев только увидеть, что она сама и есть закон, и подлежит ему. Столетняя воинская усталость толчками выходила из нее, но не оставляла за собой освобожденного девного места. Запутав руку в его мокрых огненных кудрях, Ксения, тиснув, рванула их – возвращая избыток ужаснувшей сласти малой мукой. Больной крикнул недовольно, но Ксюша уже не посмотрела на такой пустяк.
Выздоравливающий любимый разошелся – повязки ослабли и ползли, трепались, свесясь. Со лба его упала на плечо Ксюше сухая пятнистая тряпица, а под ней на лбу не было борозды.
Царевна задохнулась – хотела отшвырнуть трижды поддельного и подлого, но, простонав, только сильнее тиснула его себе в ноги, дальше зубами потянула за ухо. У озера и фиалкового узкого кремля был за пригорком поворот…
Но вот Отрепьев выгнулся последний раз и стал слабеть. Потом сделался весь сразу впустую-горячим, несродным царевне, немилым и липким. Ксения легко отбросила его в сторону спокойной охладевшей ногой.
Самозванец отсел. Сам зачерпнул и попил из чумички воды, стал вяло собирать мазаные свои, разбросанные завязки.
Ксения тоже подняла мятую улетевшую свою паневу, кортель, отыскала венчик с гребешком. Нашарила в складках постельной тафты поясок и, не опоясываясь, раздумывая, отошла в красный угол – под привычно неприметный, затененный деисус.
Следивший исподлобья царь, памятуя давнюю опаску, перепугался пояска и подскочил.
– Да не бойся уж, не бойся… Было бы мне из-за чего… – опоясываясь, насмешливо успокоила Ксения.
Отрепьев, как ужаленный, бросился снова на нее:
– То есть… как это – было бы из-за чего?! – хотел заново, что ли, тащить на ложе, но, попятившись вдруг, остановился.
Его лицо как-бы проваливалось внутрь. Отдельно, мимоходом глаза изобразили окончательное бесконечное отчаяние…
Единодержец пал перед своей любовью на коленки, а ее ноги обнял – еще чувствуя и вдыхая через опашни что-то одному ему известное. В задумчивости Ксения запутала руку в его смеркающихся прядках…
Глухо звякнула слюда в оконнице – кто-то бросил со двора крепким снежком: на слюде извне остался темный след. Глянули – по глубокой тропинке к крыльцу пробежал Ян Бучинский с поддоном, накрытым серебряной полусферической крышкой. Карман его камзола штофно оттопыривался – моталось маятником, чуть выглядывая, запечатанное горлышко. След в след Бучинскому по тропе бежали стряпчие с дымно-хвостящими на холоде, задраенными «передачами».
Царь открыл другу и сам молча принял у него горячий поддон с рукавицами-прихватками. Тем же хапком, мизинцем, подцепил за горлышко, зажал малахитовый штоф в кисти.
– Ах, моему государю уже лучше?! – громко, правдиво, подивился Ян, быстро зыркнув в глубину беззвучной комнатки – туда, откуда он был виден Ксении.
Отрепьев буркнул что-то в ответ, кажется: «Хуже еще…», толкнул коленом Яна, и тот сразу стушевался в занавесях.
Отрепьев умело, без стука, опустил на стол вино и тяжелое блюдо. Варежкой отвалил скользкий полукруг – облачный клуб взошел над черными ломтями, присыпанными травкою-козелкой и сорочинским пшеном. От омерзения и жара воротя нос, выгнув губы, потянул ножом плохую корку, и сразу под ней улыбнулось нежно-ало, дохнуло волокнисто превосходное медвежье мясо, испеченное в углях…
- Двойник Жанны д’Арк
- Рыцарь Грааля
- Последний рыцарь Тулузы
- Пантера Людвига Опенгейма
- Звенья разорванной цепи
- Камень власти
- Когда падают звезды
- Наследник Тавриды
- Возвращение троянцев
- Меч Вайу
- Вайделот
- Покушение в Варшаве
- Париж слезам не верит
- Окаянный престол
- Чертольские ворота
- Крест короля
- Грехи и подвиги
- Горькое похмелье
- Гуляйполе
- Хмель свободы