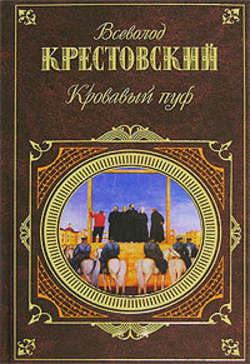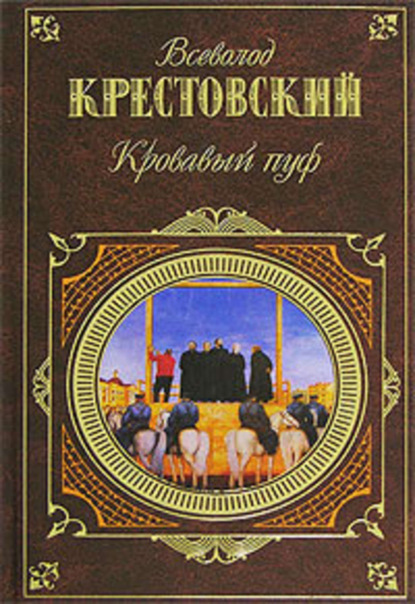ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Воля
Наступил день 19-го февраля 1861 г.
Миллионы труждающихся и обремененных осенили крестом свои широкие груди; миллионы удрученных голов, с земными поклонами, склонились до сырой земли русской. С церковных папертей и амвонов во всеуслышание раздалось вещее слово. По всем градам и весям, по всем пригородам и слободам, по деревням, посадам и селам церковные колокола прогудели, по лицу всея земли Русской, благовест воли.
Русская земля отпраздновала первый день своей всенародной свободы.
А между тем…
В воздухе было что-то давящее, плавало что-то смутное, серое, неопределенное. На горизонте собирались какие-то зловещие, свинцовые тучи.
* * *
– А что, Волгой не возят?
– Покинули… дней с двенадцать, как покинули… Береговым трактом валят.
– Да ведь еще не ломало ее?
– Не ломало, а только вздулась, почернела вся… Под Василем-Сурским, слышно, стон уже дала: надо быть, скоро тронется.
Этими словами молодой человек, выглядывавший из приподнятого воротника бараньей шубы, перекинулся с мужичонкой корявого вида, который сидел за кучера на передке дорожного возка. Возок, по всем приметам, был помещичий, не из богатых, а так себе, средней руки. Его тащила по расхлябанной, размытой и разъезженной дороге понурая обывательская тройка разношерстных кляч.
Был апрель месяц – урочное время, когда по нашим первобытным дорогам нет пути ни на колесах, ни на полозьях. Молодой человек ехал на обывательских, по вольному найму.
Дорога близилась к Волге.
Моросило сверху, слякотило снизу. Время стояло непогожее, а между тем на дороге было заметно какое-то необычное оживление… То и дело плелись мужики – кто в одиночку, кто по два, по три, а то и целыми гурьбами, душ в десять и более; иные тащились на розвальнях, иные верхом на поджарых, мохнатых клячонках, то и дело понукая их болтающимися ногами, когда те вязли в бесконечной, невылазной грязи. И все это как-то оживленно, озабоченно толковало промеж себя, все это как будто торопилось куда-то и плелось по одному и тому же направлению, в ту самую сторону, куда тащился и помещичий дорожный возок.
Корявый мужичонко, ровняясь время от времени с пешеходами, иногда приподнимал свой несуразный малахай и кивал головою. Иные из пешеходов, в свою очередь, отвечали ему поклонами. Видно было, что все эти люди более или менее знакомые, из ближней окрестности.
– Стигней! А Стигней! Куда те прет? – окликнул корявый мужичонко одного из поравнявшихся с ним мужиков.
– В Снежки! – махнул он рукою вдоль по направлению своей дороги. – Все в Снежки махаем.
– За коим лешим в Снежки?
– Да ты отколева? Нешто не слышал?
– Как не слыхать!.. Да рази не покончили?
– Зачем кончать… Там, слышно, теперича воля заправская. Сказывали, будто с Питера енарал наехал в Снежки – будет мужикам снежковским волю вычитывать… И мы, значит, слухать идем.
– Да ведь батька в церкви чел уже?
– Мало чего чел!.. Теперича, баяли, самую заправскую и выложат. А то, слышь ты, снежковский немец-то крестьян снова на барщину погнал – какая ж это воля?
Корявый мужичонко зацмокал, занукал, замахал в воздухе кнутиком – животы принатужились, рванулись понуро вперед – и возок опередил попутного Евстигнея.
До села Высокие Снежки оставалось верст пяток, не более. Молодой человек закутался покрепче в свою баранью шубу и уютно откинулся в глубь возка, на мягкие деревенские подушки. В Снежках ему предстояло переменить лошадей, чтобы плестись с грехом пополам далее, в губернский город, который на фантастической карте Российской империи, существующей в воображении читателя, отмечается довольно крупным кружком с подписью при оном: Славнобубенск, – стало быть, и губернию, существующую в нашей фантазии, мы назовем Славнобубенскою.
Молодой человек, с которым мы повстречались на дороге, принадлежал к числу средней руки дворян Славнобубенской губернии. Читателю необходимо знать, кто он; поэтому автор должен рекомендовать его. Это обыкновенно неизбежное место всевозможных повестей и романов. Сознавая это, автор постарается быть по возможности кратким. Зовут его – по фамилии Хвалынцев, по имени Константин, по отцу – Семенов. Ни в имени, ни в фамилии, как видит читатель, ничего особенно примечательного не оказывается. Хвалынцев с полным правом может называться молодым человеком, потому что ему только что минуло двадцать два года. Он высок и мускулист, сложен крепко и красиво. Если бы спросили о его лице, я бы сказал, что это лицо русское, совсем русское, отмеченное своеобразною красотою. От его открытой улыбки, от его светло-серых больших глаз веяло чем-то симпатичным. Теперь два слова о его общественном положении и о том, зачем он едет по дороге. Кроме того, что уже известно читателю, а именно, что Хвалынцев принадлежит к числу дворян и средней руки землевладельцев Славнобубенской губернии, надобно знать еще, что он четвертого курса университетский студент и ездил недавно на родину хоронить одинокого дядю да разделиться с сестрой своей оставшимся после покойника наследством. Теперь он возвращается в Петербург, но предполагает по делам остаться некоторое время в Славнобубенске. Вот и все «скучное», что пока необходимо было знать читателю о молодом человеке.
Возок поднялся на пригорок – и перед Хвалынцевым в версте расстояния развернулись то скученные, то широко разбросанные группы серых изб, сараи, амбары, овины и бани. Там и сям, над этими группами, поднимались силуэты обнаженных деревьев и белелась каменная церковь с высокой пирамидальной колокольней. Это было село Высокие Снежки.
Широкая площадь между церковью и старым господским домом сплошь была покрыта густыми толпами народа. Во всей этой массе виднелись только одни мужские головы. Бабье и ребятенки жались больше по окраинам площади, поближе к избам и, промеж своих собственных разговоров, пассивно глазели на волнующуюся массу крестьянского люда, над которой гудел, как шмелиный рой, какой-то смешанный, тысячеголосный говор.
Едва Хвалынцев въехал на эту площадь, как возок его вмиг окружен был толпою, и кони стали, за невозможностью двинуться далее.
– Енарал!.. Енарал приехал! – пробежало из уст в уста по кучкам толпы – и головы ближайших к возку мужиков почтительно обнажились. Но это длилось не более полуминуты…. разглядели слишком молодое лицо приезжего, его баранью шубу и решили, что генералу таковым быть не подобает. Обнаженные головы снова накрылись, хотя возок и продолжал еще возбуждать любопытство толпы.
– Братцы! Дайте проехать! – высунулся Хвалынцев вперед из-под кузова.
– Да тебе куда, милый человек? – отозвался чей-то голос.
– На стоялый двор… а потом мимо.
– Мимо… стал быть, не к нам… А нашто тебе на стоялый?
– Лошадей порядить.
– Стало, на вольных едешь?
– На вольных.
– Ну, значит, зашабашить надо! Теперь не порядишь: не повезут.
– А что так?
– Да где уж везти! Не такое время… Каждый мужик на миру нужен: енерала с Питеру ждем.
Между тем корявый мужичонко кое-как попытался прокладывать себе дорогу; удавалось это ему с величайшими затруднениями – толпа расступалась туго, тысячи любопытных глаз пытливо засматривали под кузов. Наконец добрался-таки до стоялого двора, который тут же, на краю площади, красовался росписными ставенками.
Не успел Хвалынцев оглядеться, распустить дорожный ременной пояс да заказать самовар, как к нему вошли несколько мужиков и с поклонами остановились вдоль стены у дверей. Бороды по большей части были сивые, почтенные.
– Что вам, братцы? Чего вы?
– К твоей милости, батюшко! Заступись! Обижают…
– Да я-то что же?.. Я, братцы, проезжий.
– Ты, батюшко, сказывали, питерского енарала передовой… Рассуди, кормилец! Волю скрасть хотят у нас! То было волю объявили, а ныне Карла Карлыч, немец-то наш, правляющий, на барщину снова гонит, а мы барщины не желаем, потому не закон… Мы к тебе от мира; и как ежели что складчину какую, так ты не сумлевайся: удоблетворим твоей милости, – только обстой ты нас… Они все супротив нас идут…
– Кто все? – полюбопытствовал Хвалынцев.
– Да все, как есть: и становой, и исправник; Корвинской барин – предводитель – тоже за немца; опять же офицер какой-то с города наехал – и тот за немца… Одна надежа на енарала на питерского… Пошто же мужиков обижать занапрасно!
Только что стал было Хвалынцев убеждать их, что он к питерскому генералу никакого касательства не имеет, что он просто сам по себе и едет по своей собственной надобности, как вошел новый посетитель – жандарм, во всей своей амуниции.
– Который здесь проезжий?
– Я проезжий. А что?
– Пожалуйте… полковнык требують.
– Какой полковник? Зачем?.. Что ему?
– Не могу знать, – приказано… Пашпорт свой прихватите.
Хвалынцев недоумевая пошел вслед за жандармом.
Пришли в прихожую старого и давно уже нежилого господского дома. Там помещался другой жандарм, и тоже во всей своей амуниции. Хвалынцева пропустили в залу, а солдат почтительно-осторожной, но неуклюже-косолапой походкой на цыпочках пошел докладывать во внутренние покои.
Хвалынцев машинально стал оглядывать залу: узкие потускнелые зеркала с бронзовой инкрустацией; хрустальная люстра под росписным потолком; у мебели тонкие точеные ножки и ручки, в виде египетских грифов и мумий; давным-давно слинялый и выцвевший штоф на спинках и сиденьях; темные портреты, а на портретах все Екатерининская пудра да высочайшие Александровские воротники, жабо да хохлы, скученные на лоб. Над диваном потрескавшаяся большая картина с каким-то мифологическим сюжетом и обнаженными полногрудыми женами. Все это как-то таинственно переносило в другой мир – отживший, некогда блестящий, все это веяло каким-то домашним преданием, семейной хроникой, и светлыми, и темными, но ныне уже потускневшими красками.
В одной из смежных комнат, куда удалился жандарм, раздавались людские голоса. Через полминуты он вышел и, сказав мимоходом Хвалынцеву, чтобы обождал, удалился в прихожую.
– Угол от пяти… полтина очко… пять рублей мазу! – послышалось из внутреннего покоя, сквозь неплотно припертую дверь, когда скрип солдатских шагов затих в передней и воцарилась прежняя тишина.
«Что ж это такое?» – не без удивления подумал себе Хвалынцев.
– Болеслав Казимирыч, да вы хоть талию-то кончите… Успеет еще!..
Студент отвернулся к окну и сквозь двойные стекла, от нечего делать, стал глядеть на двор, где отдыхал помещичий дормез, рядом с перекладной телегой, и тут же стояли широкие крытые сани да легкая бричка – вероятнее всего исправничья. А там, дальше – на площади колыхались и гудели толпы народа.
В зале послышались шаги.
Хвалынцев обернулся и увидел синий расстегнутый сюртук и, с широкими подусниками, характерные усы высокого штаб-офицера, который шел прямо на него.
– Кто вы такой? – осведомился офицер с официально-начальственно-вежливой сухостью, остановившись от него в двух шагах расстояния.
Хвалынцев назвал себя.
– Ваш вид?
Тот достал из дорожной сумки, висевшей у него через плечо, свое университетское свидетельство.
– Зачем вы приехали в Высокие Снежки? – продолжал офицер, наскоро пробежав глазами поданную ему бумагу.
– Проездом в Славнобубенск.
– Гм… проездом… так-с… А зачем же непременно в Снежки?
– Затем, что дорога на Снежки лежит.
– Гм… дорога… А разве нельзя было мимо объехать?
– Ну, об этом надо спросить, полковник, моего извозчика: он это, конечно, лучше меня знает, а мне здешние пути не знакомы.
– Вы разве не знаете, что в Снежках восстание, бунт крестьянский, и едете прямо в Снежки!
– Откуда же знать мне? Я – человек проезжий.
– То-то я и вижу, что проезжий… А зачем вы сейчас мужиков к себе собирали?
Хвалынцев объяснил ему, как было дело.
– Ваша подорожная?
– Я еду по вольному найму на обывательских.
– Гм… на обывательских… без подорожной… Так-с.
Офицер смотрел на Хвалынцева пристальным, испытующим взглядом: он, очевидно, не доверял его словам.
– Вы… извините, – начал он со вздохом, спустя некоторое время. – Я должен задержать вас… тем более, что и так вы все равно не достали бы себе лошадей… не повезут, потому – бунт.
В это время в залу вошли из того же внутреннего покоя еще четыре новые личности. Двое из вошедших были в сюртуках земской полиции, а один в щегольском пиджаке шармеровского покроя. Что касается до четвертой личности, то достаточно было взглянуть на ее рыженькую, толстенькую фигурку, чтобы безошибочно узнать в ней немца-управляющего.
Пиджак переглянулся с Хвалынцевым, и оба как будто узнали друг друга.
– Господин Хвалынцев, если не ошибаюсь? – с изящной вежливостью прищурился немножко господин в пиджаке.
– Не ошибаетесь, – столь же вежливо поклонился студент.
– Имел удовольствие видеть вас на похоронах вашего дядюшки… мы хоть и разных уездов, но почти соседи и с дядюшкой вашим были старые знакомые… Очень приятно встретиться… здешний предводитель дворянства Корытников, – отрекомендовался он в заключение и любезно протянул руку, которая была принята студентом.
Штаб-офицер передернул характерными русыми усами и недоумело поглядел на того и другого.
– Послушайте, – таинственно взяв под руку, отвел он предводителя в сторону, на другой конец залы, – студиозуса-то, я полагаю, все-таки лучше будет позадержать немного… Он хоть и знакомый ваш, да ведь вы за него ручаться не можете… А я уж знаю вообще, каков этот народец… Мы его эдак, под благовидным предлогом… Оно как-то спокойнее.
– Как знаете, – пожал плечами предводитель, – это уж ваше дело, полковник.
– То-то; я думаю, что лучше позадержать… Вот он – едва приехал, а к нему уж мужичье нагрянуло советов просить. Ну, а я уж знаю вообще эти студентские советы!..
– Господин Хвалынцев… извините… это – маленькое недоразумение! – с любезной улыбкой начал офицер, направляясь к студенту и подшаркивая на ходу. – Вот ваш вид; но все-таки, я полагаю, вам лучше бы переждать немного… Во-первых – сами изволите видеть, – время тревожное, ехать не безопасно… Мало ли что может случиться… Это, во всяком случае, риск; а во-вторых – смею вас уверить, – вы здесь никак теперь лошадей не достанете, не повезут… До того ль им теперь!.. Мы и сами вот как бы в блокаде содержимся, пока до прибытия войска.
Хвалынцев поблагодарил предупредительного полковника, но при этом все-таки выразил желание попытаться – авось либо и удастся порядить лошадей.
– Мм… сомневаюсь, – покачал головой полковник, – да если бы и удалось, я все-таки не рискнул бы отпустить вас. Помилуйте, на нас лежит, так сказать, священная обязанность охранять спокойствие и безопасность граждан, и как же ж вдруг отпущу я вас, когда вся местность, так сказать, в пожаре бунта? Это невозможно. Согласитесь сами, – моя ответственность… вы, надеюсь, сами вполне понимаете…
Хвалынцев ничего не понял, но тем не менее поклонился.
– Ну, нечего делать, – пожал он плечами, – пойду на стоялый.
– Нет, уж на стоялый не ходите, – торопливо предупредил офицер, – это точно так же не безопасно… Ведь уж к вам и то забрались мужики-то наши…
– Да что ж им во мне? Ведь не против меня бунтуют.
– Вы полагаете? – многозначительно, глубокомысленно и политично сдвинул полковник брови и с неудовольствием шевельнул усами. – Это бунт, так сказать, противусословный, и я, по долгу службы моей, не отпущу вас туда.
– Но как же мне быть, господин полковник?
– Остаться здесь до времени.
– Но мои вещи.
– Жандармы перенесут ваши вещи.
– Но, наконец, я есть хочу, отдохнуть хочу…
– Все это к вашим услугам. Вот – Карл Карлыч, – рекомендательно указал он рукою на рыженького немца, – почтенный человек, который озаботится… Вот вам комната – можете расположиться, а самовар и прочее у нас и без того уже готово.
Хвалынцева внутренно что-то передернуло: он понял, что так или иначе, а все-таки арестован жандармским штаб-офицером и что всякое дальнейшее препирательство или сопротивление было бы вполне бесполезно. Хочешь – не хочешь, оставалось покориться прихоти или иным глубокомысленным соображениям этого политика, и потому, слегка поклонившись, он только и мог пробормотать сквозь зубы:
– Я в вашей власти.
– Очень приятно! Очень приятно-с! – ответил полковник с поклоном, отличавшимся той невыразимо любезной, гоноровой «гжечностью», которая составляет неотъемлемую принадлежность родовитых поляков. – Я очень рад, что вы приняли это благоразумное решение… Позвольте и мне отрекомендоваться: полковник Пшецыньский, Болеслав Казимирович; а это, – указал он рукой на двух господ в земско-полицейской форме, – господин исправник и господин становой… Не прикажете ли чаю?
– Да, я прозяб и хотел бы согреться.
– В таком случае пойдемте с нами, – предложил ему предводитель, указав на дверь во внутренний покой, – и все отправились по указанному направлению.
Здесь предстало Хвалынцеву новое зрелище. То был старинный барский кабинет, с глубокими вольтеровскими креслами, с пузатым бюро, с широкой оттоманкой от угла в две стены. Хроматические гравюры, висевшие тут, изображали охотничьи сцены из английской жизни да сантиментальные похождения Поля и Виргинии. Посередине комнаты стоял ломберный стол, на котором валялись мелки и карты – атрибуты неоконченного штосса. В углу, на другом столе, помещался вместительный самовар с чайною принадлежностью, лимоны, бутылка коньяку, графин с водкой, селедка и сыр. Вся эта снедь и пития малым остатком красноречиво доказывали, что присутствующие успели уже неоднократно оказать им достодолжную честь.
Едва вошел Хвалынцев в эту комнату, как на него злобно зарычали два мордастых бульдога, которые были привязаны сворой к ножке пузатого бюро. Но немец-управляющий внушительно цыкнул на них, и они замолчали. Кроме яствий и карт, Хвалынцева немало удивило еще присутствие в этой комнате таких воинственных предметов, как, например, заряженный револьвер, лежавший на ломберном столе, у того места, на которое сел теперь полковник Пшецыньский; черкесский кинжал на окошке; в углу две охотничьи двухстволки, рядом с двумя саблями, из коих одна, очевидно, принадлежала полковнику, а другая – стародавняя, заржавленная – составляла древнюю принадлежность помещичьего дома. Вообще, эти «злющие» бульдоги на своре, этот заряженный револьвер, и ружья, и кинжал, и сабли ясно доказывали, что все эти господа действительно почитали себя в самой серьезнейшей блокаде и намеревались недешево продать русским мужикам свое драгоценное существование, если бы те задумали брать приступом господскую твердыню.
– Когда же вы меня отпустите отсюда, полковник? Когда я буду свободен? – спросил Хвалынцев, volens-nolens [1] располагаясь на старой оттоманке.
– О, помилуйте, вы и теперь свободны, но… только я не могу отпустить вас раньше окончательного укрощения; когда волнение будет подавлено, вы можете ехать куда угодно.
– А когда оно будет подавлено?
– Это зависит от прибытия войск. Вчера мы послали эстафету, сегодня – надо ожидать – прибудут.
– Да что это у вас за восстание такое? Как? Почему? Зачем? Объясните, пожалуйста, – обратился Хвалынцев к предводителю.
– О, это презапутанная и вместе пренелепая история, – с изящным пренебрежением выдвинул предводитель свою нижнюю губу. – Никаких властей не признают, Карла Карлыча не слушают… Какой-то вредный коммунизм проявился… Imaginez-vous [2], не хотят понять, что они должны либо снести те усадьбы, которые стоят ближе пятидесяти саженей к усадьбе помещика, либо, по соглашению с помещиком, платить за них выкуп. Не хотят ни того, ни другого. «Усадьба, говорит, и без того моя была!» (Предводитель, ради пущей изобразительности и остроумия, крестьянские реплики в своем рассказе передразнивал на мужицкий лад.) Вот и толкуйте с ними! И теперь, à la fin des fins [3], вышли на площадь, толкуют Dieu sait quoi [4] о том, что волю у них украли помещики, и как вы думаете, из-за чего? Для их же собственной пользы и выгоды денежный выкуп за душевой надел заменили им личной работой, – не желают: «мы-де ноне вольные и баршшыны не хотим!» Мы все объясняем им, что тут никакой барщины нет, что это не барщина, а замена выкупа личным трудом в пользу помещика, которому нужно же выкуп вносить, что это только так, пока – временная мера, для их же выгоды, – а они свое несут: «Баршшына да баршшына!» И вот, как говорится, inde iraе [5], отсюда и вся история… «Положения» не понимают, толкуют его по-своему, самопроизвольно; ни мне, ни полковнику, ни г-ну исправнику не верят, даже попу не верят; говорят: помещики и начальство настоящую волю спрятали, а прочитали им подложную волю, без какой-то золотой строчки, что настоящая воля должна быть за золотой строчкой… И вот все подобные глупости!
– Но для чего же они на площадь повыходили? – спросил Хвалынцев.
– Вот, слухи между ними пошли, что «енарал с Питеру» приедет им «волю заправскую читать»… Полковник вынужден вчера эстафетой потребовать войско, а они, уж Бог знает как и откуда, прослышали о войске и думают, что это войско и придет к ним с настоящею волею, – ну, и ждут вот, да еще и соседних мутят, и соседи тоже поприходили.
– М-да… «енарал»… Пропишет он им волю! – с многозначительной иронией пополоскал губами и щеками полковник, отхлебнув из стакана глоток пуншу, и повернулся к Хвалынцеву: – Я истощил все меры кротости, старался вселить благоразумие, – пояснил он докторально-авторитетным тоном. – Даже пастырское назидание было им сделано, – ничто не берет! Ни голос совести, ни внушение власти, ни слово религии!.. С прискорбием должен был послать за военною силой… Жаль, очень жаль будет, если разразится катастрофа.
Но… опытный наблюдатель мог бы заметить, что полковник Болеслав Казимирович Пшецыньский сказал это «жаль» так, что в сущности ему нисколько не «жаль», а сказано оно лишь для красоты слога. Многие губернские дамы даже до пугливого трепета восхищались административно-воинственным красноречием полковника, который пользовался репутацией хорошего спикера и мазуриста.
– Нэобразованность!.. – промолвил господин становой семинарски-малороссийским акцентом. – Это все от нэобразования!
– Русски мужик свин! – ни к селу ни к городу ввернул и свое слово рыженький немец, к которому никто не обращался и который все время возился то около своих бульдогов, то около самовара, то начинал вдруг озабоченно осматривать ружья.
– Н-да, это грустный факт! – изящно вздохнул предводитель. – Я никак не против свободы; напротив, я англичанин в душе и стою за конституционные формы, mais… savez– vous, mon cher [6] (это «mon cher» было сказано отчасти в фамильярном, а отчасти как будто и в покровительственном тоне, что не совсем-то понравилось Хвалынцеву), savez-vous la liberté et tous ces réformes [7] для нашего русского мужика – с’est trop tôt encore! [8] Я очень люблю нашего мужичка, но… свобода необходимо требует развития, образования… Надо бы сперва было позаботиться об образовании, а то вот и выходят подобные сцены. …
Хвалынцеву стало как-то скверно на душе от всех этих разговоров, так что захотелось просто плюнуть и уйти, но он понимал в то же время свое двусмысленное и зависимое положение в обществе деликатно арестовавшего его полковника и потому благоразумно воздержался от сильных проявлений своего чувства.
– Да, – заметил он с легкой улыбкой, – но дышать-то ведь хочется одинаково как образованному, так и необразованному…
Предводитель тоже своеобразно улыбнулся и, не возразив ни слова, сосредоточенно стал крутить папироску. Зато Болеслав Казимирович очень нехорошо передернул усами и, пытливо взглянув искоса на студента, вышел из комнаты.
– Лев Александрович! – многозначительно кивнул он предводителю из-за двери – и тот сейчас же удалился.
– А что, не отлично я разве распорядился с арестацией этого студиозуса? – вполголоса похвалился полковник. – Помилуйте, ведь это красный, совсем красный, каналья!.. Уж я, батенька, только взгляну – сейчас по роже вижу, насквозь вижу всего!..
– Н-да, но что толку арестовать-то его?.. Только нас стесняет… Ну, его! пускай себе едет!
Пшецыньский удивленно выпучил глаза и покачал головою.
– Ай-ай-ай, Лев Александрович! Как же ж это вы так легкомысленно относитесь к этому! «Пускай едет»! А как не уедет? А как пойдет в толпу да станет бунтовать, да как если – борони Боже – на дом нахлынут? От подобных господчиков я всего ожидаю!.. Нет-с, пока не пришло войско, мы в блокаде, доложу я вам, и я не дам лишнего шанса неприятелю!.. Выпустить его невозможно.
Полковник, очевидно, очень трусил неприятеля. Будучи храбрым и даже отважным в своей канцелярии, равно как и в любой губернской гостиной, и на любом зеленом поле, – он пасовал перед неведомым ему неприятелем – русским народом. Но боязни своей показать не желал (она сама собой иногда прорывалась наружу) и потому поторопился дать иное, но тоже не совсем для себя бесполезное значение вызову предводителя на секретное слово.
– А что я вас хотел просить, почтеннейший Лев Александрович, – вкрадчиво начал он, улыбаясь приятельски-сладкой улыбкой и взяв за пуговицу своего собеседника. – Малый, кажется мне, очень, очень подозрительный… Мы себе засядем будто в картишки, а вы поговорите с ним – хоть там, хоть в этой комнате; вызовите его на разговорец на эдакий… пускай-ко выскажется немножко… Это для нас, право же, не бесполезно будет…
Предводитель помялся, поморщился, но не сделал ни малейшего возражения полковнику.
– Ваше высокобородие! Генерал требуют! – громогласно доложил жандарм, в эту самую минуту показавшись в передней.
– Как генерал?!. разве уж приехал? – оторопело спохватился Пшецыньский.
– Сычас зволыли прибыть.
– Ай-ай, батюшки мои!.. Живей мундир!.. Поворачивайся, каналья!.. Скорее!..
Полковник со всех ног бросился облекать себя в полную парадную форму.