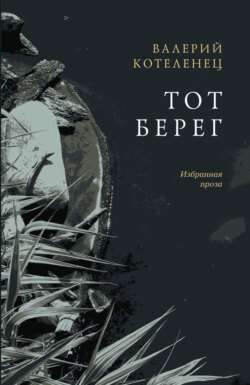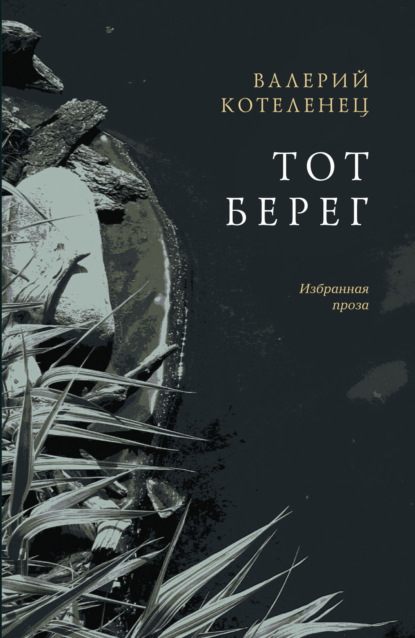Глава 4
До окончания срока путёвки оставалось четыре дня. Но на этом полезаевский отпуск ещё не заканчивался. В общей сложности отдыхать ему было почти полторы недели. Целая уйма времени. А вот куда девать такую уйму? Что делать с ней? Тем более сейчас, после этой дурацкой истории, которая перевернула всю жизнь Сергея Тимофеевича и, можно сказать, разбила её вдребезги, как будто какой-нибудь шампанский бокал.
Первые двое суток Полезаев пластом лежал на кровати. Ничего не ел. Никуда не выходил. И только на третий день, ближе к обеду, когда стало совсем невтерпёж от мыслей, копошащихся в голове его скопищем скользких, отвратных червей, он вскочил с кровати и кинулся на улицу, на свежий воздух.
Но лучше бы он не делал этого. Лучше бы лежал себе дома и потихоньку испускал дух. Или уж, в конце концов, петлю накинул на заметно истончившую за двое суток шею.
Поначалу всё складывалось хорошо. Можно сказать, замечательно. Огромное южное солнце ухнуло на Полезаева жаркой ослепительной глыбой, вышибив моментально из души и разума его всю эту невыносимую муть и жуть. Но, как выяснилось впоследствии, совсем ненадолго.
Сергей Тимофеевич постоял минуту-другую у своего подъезда, привыкая к яркому свету (все эти два дня провёл он в полутьме, так и не раздёрнув ни разу тяжёлых оконных штор), затем обвёл прищуренным взглядом двор, привычно занятый своей мелкой, незначительной жизнью, и направился к щербатой, слегка скособоченной арке из красного кирпича, прямиком выходящей на улицу имени 4-го Съезда работников пищевой промышленности (в просторечии Шамовку) – главную улицу микрорайона. Куда потом повернутся стопы его, он ещё точно не знал. Да это и не имело сейчас особенно важного значения. Не всё ли равно? Лишь бы идти, лишь бы не оставаться дома, в тяжко давящих стенах. Лишь бы сбежать от… А от кого, собственно? От себя?.. И от себя тоже. Хотя возможно ли это вообще?..
«А может, напрасно я так? – думал он, шагая по яркой, пёстрой от людей Шамовке. – Может, ничего страшного и не стряслось? Жизнь продолжается. Солнце светит. Птицы поют. Люди вон снуют себе, суетятся. Мороженое покупают, газировку из автоматов пьют… И тротуар, похоже, недавно поливали – блестит весь, как будто стёклышко… А воздух-то, воздух какой!.. Нет, зря я, наверно, так…»
Но судьба-злодейка, похоже, считала, что не зря. И не приминула напомнить об этом своей незадачливой жертве.
Сергей Тимофеевич, у которого двое суток не было во рту и маковой росинки, надумал перекусить в одном из летних кафе, разросшихся повсюду за последнее время, как дождевые грибы. Названия у него, по всей видимости, не было (впрочем, оно, возможно, и существовало, но Полезаев никакой вывески не заметил), а обслуживали, как показалось ему, совсем недурственно для уличного заведения. Синие пластмассовые столики под тенистыми зонтами, окружённые четвёрками таких же по цвету, обтекаемой формы стульев, приятно ласкали взор неожиданной чистотою. И на каждом, что особенно подкупило Полезаева, красовалась голубая салфетница (весьма изящная, из той же пластмассы) и полная, доверху, стеклянная солонка. А главное, здесь подавали мясное – сочные, исходящие сногсшибательным духом горячие манты. Да и посетителей было совсем немного.
Едва Сергей Тимофеевич пристроился за крайним столиком, откуда-то выскочил шустрый, молодцеватый официант – чистенький, в белой рубахе, с бабочкой – тотчас же принял заказ и побежал исполнять. А заказал Полезаев, кроме желанных мантов, ещё грибной салат, чашечку турецкого кофе и одно бисквитное пирожное с кремом.
«А ведь всё не так уж и плохо!» – подумал Сергей Тимофеевич, не подозревая, что через какое-то несчастное мгновение от этой благостной мысли не останется и малейшего следа.
И буквально тотчас же его словно ударило обухом…
В кафе входила… она!.. Господи! Как она могла здесь оказаться? Ей же в данный момент положено находиться там, в «Чайке»!.. Она была в том самом голубом платье. И зелёные камушки глаз её весело поблёскивали, словно только что омытые свежей морскою влагой…
А рядом с Лиличкой… Нет, такого Полезаев не мог представить даже в самом кошмарнейшем из снов!.. Тот самый урод с переломанным носом, из-за которого всё и стряслось…
Полезаеву показалось, что мир вместе со временем его и пространством вдруг разлетелся вдребезги. Он почувствовал, что сейчас умрёт. Его трясло. И воздуха в груди катастрофически не хватало.
Боясь оказаться замеченным, Сергей Тимофеевич собрал последние силы и отвернулся, с трудом овладев неповоротливой головою. Но Лиличка и этот мерзавец были слишком увлечены собой, чтобы удостоить кого-нибудь своим вниманием. Заняв свободный столик в дальнем углу кафе, они тут же принялись о чём-то оживлённо беседовать.
Полезаев не видел, что манты давно уже поданы и лежат перед ним, истекая дурманящим соком. Глаза его застилало лиловым туманом, а сердце грохотало, как полковой барабан.
«За что?! – вопило всё его существо. – Нельзя же так с человеком! Как же так?..»
Он порывался встать, подойти к ним, высказать Лиличке всё, что скопилось в страдающей душе, а этого негодяя взять за импортный галстук и в кровь избить ему красную, самодовольно ухмыляющуюся рожу… Но он прекрасно понимал, что никогда не отважится сделать такое. И потому бессильная ярость ещё пуще палила огнём нутро его, угрожая выжечь всё, что там есть, без остатка, до самой последней живинки.
Не в силах терпеть более, Сергей Тимофеевич вскочил, опрокинув лёгкий, почти невесомый стул, и кинулся бежать, наталкиваясь на прохожих, не слыша позади отчаянных воплей разъярённого официанта.
Остановился Полезаев лишь тогда, когда ноги отказались нести его смертельно усталое, содрогающееся в странных конвульсиях тело. Он притулился боком к какой-то стене, закрыл глаза и бессильно обмяк, не понимая, жив он ещё или умер и где находится душа его – на земле ещё или уже где-то далече… И не ангелы ли это Божьи, шелестя над ним белоснежными крылами, зовут его к себе…
* * *
– Эй, очнись! – откуда-то издали, не то с неба, не то из-под земли, воззвал к нему чей-то голос. – Тебе говорят, мужик! Ты что, помирать надумал?
Полезаеву было уже безразлично, кто зовёт его и зачем. Он почти не сопротивлялся, когда его вели куда-то под руки, усаживали где-то, поили какой-то отвратно пахнущей дрянью…
Когда же Сергей Тимофеевич очнулся наконец и возымел способность видеть, что творится вокруг, он обнаружил себя в том самом кафе, из которого только что уносил ноги… Впрочем… Нет, кафе, кажется, было другое… Да, определённо другое, хотя и очень похожее на то. Почти такие же столики. Правда, иного цвета – зелёного. Почти такие же салфетницы и солонки…
– Ожил? Давно бы так, – сказал сидящий напротив человек – сухой, остроносый, с короткой спортивной стрижкой и золотой фиксою во рту. – А давай-ка мы ещё по одной…
Полезаев покорно выпил почти полстакана чего-то крепкого, обжигающего. Скорее всего, водки. Закусил тёплой, мыльного вкуса сосиской. В голове его тотчас зашумело, а внутри сразу сделалось горячо-горячо. И вскоре пришло прояснение.
Он, вообще-то, не пил. Не находил в этом сомнительном и крайне опасном для здоровья занятии того удовольствия, что почему-то находит в нём едва ли не большая часть человечества. Да и профессия Сергея Тимофеевича – инженер по технике безопасности – приучила его осторожно относиться ко всему, что опасно, что может нанести человеку какой-либо вред. И совсем не важно, какой именно. Вред – он и есть вред. Опасность – она и есть опасность. Да, Полезав никогда не делал того, что чревато нехорошими последствиями как для него лично, так и для кого-либо другого. И это был едва ли не важнейший жизненный принцип его. Он старался неукоснительно следовать ему всегда, везде и во всём. По крайней мере, до недавнего времени…
– Звать-то тебя как? – спросил остроносый, запросто похлопывая его по плечу.
– Меня? – удивился Полезаев, не сразу уразумев, чего от него хотят.
– А кого же ещё? Тебя конечно. Не меня же.
– Ну… – замешкался Сергей Тимофеевич, с трудом припоминая своё имя. – Меня… Подождите… Сергей… Да, кажется, так…
– Кажется? Да ты, брат, не перегрелся ли, часом, на солнце?
– Нет, нет, что вы… – слабо замотал Полезаев головою.
– Кажется ему, видите ли! – ухмыльнулся остроносый. – Креститься надо, если кажется.
– Нет, точно – Сергей.
– То-то же! Не люблю неопределённостей. Предпочитаю конкректно знать, с кем дело имею. Не выношу, понимаешь ли, когда темнят и всё такое… Ясно?.. А меня Вольдемаром зовут.
– Очень приятно, – кивнул Полезаев. – Только идти мне надо. Вот вам… За помощь, так сказать, за участие…
И, достав из кармана сторублёвую бумажку, положил на стол.
– Извините, я пошёл.
Вольдемар громко расхохотался, блеснув золотом во рту, но к деньгам не притронулся.
– Сидеть! – приказал он вдруг не то всерьёз, не то в шутку. – И не рыпаться! А деньги мне твои не нужны. Забери. Своих навалом. Пей! Сегодня я угощаю.
И Полезаев повиновался. Сам не зная почему. Выпил ещё одну, пожевал безвкусных сосисок. И деньги спрятал обратно в карман.
– А ты случайно не писатель? – поинтересовался вдруг Вольдемар.
– Нет, – замотал головой Полезаев. – Инженер я. По технике безопасности.
– Это хорошо, – Вольдемар вполне искренне обрадовался.
– Что именно? – не понял Сергей Тимофеевич. – Что не писатель? Или что инженер?
– И то и другое. Но скорее первое, – Вольдемар задумался. Нос его, и так неестественно острый, заострился до какой-то немыслимой крайности. Не нос, а настоящее шило. Хоть валенки подшивай. – Да, первое… Точно первое.
– Почему же?
– Да так… Был тут у нас писатель один. На тебя, кстати, здорово похожий. Тоже с бородёнкой. И лысина почти такая же… С ним занятная история получилась. Если хочешь, могу рассказать.
«А почему бы и не послушать? – подумал Полезаев, уже вполне пришедший в себя и почти способный нормально мыслить и воспринимать. – Домой я всё равно сейчас не пойду. Посижу ещё. Драться он, похоже, на меня не кинется… Хотя рожа у него… Явно бандитская. Уголовная какая-то рожа… И руки все синие от наколок… Нет, ничего он мне, скорее всего, не сделает. Сразу видно, когда человек настроен мирно. Сидит спокойно, руками в лицо не тычет… Ладно, посижу. Будь что будет…»
Сергей Тимофеевич собрался сказать «да», но Вольдемар, не больно дожидаясь его согласия, уже рассказывал свою историю. Рассказывал он довольно длинно, многословно, сопровождая речь эмоциональными междометиями и замысловатыми выражениями нецензурного характера, каких Полезаеву не доводилось слыхивать отроду…
* * *
Писатель тот (ни имени его, ни фамилии Вольдемар не назвал) жил неподалёку от этого самого кафе, где они сидели сейчас. В своём двухэтажном особняке на углу Шамовки и Бестемьяновской (Полезаев хорошо знал этот дом, поскольку пять раз в неделю проходил мимо него, следуя на службу). Писатель, как видно, был средней паршивости, особой известности не имел, трудов его никто никогда не встречал ни на книжных прилавках, ни в библиотеках. Но имел он пытливую до надоедливости натуру и всегда носил с собой толстую записную книжицу, куда записывал всё, что видел и слышал вокруг. Словом, старался запечатлеть жизнь во всех её больших и малых подробностях – точно такой, какая она есть. Буквально. Без всякого зазрения совести.
– Нельзя, – говаривал писатель, – допускать отклонений от натуры. Не терпит она искажения правды и не принимает произвола.
Вот с натуры он и писал. Ходит, бывало, смотрит пристально вокруг и всё примечает. А как попалось что-нибудь стоящее – тут же достаёт свою книжицу и всё дотошно фиксирует. До самых мельчайших подробностей. Видит, например, летит муха. Простая навозная муха, каких великое множество. Так он её незамедлительно ловит, разглядывает со всех сторон, замеры точные производит, крылья и лапки пересчитывает. И только потом отпускает. Если, конечно, остаётся что отпускать. И немедленно описывает результаты в своей книжице. Дотошно, как оно есть. Всю её мушиную подноготную. Всю голую правду.
Или, допустим, сидит человек на лавочке. Сидит, никого не трогает, скучает себе и в затылке чешет от нечего делать. Ну и пускай бы сидел – это его законное человеческое право. Может быть, ему так нравится. Так нет же, писатель наш тут как тут. Подойдёт, присядет рядышком и давай выспрашивать. Как зовут, мол, где родился, какого роду-племени, сколько судимостей имеет. Словом, всю правду требует выложить, как на допросе. А потом отпускает человека восвояси. Если тот, конечно, не успел дать дёру прежде. И всё до последнего словца – в книжицу.
А потом, когда наш писатель приходит к себе домой, садится он за пишущую машинку, достаёт свои записи. Глядишь, к утру готова основательная новелла или глава эпического романа.
И вот попадается ему однажды удивительный типаж – «колоритный», как он любил выражаться, «фактуристый». И прямо из самой гущи народной жизни. Просто бери – и на бумагу. Целиком и полностью.
Писатель тут же впивается в него, как клещ. Приглашает вот в это самое кафе, пивком за свой счёт угощает, вызывает на откровение. И давай строчить в книжицу – только страницы шуршат.
А типаж изливает душу, разворачивает яркие, феерические картины своей поучительной жизни. И говорит вдруг:
– Маловато будет.
– Чего? – спрашивает писатель.
– Пива. Чего ж ещё?.. Давай-ка, голубок, повторим по паре кружечек… Нет, погоди! Пивом тут, похоже, не обойдёшься. Водки хочу. А не желаешь – вали на все четыре!
Видит писатель – дело худо. Не бросать же начатое. Много ещё чего не договорено. А самое интересное, самое главное – впереди.
Заказал бутылку водки. Пишет дальше.
Типаж повеселел, разговорился, чешет без остановки. Вот-вот уже дело пойдёт к концу. Материала – на целый роман. И немаленький, страниц эдак на пятьсот.
А типаж вдруг опять замолкает и требует ещё.
Делать нечего, берёт писатель ещё водки. А потом ещё и ещё… И видит – кончаются деньги.
– Всё, – говорит. – Пустой я.
– Ну, как знаешь, – отвечает типаж. – Тогда разговор окончен. Чао, бамбино!
Сокрушается писатель, достаёт заначку последнюю. Как раз на двести грамм. Опять вроде дело пошло.
А типаж доходит до кондиции, теряет нить разговора и замолкает. Только глядит оловянными глазами и что-то соображает себе. Нехорошее что-то. А потом спрашивает:
– А ты, собственно, кто есть такой?
– Писатель я, – отвечает писатель. – Я из твоей жизни роман хочу сделать.
– Роман, говоришь, – вскидывается типаж. – Знаем мы ваши романы. Давай документы показывай!
– Зачем? – удивляется писатель. – Нет у меня с собой никаких документов.
– Ясно! – говорит типаж. – То-то, я смотрю, личность мне твоя больно знакомая, гражданин капитан.
– Что за чушь? – недоумевает писатель. – Не понимаю я ваших инсинуаций. Какой такой капитан?
– Точно! – оживляется типаж. – Вспомнил! Из третьего райотдела. Допрашивал ты меня в прошлом году по случаю задержания.
– Ошибка это, – уверяет писатель.
– Ошибка? А сто двадцать рублей ты у меня тогда тоже по ошибке изъял?
– Я определённо не понимаю, в чём дело, – негодует писатель, пытаясь сбежать.
Но типаж начеку, хоть и лыко еле вяжет.
– Ага! Дело, говоришь! Вот ты и выдал себя с потрохами! Вынюхиваешь, выспрашиваешь… Дело шьёшь, гражданин начальник?
С этими словами типаж хватает со стола вилку и наносит несчастному писателю одиннадцать ранений различной степени тяжести… Ну а потом, как это у них, у типажей, водится, исчезает в абсолютно неизвестном направлении…
* * *
Такую вот престранную историю поведал замершему в удивлении Полезаеву этот фиксатый Вольдемар. А закончил он её следующим резюме:
– Вот тебе, Серёга, и вся правда жизни. Вся её глубокая философия.
– А дальше? – спросил Сергей Тимофеевич. – Что с ним стало?
– С кем именно? – уточнил Вольдемар.
– С писателем этим.
– Не знаю, – пожал плечами рассказчик, доливая водки в стаканы. – Пропал куда-то.
– Но он, надеюсь, живой остался?
– Живой. Хоть и не совсем здоровый. Видел я его потом… На суде. Весь в бинтах и на каталке… Да что с ним сделается. На таких, как на собаке, быстро заживает. Сидит сейчас где-нибудь дома, диктует жене фантастические романы. Про свою правду жизненную, надо полагать, не вспоминает. Суровая она штука, Серёга, эта правда… Давай-ка по последней. И по домам – баиньки. Ты, гляжу, осоловел уже.
Сергей Тимофеевич не стал спрашивать, что стало с тем типажом. Всё ему давно было понятно, поскольку типаж этот самый преспокойно сидел сейчас перед ним и допивал, ничуть не морщась, водку, вызывая одним видом своим панический ужас…
Полезаеву сильно захотелось домой. Он заёрзал, порываясь подняться. Но Вольдемар пригвоздил его взглядом к месту.
– Погоди, Серёга! Я тут за правду балакал. Не за какую-нибудь там правду вообще, а за конкретную…
Ты меня понимаешь?.. За правду жизни… А что есть такое, эта жизнь? Что она за штука такая?.. Вот, допустим, если ударишь ножом человека, из него потечёт кровь. Значит, он живой. Точнее, был живым. А если не ударишь его, то как узнаешь, живой он или нет?.. Вот, брат, какая штука… Ладно, пошли уже отсюда. Если чего надо будет, ищи меня здесь. Тут меня каждая собака знает. Скажешь, Вольдемар нужен. Мигом разыщут… Ну, пока. Увидимся.
На этом они и расстались.
Глава 5
«…Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе! Со мною с Ливана, невеста! со мною иди с Ливана! спеши с вершины Аманы, с вершины Сенира и Ермона, от логовищ львиных, от гор барсовых! Пленила ты сердце моё, сестра моя, невеста! пленила ты сердце моё одним взглядом очей твоих, одним ожерельем на шее твоей. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! о, как много ласки твои лучше вина, и благословение мастей твоих лучше всех ароматов!..»
– Боже мой! – восхищённо шептал Полезаев. – Боже мой! Какое чудо! Какие удивительные слова!..
Он поднимал голову, закрывал глаза, пытаясь увидеть туманные вершины Аманы и Сенира. И видел их – изумрудно-зелёные и голубые, окутанные нежной жемчужною дымкой…
Он и дважды, и трижды, и четырежды повторял каждую волшебную строку. Он твердил на все лады эти чудесные слова – и про себя, и вслух, и вполголоса, и во весь голос. Он упивался ими. Он цедил их по капле, как драгоценное вино, и катал их на языке, словно изысканные яства…
«…От логовищ львиных, от гор барсовых!..»
«…Одним ожерельем на шее твоей!..»
«…И благословение мастей твоих лучше всех ароматов!..»
«…Благословение мастей!..»
«…Лучше всех ароматов!..»
И, только насладясь сполна всеми звуками, всеми тончайшими оттенками этих завораживающих, никогда им не слышанных слов, возвращался к распахнутой на коленях его книге…
«Сотовый мёд каплет из уст твоих, невеста; мёд и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана! Запертый сад – сестра моя, невеста, заключённый колодезь, запечатанный источник: рассадники твои – сад с гранатовыми яблоками, с превосходными плодами, киперы с нардами, нард и шафран, аир и корица со всякими благовонными деревами, мирра и алой со всякими лучшими ароматами; садовый источник – колодезь живых вод и потоки с Ливана…»
«…Мёд и молоко под языком твоим…»
«…Мёд и молоко…»
«…И потоки с Ливана…»
«…И потоки с Ливана…»
«…И потоки…»
Сергею Тимофеевичу ужасно хотелось выучить всё наизусть. До последнего слова. До последней буковки. Хотя с памятью у него всегда были нелады. И в школе ещё мучился он над заданными стихами и отрывками, получая за мучения свои в лучшем случае жиденькую троечку. Но сейчас был совсем не тот случай. Сейчас он сам хотел этого, а не исполнял навязанную кем-то обязанность.
И у него получалось!
Эти волшебные строки сами собой, без особенных усилий, удерживались в полезаевской памяти и оставались там накрепко, надолго (так ему, во всяком случае, казалось и верилось). Очень надолго. Навсегда.
А было так потому, что западали они не в разум его, не в голову, а в самоё сердце.
Но сладкие мгновения за чтением Песни песней не могли длиться вечно, как хотелось бы Полезаеву. В ней и было-то всего несколько страниц. Остальное в этом объёмистом томе занимали другие книги Завета, для которых покуда не пришло ещё время. Потом – когда-нибудь, в лучшие времена – Сергей Тимофеевич собирался прочесть их все, поскольку Песнь расшевелила что-то в душе его, раскачала какие-то глубинные, подспудно сокрытые пласты его сущности, о которых прежде он и не догадывался. Ведь жил он до сего времени как-то слишком уж обыденно и скудно. Так живут многие. Так живут почти все. Работа, дом, дела житейские и всё такое прочее. И ничто его, как говорится, не колыхало особенно, кроме своего мелкого, ничем не примечательного существования. Ну читал он газеты, смотрел телевизор… Ну ходил по выходным в кино, в планетарий тот же… И всё. И ничего более. А чтобы всерьёз взяться за подобную книгу… Нет, никогда. Ни за какие пряники. А тут…
Перелистывая толстый том, наткнулся Сергей Тимофеевич на одно весьма интересное место. Это была Третья книга Царств. И описывалось там житие царя Соломона. Того самого, что считается автором Песни песней. Эту Книгу – единственную из прочих – Полезаев и прочёл. Она тоже была не очень велика – страниц тридцать всего. Но, к превеликому сожалению, ничего не говорилось в ней о Песни. Ни словечка, ни намёка. Войны, борьба за власть, государственные перипетии, интриги, строительство храмов и городов, сложные взаимоотношения с Господом, сплошные жертвоприношения… И кровь…
Реки крови. Моря… А когда же сей славнейший и мудрейший из смертных Соломон сочинял те волшебные строки? Как сподвигся он создать столь чудное и вдохновенное творение? Что деялось в душе его тогда? И кто была та «лилия долин», чей стан «похож на пальму», а груди – «на виноградные кисти»… Нет, ни о чём подобном там не говорилось. И это весьма удручило Полезаева. Не найдя ничего, что касалось бы искомого предмета, он попытался напрячь воображение и представить всё это мысленно. Сам, доверяясь своей собственной фантазии. Да так увлёкся, что целых два дня кряду занимался только тем, что лежал на диване с уставленными куда-то сквозь стену глазами, совершенно отрешась от мира сего и устремляя мысленный взор свой в мир воображаемый, в иные места и времена… И порой у него что-то получалось. Некие туманные видения, причудливые образы являлись ему, плыли перед глазами, складывались в странные картины… Да, он действительно видел голубые холмы палестинские, зелёные склоны Галаада, белые стены и башни Иерусалима… И видел его самого – царя Соломона – почему-то уже не очень молодого, лысоватого, с широким некрасивым лицом и маленькими круглыми глазами, блестящими от восторга и вожделения… И её – ту самую, чьи ланиты «как половинки гранатового яблока», а чрево – «ворох пшеницы, обставленный лилиями»… И похожа лицом она была, конечно же, на неё – на Лиличку Филатову. На кого же ещё она могла походить?..
Но, как уже было сказано, всё это не могло длиться вечно. Рано или поздно он возвращался к реальности, опять окунался с головою в унылое и безотрадное существованье своё.
И вновь наваливались на него эти безмолвные и тяжкие стены. И вновь душа его занималась тупой и безжалостной болью.
* * *
До выхода на работу оставалось всё меньше и меньше времени. Но если прежде, в иные годы, Сергей Тимофеевич с превеликой радостью ждал этого момента, соскучась за месяц бездействия, бежал сломя голову в свою контору и нетерпеливо хватался за пропахшие пылью бумаги, то теперь он с ужасом представлял, что будет, когда нога его переступит порог производственного отдела… Там, в злосчастном пансионате «Чайка», отдыхала добрая половина полезаевских сослуживцев. И в основном – женщины. А языки у них, как известно, весьма длинны и ядовиты. Его же будут склонять на все лады, покуда не затюкают совсем, покуда не вынудят уволиться или – не дай бог! – руки на себя наложить…
Но не столько этого страшился Полезаев, сколько другого – гораздо более страшного. Такого, в сравнении с чем все сплетни, россказни и неприятности по работе казались сущим пустяком, безобидной безделицей – плюнь да разотри… Нет, даже не грозного начальника своего, Никодима Евстигнеевича Мясогузова, коему, конечно же, донесут всю эту дурацкую историю в первую очередь. Нет, нет и ещё раз нет! И многажды нет!.. Сергей Тимофеевич боялся её. И только её… Той самой, что разбила вдребезги разум и сердце его. Той, что сломала жизнь его, словно простую былинку.
Только сейчас, после всего случившегося, понял Полезаев, как любит он её, проклятую. И как ненавидит её. Но прежде всего – любит, а ненавидит уже потом, не в первую очередь. Да и ненавидит ли вообще? Разве можно её ненавидеть?.. Разве можно?.. Ведь она… Она… «нарцисс Саронский, лилия долин! Что лилия между тёрнами, то возлюбленная моя между девицами…» Боже! Как прекрасна она! Как желанна она и навсегда недоступна!.. «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви… как лента алая губы твои, и уста твои любезны… шея твоя – как столп Давидов… два сосца твои…» О господи!.. Два сосца!..
* * *
На девятые сутки после бегства своего из пансионата Полезаев понял, что должен увидеть её. Сейчас же. Немедленно. Увидеть и поговорить с ней. А если он не сделает этого, то умрёт. Да-да, именно так. Умрёт. От тоски, от отчаяния, от стыда, от безысходности… От любви, наконец…
Понимание это явилось ему ночью, перед рассветом, когда, так и не сомкнув с самого вечера глаз, лежал он на своём плюшевом диване со старушкиной Библией на груди и поднятым к потолку лицом.
Когда же за окнами окончательно рассвело и дробно застрекотали в тишине первые трамваи, Сергей Тимофеевич поспешно вскочил с постели, наскоро оделся и, даже не перекусив и не почистив зубов, отправился на улицу.
Погода, как это ни странно для здешнего июля, стояла неважная. Шёл дождь – мелкий и брюзгливый, очень похожий на осенний. Всё небо затянуло сплошной серой пеленою. Как будто сама природа изменила своим постоянным вековым привычкам лишь для того, чтобы воспрепятствовать полезаевскому предприятию и заставить его вернуться домой несолоно хлебавши.
И Сергей Тимофеевич вернулся. Нет, не совсем, а только для того, чтобы взять зонт. Вскоре он уже вновь был на улице и, надёжно укрытый от сеящей с небес влаги, продолжал своё путешествие.
Лиличка жила в пяти минутах ходьбы – на Шамовке. Полезаев хорошо знал эту старую пятиэтажную малосемейку, построенную в начале пятидесятых годов, поскольку сам ютился несколько лет в одной из её комнатушек, пока не заработал нормальное отдельное жильё. Да и обитали там по большей части полезаевские сослуживцы – работники Приморского аппаратурно-механического завода, которому отдал Сергей Тимофеевич пятнадцать лет своей жизни без одного месяца.
С тех пор как Лиличка поселилась в этом доме, вот уже почти седьмой год, Полезаев, следуя будними утрами на службу, обязательно притормаживал возле и делал вид, что у него развязался шнурок или приключилась ещё какая-нибудь оказия, скажем, выпали из кармана ключи. А сам между тем не сводил глаз со второго подъезда, откуда она должна была появиться с минуты на минуту. Эти наивные детские уловки иногда удавались (не так, впрочем, и часто, как хотелось бы Сергею Тимофеевичу). И когда она, бодрая и свежая, словно утренняя роза, выпархивала из дверей, он, таясь за широким стволом тополя, дожидался, пока она пройдёт мимо, а потом, замирая и трепеща от счастья, шёл следом за нею до заводской проходной. И это были самые светлые и счастливые мгновенья в его весьма невзрачной и скудной на радости жизни.
Сегодня Полезаев поступил таким же образом. Схоронился за тополем и стал ждать. И не раз поблагодарил он себя за то, что прихватил зонт, так как дождь вовсе и не думал кончаться, а, наоборот, становился сильнее и сильнее, превращаясь уже в нешуточный ливень.
Но время шло, минута летела за минутой, до начала работы оставалось всего ничего, а Лилички не было. Сергей Тимофеевич занервничал. То и дело он выскакивал из-за своего укрытия, подбегал к подъездной двери и прислушивался: не стучат ли по лестнице торопливые каблучки? А затем, так ничего и не услыхав, возвращался под дерево в полной растерянности и досаде.
«Где же она? – недоумевал Полезаев. – Неужели что-то случилось?..»
И действительно, всё это было довольно неожиданно и странно. Лиличкин отпуск закончился три дня назад. На службу она сегодня не могла не пойти. Это уж точно. И, вдобавок ко всем своим неисчислимым достоинствам, Лиличка отличалась завидной, почти неестественной пунктуальностью. Выходила из дома она ровно в половине восьмого (ходьбы до завода было не больше четверти часа), и ни минутой раньше или позже. Уж кто-кто, а Сергей Тимофеевич знал это досконально. Она никогда никуда не опаздывала. Не помнил Полезаев такого. Разве что… Но этот случай был одним-единственным, исключительным… Там, в «Чайке», тем злосчастным вечером, когда Лиличка странным образом изменила своим привычкам, пожелав прогуляться с ним по аллее в нарушение всех пансионатских законов и расписаний… Да, случай этот казался крайне загадочным и необъяснимым. Хотя потом уже, дома, Сергей Тимофеевич пытался найти ему объяснение и, кажется, нашёл. Почти нашёл… Но это совсем не то, это другое. Это ведь было ещё тогда. А может, ничего и не было вовсе? Может, просто приснилось, померещилось?.. Но сейчас…
Ровно в восемь, потеряв последнюю надежду, Полезаев решился на то, чего прежде никогда бы себе не позволил. Слабо соображая, что творит, кинулся он к подъезду, распахнул дверь и, складывая на ходу мокрый, брызжущий во все стороны зонт, помчался по лестнице наверх, на третий этаж…
«Нет, здесь что-то не так! Не могла же она… Нет!.. – терзался Сергей Тимофеевич, перескакивая за один прыжок через несколько ступенек. – А вдруг у неё и впрямь что-нибудь случилось?.. А вдруг…»
Не добежав до площадки третьего этажа какой-нибудь трети лестничного пролёта, запыхавшийся Полезаев на всём ходу врезался в спускающегося сверху человека. Головою. Прямо в упругий, неподатливый живот. И едва устоял на ногах от удара.
Человек же не шелохнулся. Только шумно выдохнул из себя воздух и гулким, басовитым голосом произнёс:
– Эй! Поосторожней, приятель!
– Извините, – сконфуженно прошептал Сергей Тимофеевич, поднимая глаза. – Я очень торо…
И осёкся, разглядев наконец того, кто стоял перед ним…
Это был… он. Кто же ещё это мог быть?.. Тот самый – из пансионатской аллеи. Мерзавец и отъявленный негодяй. И он, конечно же, не мог не узнать Полезаева.
– А, гражданин Полезаев! Сергей Тимофеевич! Очень приятно! – наигранно расцвёл этот непотребный ублюдок. – Каким ветром вас сюда? Какими судьбами?.. А, понимаю-понимаю! Вы к ней, к Лилии Петровне… Только напрасно. Совсем напрасно.