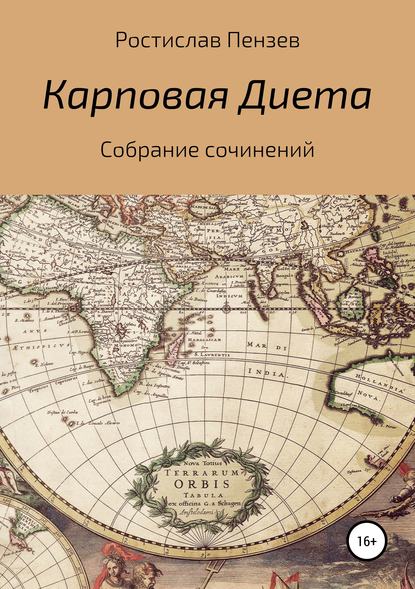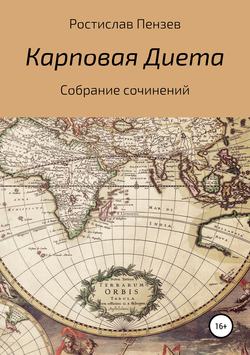
000
ОтложитьЧитал
– А какие у неё были милые бежевые туфельки. Половина зарплаты родителей за месяц, между прочим. Такие были классные.
– Заткнись ты уже, – вновь прозвучал голос под газетой, – Хватит с меня. Я пошел на работу, иначе тоже сойду здесь с вами с ума.
Он встал, накинул на плечи промокший после вчерашнего дождя плащ, взял стоявшую в углу трость и вышел в коридор. Перед выходом на улицу он выключил радио.
– Ну, хотя бы с платьем теперь проще определиться. Я думаю, пусть будет традиционное черное, без всяких лишних деталей. Не стоит лишний раз нарушать традиции.
– Черное. Как всегда ты за своё. Почему, например, не темно-синее с черными атласными розами? Как по мне, очень аутентично и свежо.
– Ну, какое к черту темно-синее? У нас тут не карнавальная ночь, а траур. Ты же понимаешь, что нельзя экспериментировать, что придут все родственники и друзья, ведь похороны бывают лишь один раз в жизни.
Стоял Агитатор
– Вы непрерывно смотрите, вы все, конечно, смотрите и видите во мне… Отражение себя.
Мужчина обернулся, в кривляньях изогнулся и чувственно пропел, немного погодя.
– А вы хотя бы знаете, на что я вас зову? Когда вы понадеялись со мной пойти ко дну, вы были, безусловно, бессмысленно безмолвны и столько лет готовы к такому злому дню!
Толпу плодили крики, ломились все во двор. Людей сквозили пики, толпе наперекор.
На разлинованном листке бумаги неровным, сбитым с ритма почерком появлялись новые и новые буквы, за ними косые слова, кривые, будто сошедшие с линейчатых рельс, предложения. Слова цеплялись за бумагу так просто и беззаботно, как никогда прежде.
– Я вел вас драться за свободу. За каждый свой любимый уголок… За сыновей, родных и близких. Для народа…
Мужчина запнулся, тяжело выдохнул и продолжил начатую речь.
– Беспрекословно помирать? За вашу молодость в цепях, я столько лет стоял, поникнув, своей горячей головой перед седым судьей, и матерью, и сыном, и той, что столько лет когда-то снилась…
Старое здание театра резво наполнилось эхом, вобрав в себя всю горечь и обиду от услышанных слов. Старые кулисы. Когда-то, в незапамятные времена они укрывали актеров и копошащийся персонал от взглядов зрителей. Теперь же здесь стоял Агитатор, наедине с самим собой. Он говорил витиевато, нараспев и, наверное, немного глупо по общепризнанным меркам. В большие дубовые двери зала ломились люди, хотя в толпе они и преставали ими быть. Страшные и бесконтрольные они жаждали крови, жаждали голов на блюдцах и больше ничего.
Остроконечные лучи солнца пробивались сквозь затянутое пылью стекло, размножались на ещё тысячу и усеивали своими трупами давно усопшую, сгнившую от времени сцену. А вам не страшно давать в руки толпы такую власть? Власть вершить судьбы. Власть безумного большинства, сжатая мертвой хваткой вместе с плакатами и свежевыжатыми коктейлями Молотова?
Агитатор стоял, раскинув руки в стороны. В зубах торчал колпачок от ручки. Он стал говорить медленно, неразборчиво, выбрасывая в зал несвязные кричевки.
– Значит так, да? Вам не нравятся мои стихи. А как же наша ненаглядная революция? Опять жить под ворьем и терпеть беззаконие?
Двери не выдержали натиска, истомно хрустнули петли и открыли путь внутрь небольшой горстке людей. Они бежали сквозь опустевшие ряды вперед. Вперед к облюбованной светом сцене.
– Больше никаких митингов, никаких оваций, только старый добрый вооруженный террор и, божеее, храни царя, дай нам справиться с…
Люди обступили со всех сторон, стали суматошно шептаться между собой, пялиться своими окровавленными глазами на Него и постепенно сжимать, сжимать образовавшееся кольцо. Мужчина все еще пытался походить на сына большого Б, но руки-ноги не слушались, дрожали, то и дело норовя припасть к сцене.
– Такую страну разворовали, поганцы. Ууууууу… А я говорил тогда. Никто не верил, – голос стал грозным и непонятным.
Агитатор выплюнул колпачок куда-то в зрительский зал.
– Миша, твою мать, ты опять напился.
– Я стадионы собирал… Я, – он начал судорожно тыкать себя большим пальцем в грудь. – Вы не понимаете, ничего не понимаете, не поймете. Я…
Утратив остатки терпения, толпа сомкнулась, и чья-то тяжелая рука резко стукнула Агитатора по затылку. Он изверг из груди звук, походивший на приглушенный вопль гуся или какой-нибудь другой пернатой твари. Затем свалился на пол, пришиб своей зловонною тушей чью-то ногу и так и остался лежать, позабыв про свою речь, Агитатор.
– Я когда вам всем говорил, что надо его в дурку сдать или усыпить, наконец? А вы все отнекиваетесь, мол: «Он же тоже человек, как же так, нельзя вот так вот».
– Черт возьми, да наденьте вы на него хоть что-то. Он же своими бубенцами сейчас нас всех ослепит.
Вторник
Сегодняшний вторник начался традиционно скверно. Было около семи часов утра, я ступал расплывающимися, будто бы сахарными, ногами по размокшей рыжей глине, то и дело, перепрыгивая через снова и снова появляющиеся перед моим взором лужи. Я целеустремленно шел вперед по шпалам, по той единственной причине, что по шпалам идти можно исключительно в двух направлениях: вперед и тоже вперед, но в обратном направлении.
Я шел, уткнувшись глазами в старые проржавевшие рельсы, вспоминал то интервью, в котором Лимонов называл себя Великим русским писателем. Стало грустно за Великих русских писателей.
Дождь лил нещадно, периодически пробираясь сквозь старенькую черную ткань моего зонта. Ноги промокли насквозь, мои черно-зеленые, купленные на рынке кроссовки загребали в себя немалый объем перемешанной с глиной воды. Я шел дальше. Машины летели рядом по дороге, стремясь промчаться мимо, разрезать помутневшую дождевую гладь, окатить мои дрожащие ноги водой.
Я подходил к остановке, осторожно переставляя почти отвалившиеся подошвы. Мимо проехал нужный мне автобус. Дом был довольно далеко, и я решил подождать следующую маршрутку, ну или на крайний случай стянуть палатку с ближайшего ярмарочного ларька и остаться в ней жить до конца моих столь юных лет. Желание было весьма странным, но на тот момент казалось мне самым рациональным.
Подошел следующий автобус, который ехал дальше, чем нужно, но все равно заезжал на мою остановку. Я перепрыгнул через черную лужу и вошел в открывшуюся дверь. Автобус был старенький, дряхленький. Мне в голову пришла мысль, что этот автобус, наверное, даже старше меня. Я попросил мужчину подвинуться, чтобы пролезть к месту возле окна. Мужчине, согласно традиции, естественно было плевать, и он как истинный русский джентльмен, очень лениво и нехотя подвинул в сторону коленки, освободив проход шириной не превышающий головку новорожденного.
Сегодняшний вторник начался давно, возможно пару лет назад.
Я доехал до предпоследней остановки. В автобусе какая-то женщина средних лет в серенькой юбке бесконечно болтала по телефону про все свои проблемы и радости жизни. Мне уже порядком надоели филистеры, до смеха увлеченные «реальной жизнью» и «реальными проблемами». То дурочки из супермаркета, для которых тут слишком воняет едой и мало хлопьев. Она ведь без них «Жить не может»!
Кажется, я немного простыл.
Выйдя из автобуса, я открыл свой черненький зонтик и медленно, но проворно поскакал домой по крошечным сухим асфальтовым кочкам. Я зашел в свой подъезд, предварительно повозившись с кодовым замком, который я всё никак не поддавался моим мокрым дрожащим пальцам. Я сложил и зафиксировал клепкой мой черненький зонтик и вновь уверенными шагами ступил вверх по холодной бетонной лестнице. Вспомнил, как ведущая какого-то глупого шоу по телевизору заработала свой первый миллион, который ей безвозмездно вручили. Я посмотрел на свои размокшие китайские кроссовки. Стало немного грустно.
На четвертом этаже моего подъезда лежал пьяный сосед. Нельзя сказать, чтобы он прямо таки лежал, скорее, сидел в позе очень напоминающей лежащего человека. Нельзя так же и сказать, что такое было для меня ново, поскольку сидячее положение сосед смог обрести только к моему приходу. Я поздоровался.
Я вошел в свою квартиру, закрыл за собой дверь, стряхнул с зонтика капли. За стеной шумела дрель. Скорее всего, в каждом доме должна быть квартира, в которой ремонт не прекращается никогда, а дрель работает исключительно для развлечения или подавления депрессии. Я бесцельно ходил по квартире в поисках какого-нибудь дела или хотя бы жалкого предмета, за который можно уцепиться взглядом. Вполне подошел телевизор. Я слышал, как открылась дверь соседки. Чистокровный русский мат полился в мои девственные уши.
Я лег на помятую кровать и пролежал несколько часов. Мне пришлось проснуться оттого, что кто-то очень пронзительно и требовательно стучался в металлическую дверь. Я надеялся что головой. Вошла соседка, попросила кое-что передвинуть, потому, вероятно, что я молод, силен, и лишен возможности отказать маминой подруге. Кажется, я когда-то слышал, что её сын попал в тюрьму.
Ее квартира не изобиловала мебелью. Напротив, скучные отсыревшие стены, редкие советские тумбочки и какие-то рваные выцветшие тряпки украшали на удивление чистый пол. Я двигался аккуратно, перешагнул через шланг от стиральной машинки и направился в самую ухоженную и красивую комнату. Я взял старую советскую тумбу вместе с соседкой. Мы медленно потащили её из квартиры. Тумба была большой и очень громоздкой, так что пришлось поставить ее прямо посреди лестничной площадки. Я немного протрезвел. Стало грустно.
Я решил, что мне особо больше нечем заняться и пошел в свою кровать. Я пролежал минут пятнадцать или двадцать, прежде чем провалиться в сон.
Во сне я сидел на блестящей деревянной скамье в какой-то старой краевой больнице. Передо мной сидела преклонного возраста женщина с крашеными пламенными волосами, она была одета в белый халат, который слегка подчеркивал полноту и без того немного тучной фигуры. Сначала она рассказывала, как в девяностые к ним в то самое здание, в котором мы сидели, пришли люди в чистеньких пиджаках. Рассказала, что уже пару десятилетий они судятся с каким-то депутатом, который приватизировал одно из зданий комплекса и затем уехал заграницу. Рассказывала, что новый депутат, избранный недавно в губернаторы, приходил к ним не так давно и обещал построить ещё один корпус, большой и современный. Я почему-то подумал, что оба из них когда-либо состояли в одной единственной единой партии. Рассказывала, что врачи, еще вчера бывшие студентами, получают свои жалкие двадцать или двадцать пять тысяч, в то время как глава больницы выписывает себе заоблачные премии. Очевидно за плодотворную работу и за неописуемой тяжести труд. В целом я не удивился и почему-то поверил в её старческий маразм.
Затем мы пошли на краткую экскурсию по больнице. Мы вышли на улицу, пошли в соседний корпус. Мне запомнились короткие бетонные тропинки, деревянные покрашенные скамейки, яркие зеленые деревья. Мы шли по странному старому подвалу, вверху у потолка его торчали трубы, стены будто бы сдавливали идущих, создавая гнетущую атмосферу из черно-белого ужастика начала прошлого века. В конце коридора была железная ржавая дверь с ужасающей надписью «Профессор медицинских наук». Люди вокруг изобразили удивление на лицах.
Мы поднялись наверх по лестнице. Пока я шел, заметил закрытую деревянную дверь в метре над полом, предназначение которой для меня и всех остальных осталось самой таинственной из загадок. Мы шли дальше, по неплохо отремонтированной советской постройке. Нас провели по отделениям, показали в каких местах по утрам самые большие очереди. Мы вышли на улицу.
Женщина с красными волосами сказала, что у них в краевой больнице нет морга. Что-то из толпы спросил её, о причине данного упущения. Она ответила, что морг продали за ненадобностью. Я продолжал сохранять оптимизм. Люди вокруг меня почему-то посмурнели, вместе с серым, пропитанным гарью небом, от которого мне ещё сильнее захотелось проснуться.
Мы зашли в какой-то другой, странный корпус. Там нам показали монитор, на котором был изображен мозг какого-то мужчины в несколько слоев. Врач сказал, что не нашел кровоизлияний в черепе. Мне не было жалко больного.
Я открыл глаза. Надо мной сырел бетонный потолок, перетекая в моих заспанных глазах в серые стены, черно-белые обои с корабликами на них, в красный пушистый, повешенный на стене по странному обычаю, ковер. Хорошо, что это всё был лишь сон.
Я ходил по пустой комнате то вперед, то назад. Иногда во время таких прогулок я останавливался и долго думал, что же все-таки я тут забыл. Мне сильно хотелось разбиться, ну или хотя бы покурить. Стало немного грустно. Возможно, стоило спасти себя, но так сложно починить то, что никогда не работало. Этот вторник продолжался уже слишком долго.
В вагоне поезда
«Тому и сигара может послужить хорошим суррогатом мысли»
Артур Шопенгауэр (Афоризмы житейской мудрости)
Солнце упало под растрескавшийся лед. Пепел уставшими хлопьями сыпался на почерневший бетон, рисовал потускневшей пастелью странные картины, напоминавшие по настроению некоторые из работ Ф. Гойя. Наверное, все мы в какой-то мере были пеплом. Уставшие, глухие, полупьяные, кто безответно просит помощи и живет легко. Легко сгорает, и все потухшие мы, в конечном счете, упадем жалким сигаретным бычком в промерзшую землю, в родную грунтовую койку, полную давно позабытых надежд, а может и ещё не виденных воспоминаний. Точно я этого не знал.
Кто-то из нас сгорит быстро и ярко, кто-то не успеет даже расплыться в пожелтевшей от кофе улыбке, кому-то же суждено умереть после двадцати лет ежедневного недосыпа; удивительно, но кто так стремился жить, забыл о том, что смерть таки преследует его по пятам и только во сне не столь ему страшна.
Я стоял на пироне, гнул пальцами последнюю мою сигарету, проходя из стороны в сторону в ожидании моего запоздавшего поезда. Я подумал, что немного надоели стереотипы о «плохих» курящих парнях. Разве они плохие? Скорее просто слабые, немощные, человечные. Однако я находился здесь по причине не столь связанной с моим скорым отъездом, сколь с непреодолимым желанием рассказать вам ту единственную историю, что ещё была способна заставить меня хоть сколько-то измениться в лице.
Это началось не так давно до моего незапланированного отъезда при таких удивительных обстоятельствах, что невозможно с полной уверенностью утверждать, был ли это сон или нет. Порой вообще достаточно проблематично определить, когда реальность действительно существенно, а когда расплывчатые образы в наших пустых головах создаются на основе случайных воспоминаний, образов, снов. И что вообще из наших разнообразных представлений есть настоящая реальность?
Тогда я сидел в больнице на ночном дежурстве. Вокруг было темно, как в пещере, освещенной одной единственной настольной лампой. Её света едва ли хватало, чтобы вполне разглядеть собственные пальцы.
Вот, как вы думаете, почему люди курят по полвека, пропивают последние деньги? Почему они ругаются матом, ничего не хотят, падают с крыш и бросаются под поезда? Просто они плохие. Заклеймённые, уставшие, одинокие, слабые. Они падают, падают, падают, рвут на себе последние рубашки, оставаясь обнаженными у всех на виду. Вы не хотели думать об этих людях. Не хотели взглянуть оскалившейся реальности прямо в манящую глотку? Не хотели бы заглянуть в мои красные, полные отчаянной пустоты глаза?
Шорох. Гудки. Невозмутимый голос, монотонно объявляющий фамилии, номера вагонов и площадок. Стук колес и лай собак. Ночь полнилась разнообразными звуками, мелькавшими на грубом асфальте ногами и светом от стальных блестящих фонарей. Уставшие пассажиры стремились войти в только что пришедший вагон, расталкивая друг друга, как будто кондуктор оставит их стоять на пироне с просроченными билетами в руках.
Вокзал Сен-Лазар находился достаточно далеко от городской жизни. Вокруг него была почти пустая равнина, кирпичное здание и небольшая сломанная телефонная будка, к которой выстроилась огромная очередь из людей. Они ещё не знают, что позвонить им никуда не удастся.
На станцию под номером десять прибыл новый состав. Мелькающие в полутьме ноги устремились к нему. Сколько я уже стоял здесь? Может год, может час, я уже не понимал. Мне оставалось лишь придаваться своему глубочайшему отчаянию, что пронизывало меня копьем с головы до ног, устремляло мой остывший взгляд на безликих прохожих.
Внутри было душно и темно. Коридор поезда устремлялся вдаль. Казалось, что он будет продолжаться и продолжаться до бесконечности, пока не упрется в невидимую стену, на месте которой должен был бы сидеть машинист. Из одной маленькой комнаты послышался странный разговор.
Я сидел на втором этаже кровати и медленно, размеренно заполнял пустые страницы новым рассказом. Подо мной ехали странные люди, они вели странные разговоры. Был мужчина в черном смятом в гармошку пиджаке. Таким же смятым, как и он сам. Была девушка лет восемнадцати в очень красивом платье, с рваными порезами по всему лицу, изуродованная страшными отеками и запекшейся кровью. Был кубообразный бугай лет тридцати с пробитой головой, в заляпанной слюной клетчатой жилетке. Он держал в руке смятую табличку. Рядом валялся мужчина, на мужчину он был похож лишь примерно, так что все оставшееся от него было скомкано и капитально прожарено. В углу расположился мокрый и замерзший старик в халате. Я сидел на верхней полке абсолютно пьяный и писал самый печальный свой рассказ.
Посреди кабины поезда проросла старая ива. Кисти её поникли. Она росла здесь, посреди неспокойных трупов уже много лет. На её стволе были приварены кричащие металлические лица с закрытыми глазами, древняя кора давно потрескалась и огрубела, приняв твердую, почти железную форму.
Абсолютно точно стоит умирать пьяным. Помрете пьяным и сможете навсегда остаться счастливыми. Зачем я это пишу? Все равно никто не увидит. Никто не узнает. Наверное, это всё совершенно бесполезно и стоит пойти напиться.
Девушка в малиновом платье стояла на пироне и махала мне рукой. Я уже не помнил, как её зовут. Как я её звал…
Ржавые колеса, со скрипом провернулись раз, затем второй и третий. Наш поезд тронулся, уже не было пути назад. Уже остались позади сомнения, мечтательность. Надежды разбились, столкнувшись с реальностью. Все перестало существовать. В вагоне ехали все, кого я когда-либо убивал.
Квадратные штаны
– Они уже не станут теми же, что были когда-то. В суровые времена они теряют всю свою драгоценную волю, погружаясь еще глубже в высохшую пучину безысходности. Теперь тут есть только мы. Только то что, от нас осталось.
– Кажется, я понимаю. Посмотри на них. Им нечем дышать, каждая клетка их гниющего разума пытается сопротивляться мучения, они не хотят умирать. В их предсмертной агонии есть что-то прекрасное.
– В смерти всегда было что-то величественное. Они продолжают бороться, лезть друг на друга, словно безмозглые личинки бросаются на остатки вяленого мяса. Остатки тех, кого мы когда-то называли своими друзьями.
Губка, втянул в себя порцию холодного, ядовитого дыма. Он разошелся по его рту мрачной улыбкой, сухой и чересчур неправдоподобной.
– Так бывает. В смерти есть что-то прекрасное, лишенное лжи, настоящее. Она вечно следует за каждым из нас по пятам, ждет, когда наши следы запутаются, чтобы оборвать их историю раз и навсегда.
– Как мы могли бы помочь им? Они не такие как мы. Лежат, стонут, но их попытки тщетны. Исход предрешен.
– Мы не имеем права прерывать их страданий. Как бы то ни было, это не этично.
Их не спасти от одиночества и пустоты, которые медленно разрывают наше ненаглядное существование. Возможно они наоборот, получили заслуженную пилюлю от боли, счастливый биллет, который отправит их прямиком в спокойное и непоколебимое ничто. Глядя на смерти других, вы могли бы только с трепетом созерцать. Ждать. Вы могли бы глушить эту боль. Пытаться утопить её в алкоголе, мастурбации, ежедневных ток-шоу и трате денег в магазине, но вам никогда о ней не забыть, никогда от нее не избавиться. Вы могли бы приспособиться, окутать себя иллюзиями простейших удовольствий, представлений, сказок. Но вам никогда от нее не укрыться. Мы слишком слабы, слишком несовершенны, чтобы хотя бы познать хотя бы феномен смерти, освободить наш разум от той тяжкой ноши, что ржавыми оковами притягивает к мукам. Всё стремиться быть, тем самым, неуклонно стремится к смерти.
– Бикини Ботом никогда не был нам домом. Пусть же эти руины покоятся здесь с миром, в то время как новые земли найдут себе новых хозяев.
Город высох. Его солнце закатилось навеки, чтобы подняться вновь над высохшей пустыней, где нет никого. Где каждый попытался залезть другому на голову, выложив по пути тротуар из размозжённых рыбьих черепов.
Величайшее заблуждение
1. Кроха в люльке
– Могли ли эти руки разойтись в объятьях или спрятаться тихо во мраке, сжавшись в железный кулак. Мне никогда не будет дано отыскать их, ибо лишь те готовы сойтись со мною, которые тянут безвольно ко мне свои пальцы, но сами, лишь сами.
И не имеет цели и задачи пройти этот затерянный путь, что остался лежать где-то там, в приморской долине, на фоне старых обид и новых. И любая попытка найти решение в прошлом, что давно забыто и давно не тронуто, рождает из себя ещё больше чувства вины. Навеки оставить попытки, принять одиночество, ведь каждое волевое усилие есть предтеча грандиозных, чаще губительных разочарований.
– Остановка посреди рельсов подобна смерти. Никто не имеет права давать себя на растерзание судьбы, так как не является владельцем собственного желания, а лишь её густобровым блюстителем.
Разговоры не прекращались ни на мгновение, сколь скудны бы они не были. Всё вокруг заполнял шум, шум уже давно заменивший привычные слова, вновь и вновь находящий отголоски в неокрепших умах.
– Лекарством от чувства вины в том, что не в силах были изменить, станет нам полная апатия, кричащая о своём безразличии в расписанных церквах и грязных подвалах, потому что лишь крик будет свидетелем нашего безразличия. Мы грянем на мир бушующим противоречием, полыхающим, словно крошечная спичка, незаметная даже этой самой темной ночью.
И ночь началась! Люди грянули на проповедь, грянули разъяренной толпой, вооруженные вилами, швабрами и блестящими сковородками. Они выбрались из стен старого театра и двинулись вперёд, неся за собой свои плакаты, крики, предрассудки.
И ночь началась! Самая тёмная и страшная, ночь полная мук и предрассудков, когда толпа вышла на улицы и понесла с собой свою правду. Начался марш моралистов. Настолько ужасных, необразованных, глупых и уродливых, что сами их лица сводят с ума.
И ночь началась! Литература потухла, остыла как пепел с костра, оставив место лишь глупым предрассудкам, идеям из старых советских учебников, полных плесени и гноя. В них лишь глупец способен найти для себя утешение, и лишь безумец способен найти в них ответы.
– И так нельзя!
И новые слова гибнут, соприкасаясь с воздухом. На бумаге же, они обретают бесконечный покой, но покоем их становятся желтые пыльные гробы, которые спасли их от гибели, но оставили в небытии, потому что только то, что когда-то было забыто, способно снова дать ответы.
– И так нельзя!
Толпа кричала, глядя на разинутый рот, и вновь кричала, не понимая, почему они тут собрались. Проповедник не мог успокоить собравшихся, и все, кто когда-то был зол и обижен, поддержали бы их и кулаками и бессвязными воплями. Но и с ними крепло великое разочарование.
2. Чувство вины
Крики, ссоры, скорбь, утраты. Все ни капли не нужное, до сумасшествия скучное и нелепое. Гадкое до боли в желудке. И жизнь видится нами лишь, как несчастный лист бумаги, зажатый с двух сторон грандиозными томами небытия. И видим мы это не столько в наши дни скорби, сколько в памяти о счастливейших и радостных мгновеньях.
– Но ведь я в этом не виноват!
Ты самое большое разочарования в жизни. Однако кто полагал на нас надежды, а главное зачем? Почему обязанность нести все тягости падает нам на плечи столь стремительно и бездумно? Так говорят слабые, которых покинули силы. Так говорят сильные, которым хватило глупости открыть глаза, ведь все разочарования лишь от глупости полагания, но все новые открытия лишь от остроты ума.
– Но ведь я в этом не виноват!
Каждая дверная ручка должна опуститься вниз на полметра, каждый стул перестать падать, каждая капля перестать затекать в рот, чтобы спасти тех несчастных, кого тяготило чувство вины. Лишь в прошлом, всего лишь немного тяготило, лишь сравнительно сильнее, чем станет потом.