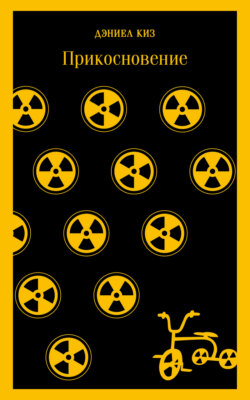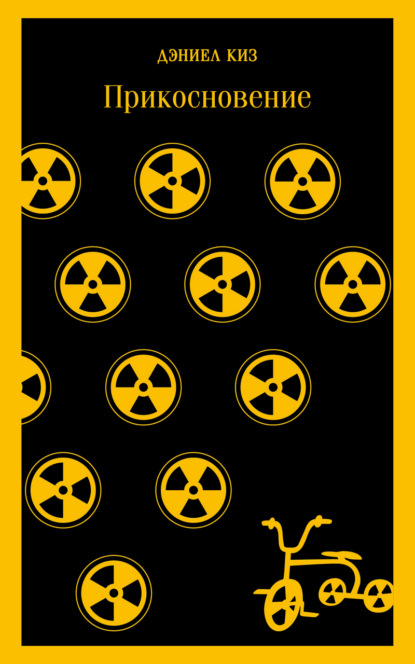© Алчеев И., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э», 2017
* * *
Посвящается Ори, с любовью
Вспомни, что Ты, как глину, обделал меня, и в прах обращаешь меня?
Иов, 10:9
Предисловие автора к изданию 2003 года
К чему заново перерабатывать и переиздавать «Прикосновение»?
Перед вами роман о последствиях радиационной аварии на промышленном производстве, когда сотрудник компании, сам того не ведая, разносит радиоактивную пыль по соседям, заносит ее к себе домой и заражает беременную жену.
Герои и события, описанные на страницах этой книги, вымышленные. Они – плод воображения и основаны на происшествии, случившемся в Соединенных Штатах в 1960-х годах. Однако тяжкие последствия, которыми все это обернулось, вполне соответствуют действительности.
После того как «Прикосновение» впервые вышло в свет – в 1968 году, тысячи людей по всему миру стали невольными жертвами радиационного заражения в результате аварий, краж бракованного медицинского и промышленного оборудования, а также ненадлежащего использования радиоактивных отходов.
Правительства и заинтересованные промышленники разных стран мира не желают и пальцем шевельнуть ради того, чтобы предотвратить заражение, вызванное промышленными выбросами и радиационными авариями. С политической и экономической точек зрения куда выгоднее постараться сокрыть радиоактивную пыль, чем объясняться с общественностью, требующей отчета о последствиях своего бездействия.
Радиоактивные источники чаще всего незаконно отправляются на свалку во избежание оплаты расходов по их хранению. Надлежащее хранение стоит около двадцати тысяч долларов. А штраф составляет всего лишь две тысячи долларов. Но если радиоактивный источник вдруг окажется на сталелитейном заводе, он с тем же успехом может потом попасть и к вам в руки или же в дом дорогих вам людей.
25 марта 1997 года близ Гаррисберга, в Пенсильвании, было изготовлено тридцать три тысячи лотков лопат из стали с примесью радиоактивного тория. В подобных случаях очистка и проверка каждого лезвия, каждой ножки стола обходится в сотню миллионов долларов.
В средствах массовой информации такие аварии зачастую представляются в виде коротких газетных сообщений, а личная беда никогда не принимается в расчет при учете издержек производства или составлении балансовой отчетности. Куда больше шума вызывают впечатляющие взрывы на атомных электростанциях или военных объектах, как это было на острове Три-Майл в Пенсильвании, США, в Чернобыле, на Украине, или в Токимуре, в Японии. Однако последствия радиоактивных аварий на промышленных предприятиях и краж радиоактивных веществ, к которым причастны преступники или террористы, чаще всего сказываются спустя месяцы.
Взгляните на нижеследующие сообщения для печати:
«ТРЕВОГА НА АМЕРИКАНО-МЕКСИКАНСКОЙ ГРАНИЦЕ
В пятницу 27 июля 2002 года власти Мексики подтвердили, что при перевозке между мексиканскими приграничными городами Тихуаной и Текате, в семидесяти милях к востоку от Сан-Диего, пропал цилиндр, восемь на шесть дюймов, содержащий дюймовую капсулу с иридием-192. Он использовался мексиканской государственной нефтяной компанией «Пемекс» для рентгеновского обследования нефтепроводов.
По заявлению начальника Мексиканской государственной службы национальной обороны Габриэля Гомеса Руиса, не установлено, выпала ли емкость из грузовика или же ее выкрали».
«КАНАДА НЕДОСЧИТАЛАСЬ КОНТЕЙНЕРОВ С РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
По сообщениям от 2 июля 2002 года, пять контейнеров из одиннадцати с опасными радиоактивными веществами, пропавшие за последний год в Канаде, до сих пор так и не обнаружены. Согласно заявлению Комиссии по ядерной безопасности Канады, емкости, вероятно, были украдены со строительных площадок или из грузовиков. По заверениям властей, нет никаких доказательств того, что пропажа контейнеров стала результатом заранее организованного преступления с участием террористов. Однако власти реагируют на недавние предупреждения ООН о том, что радиоактивные вещества, необходимые для изготовления “грязных бомб” и заложенные в обычные взрывчатые вещества, можно найти практически в любой стране мира».
По словам представителя конгресса Эда Марки (Массачусетс), «Усама бен Ладен и “Аль-Каида” уже пытались заполучить ядерное топливо. Как нам известно, создание “грязной бомбы” – одна из главных целей “Аль-Каиды”… Если одна из таких штуковин (радиоактивных устройств) окажется на складе металлолома, она рано или поздно попадет в руки террористов».
История Барни и Карен Старк представлена в этом новом издании так, чтобы читатели могли сопереживать тяжким испытаниям, выпавшим на долю таких же людей, как и они, а промышленники и правительственные круги осознали, что впереди их ждет работа. По сообщению «Вашингтон пост» от 4 мая 2002 года, американские государственные и медицинские учреждения так и не смогли дознаться, куда подевалось около полутора тысяч единиц оборудования с радиоактивной начинкой, пропавших начиная с 1996 года.
Примечание автора
Когда я писал «Прикосновение», амниоцентез[1] и ультразвук, позволяющие определить состояние плода, использовались пока еще только экспериментально. И для большинства родителей, таких как Барни и Карен, в то время были недоступны, так что они не могли знать до родов, кто у них будет – мальчик или девочка и родится ли младенец нормальным или с нарушениями, живым или мертвым.
Прикосновение
Июнь
1
Сперва ему послышалось, что по спальне кто-то ходит, и он прислушался: приглушенное жужжание электрических часов, ровное дыхание жены сбоку, биение собственного сердца. И только. Ему подумалось – это, должно быть, оттого, что он резко пробудился; и все, что теперь остается, – признать очевидное.
Карен застонала и повернулась на другой бок. Вот она, лежит рядом, такая красивая, как всегда, и вместе с тем другая, чем-то похожая на свою сестру. Может, в этом все дело? Удалось ли ему соединить их обеих в одно целое, не дав знать Карен, что это он сделал ее другой? Закрывая глаза, освобождаясь от мыслей, он призывает сон вернуться. Но сон пропал.
Барни открыл глаза и так и лежал, глядя на светящиеся стрелки часов. Он уже неоднократно просыпался этой беспокойной ночью, и всякий раз стрелки становились все более тусклыми. В десять минут второго они походили на вскинутые вместе сверкающие руки; сейчас же они безвольно повисли. Пять сорок.
Он прищурился, силясь разглядеть окошечко с датой на циферблате и размышляя, какая она сегодня – красная или черная, но циклический календарь не подсвечивался. А производителям стоило бы это предусмотреть – особенно для фертильных часов[2]. Интересно, что бы делали с таким устройством первобытные люди, искавшие указаний от высших сил и вмешательства богов, у которых они испрашивали щедрые урожаи и благополучный исход для своих родов? Наверное, пытались бы с его помощью вызывать дождь. А что, если и ему испросить грозовой ливень. Вот только Карен вряд ли оценит такую шутку, подумал он с досадой. Он так старался сохранять уважительность и все шутил, когда принес эту штуковину домой, не ожидая со стороны Карен укора, хотя последнее время она все воспринимала в штыки. И все же ему следовало знать, что она отвергнет ее полезность, как отвергала пользу от анализов доктора Лероя, календарей и термометров.
Ей хотелось бы думать, что дети случаются сами собой, что зачинаются они на вершине романтической любви и в лунном ореоле страсти, без всяких раздумий, планов и знаний; ей хотелось бы верить, и он в этом ничуть не сомневался, в свои девчачьи представления о непорочном зачатии, а не в строгие подсчеты (она прибила бы его, вздумай он пошутить на эту тему в такую ранищу!) месячных циклов с учетом температуры тела. Она не нашла ничего забавного в вылепленной им фигурке Матери-Земли с обвислыми грудями и вздутым животом – символе плодородия, принесенного в дар богам; она, как ни странно, расплакалась, когда он шутки ради выставил скульптуру на лужайке в последнее полнолуние.
Хотя ей хотелось ребенка не меньше, чем ему, она несколько месяцев отказывалась от медицинских осмотров, даже после того, как он прошел их первым. Она предпочитала, о чем ему было известно, и дальше надеяться, молиться, мечтать, ничего не зная наверняка, и хотя анализы показали, что они оба способны к деторождению, ей верилось в это с трудом. Она по привычке измеряла себе температуру, составляла графики своих циклов, планировала дни, но при всем том отличалась поразительной неорганизованностью, словно самая ее плоть восставала против такого понятия как упорядоченность, и поначалу это вызывало множество огорчительных ложных тревог, что, как ему казалось, происходило по ее оплошности, отчего он потерял всякую веру в расчеты ее фертильных дней.
Перелом наступил, когда она повадилась ходить гадать к цыганкам, с головой ушла в дешевенькие гороскопы со звездными прогнозами, когда стала черпать духовные надежды в своих снах, – и вот тогда, прочитав как-то об этом в газете, он пошел и выложил семнадцать долларов и девяносто пять центов за те самые фертильные часы.
Продавщица, взглянув на него как-то странно, будто удивившись, что их покупает муж, тем не менее растолковала, как они работают. То были часы для спальни (кто бы сомневался!) с расчетным механизмом вероятных фертильных и нефертильных дней, и как только его жена ввела туда данные о своих самых длинных и коротких периодических циклах, после этого там, в окошечке на лицевой стороне, показывался календарь с числами, при том что красные соответствовали вероятным дням фертильности.
«Потрясающе! – прорычал он. – Детородная рулетка какая-то».
Ей бы посмеяться над этим (и может, рассказать девчонкам!), но Карен расплакалась.
Будто почувствовав, что он думает о ней, она повернулась обратно и вздохнула, ее черные волосы рассыпались веером по подушке, одна рука откинулась, а другая легла на живот, словно нащупывая, есть ли внутри что-нибудь. Он думал, а вдруг ее красота сильно изменится – как по стремительному мановению кисти японского живописца на белом; скулы под безупречной кожей вздернутся, хотя выдаваться не будут. Даже в тусклом свете он мог различить редкие морщинки на ее лице. Но она принадлежала к тому типу женщин, которые принимают близко к сердцу малейшие перемены, происходящие с их телом.
Где-то в глубине сознания у него затаилась мысль, с которой он боролся во сне. Что, если у нее изменится лицо, наклон головы, а то и манера держать руки. И все эти изменения она, верно, переймет от своей сестры Майры, с которой он виделся последний раз четыре года назад, еще до того как женился на Карен. Возможно ли взять лучшее от каждой и соединить вместе так, чтобы Карен ничего не узнала?
Сон как рукой сняло, хотя рассвет только-только забрезжил. Он выбрался из постели и оделся. Сперва кофе, а там решим. Он давно не прикасался к «Восходящей Венере» и до этой минуты не рассчитывал, что в Центре все так залихорадит. Но отказываться от хорошей мысли было грешно. Последние дни вдохновение посещало не часто. Выходя из спальни, он заметил, что теперь голова ее склонилась набок, левая рука оказалась под подушкой, а правая все так же покоится на животе. Если за все это время она забеременела, он сделает ее лицо другим – кое-что добавит. Ведь женщина, ждущая дитя, живет скорее будущим, нежели прошлым.
Он включил на кухне свет – и тут же смекнул, что дал маху. В раковине громоздилась груда грязной посуды, да и стол не сверкал чистотой. Почему она не засунула все это в посудомойку? Не бери в голову, утешал он себя. Стоит забыть про свой мерзкий характер, как все плохое разом вылетает из головы.
Он взялся было за днище электрической кофеварки – но крышку нигде не обнаружил. Тогда он стал искать растворимый кофе – но банка оказалась пустой. Он выключил свет и торопливо спустился вниз.
Сняв влажное покрывало со скульптуры в натуральную величину, он оценил взглядом свою работу. Бесспорно, Карен была достаточно красива, чтобы стать его натурщицей; ладное по классическим меркам тело, изящная правая рука касается бедра, а левая, с тонкими, сложенными чашечкой пальцами, прижата к груди, глаза скромно опущены, полные губы подернуты печалью. Но все это, конечно же, было неправдой, и он знал почему. За последние три года фигура (он то брался за нее, то отстранялся, то крушил ее, то брался сызнова) чуть заметно изменилась – стала более романтичной, чем он ожидал, и напоминала Венеру из далекого прошлого. Единственное, чего ей недоставало, так это раковины, Зефира[3] и Весны, пытающейся накрыть ее покровом. Впрочем, то было даже не его собственное представление, а избитый трехразмерный образ, будто сошедший с картины Боттичелли «Рождение Венеры».
Этим утром во сне «Восходящая Венера» была закончена, и, пока он изготавливал гипсовую форму, она ожила и вожделенно потянулась к нему. Но стоило ему обнять ее, как она вдруг ожесточилась и стала неумолимой, а потом глина треснула и раскрошилась в его руках. У нее было лицо Майры. Помимо явного сексуального подтекста сновидения, замешанного на страхе, в нем, как он понял, заключалось озарение – так у него возникла мысль привнести в лицо Карен кое-какие черты ее сестры, которые ему запомнились, и, наделив образ недостающей индивидуальностью, вернуться в некотором смысле к исходному характеру. Он понял: выражению губ надо придать решительности, да и глаза придется изменить. Кончиками пальцев он мог ощутить податливость глины. Но сейчас это не главное – не стоит торопиться, иначе он все испортит. За красотой Майры всегда скрывалась волнующая сила, чего не хватало Карен. Как же это выразить?..
Четыре года назад – кипучая, горячая, невероятно энергичная. Всегда в центре событий – будь то студенческая забастовка или кампания по сбору средств; выступление против внешней политики; борьба за права студентов, профессорско-преподавательского состава, меньшинств; протест в защиту выселенцев, бесправных и обездоленных. И уж будьте уверены: случись какая-нибудь манифестация, сидячая забастовка, или диспут-семинар в защиту гражданских прав, или демонстрация протеста с захватом жилья для ночевки, или марш против войны и бедности – Майра была тут как тут, всегда готовая помочь делу и возглавить его при поддержке неизменного своего окружения в виде восхищенных представителей сильного пола, согласных идти за нею куда угодно.
Он вспомнил ее смех, увидел, как она держит руку, когда спорит (ладонь обращена вверх, пальцы согнуты, будто удерживая мысль, как у роденовского «Проповедующего Иоанна Крестителя»[4]), увидел проникновенный взгляд ее голубых глаз, пленяющих всякого, кто подходил к ней близко, сраженный исходящим от них рвением. Он вел себя, как и все: сначала восхищался издали, потом вблизи. А обожателей у нее всегда было хоть отбавляй. Так, в конце концов, он свыкся с явившимся ему во сне образом Майры в роли живой обнаженной натуры, которую он собирался назвать «Восходящей Венерой». А работать он начал с того, что вспомнил, как однажды летом видел ее в купальнике, о чем никогда ей не говорил; он то начинал, то бросал, боясь, что этот образ будет преследовать его всю жизнь. Теперь же, глядя на статую, он понял, что просчитался, когда вздумал изменить первоначальному замыслу, решив привнести новые черты в скульптурные изображения Венер, ваявшиеся столетиями, когда замыслил отобразить в облике богини любви извечную борьбу между мужским и женским началом. Он думал о Венере, чья красота будет возвеличена благодаря силе и решимости, запечатленным в пылающих глазах Майры, благодаря волнующему изгибу ее шеи и напряженной манере держать руку. И в этом образе ему удастся воплотить внутренний конфликт современной женщины, оказавшейся под перекрестным огнем своих душевных терзаний.
Теперь ему стало ясно: он был неудовлетворен своей работой и все никак не мог ее закончить потому, что Карен для этого не годилась. Она была довольно красива, но красота ее казалась слишком романтической, чувственной, материнской.
Он познакомился с Карен на одной из сходок, организованных Майрой в их огромном семейном доме Брэдли, – они строчили какие-то письма и рассовывали их по конвертам, – и, хотя она никогда не подтрунивала над занятиями Майры (и даже иногда помогала ей, когда надо было рисовать плакаты или распространять рекламные листки), она же никогда к ним по-настоящему и не приобщалась. Она занималась современным танцем и посещала курсы по актерскому мастерству и однажды, когда он стал ее расспрашивать, растолковала ему, что выступать на сцене ей куда больше по душе, чем стоять в пикетах. Барни обращал мало внимания на Карен, пока Майра не произвела фурор в городе Элджин: сбежала со средних лет старшим преподавателем социологии (в Южную Калифорнию, чтобы помочь организовать союз рабочих-мигрантов и мексиканских собирателей фруктов), оставив своих почитателей в недоумении – куда же подевалась их богиня.
После бегства Майры Карен расцвела, стала привлекательнее и желаннее. Он начал восхищаться ее простодушным романтизмом, увидел в ней человека, нуждающегося в заботе и любви, а позднее, когда они поженились, он решил сделать ее натурщицей для своей более нежной и романтичной Венеры. К тому времени, когда они уже три года как были женаты, он не раз лепил ее тело, а вот с головой у него ничего не выходило, потому как он смутно понимал – та самая потаенная одухотворенность, что некогда пленяла его, теперь была ему помехой. И как он ни старался, а отобразить ее мечтательные глаза и пухлые, словно надутые от обиды губы ему все никак не удавалось. Она по-своему была такая же непостижимая, как Майра.
Но этим утром во сне он увидел, что для того, чтобы завершить образ, нужно добавить к нему кое-что от Майры – соединить обеих сестер в одном целом. Работал он споро.
За окном светало, а ему был нужен по крайней мере час, чтобы закончить модель, прежде чем отправиться на работу в Центр. Он несколько месяцев не прикасался к Венере всерьез – и сейчас пребывал в сильнейшем возбуждении, нипочем не желая останавливаться. Даже мало-мальская подвижка в осуществлении задуманного облегчит ему днем работу с глиняными моделями автомобилей.
Он рьяно взялся менять выражение лица: всего лишь мельчайшая складочка – и вот уже Майра исполнена нетерпения; подбородок тверже – чтобы как у мальчишки; в глазах – тревожное ожидание. В другой раз надо будет изменить жест руки: правую ладонь повернуть вверх, пальцы – согнуть так, будто они держат цветок. Но даже когда он еще только замыслил это, ему стало ясно, что Карен все поймет, – узнает и выражение лица, и жест руки и непременно огорчится. Он остановился, не отрывая руки от скользкой глины. Не нужно решаться прямо сейчас. Надо будет вернуться потом и взглянуть еще разок; или – что даже лучше – попросить Карен немного попозировать, чтобы она все видела в медленном развитии и привыкла к новому образу. А он поглядит, заметит она что-нибудь или нет. Если да – они все обсудят. Он снова смочил покрывало, набросил его на статую, прикрыл ванну с глиной и выключил весь свет.
Завтрак он приготовит себе сам, а она пусть поспит. Поработать утром было здорово, но она, наверное, обо всем догадается и будет расспрашивать. Уж больно она смышленая – и порой могла сказать не только все, о чем он думает, но и о чем он еще даже не успел подумать, вот и сейчас она наверняка поймет – здесь что-то не так.
Про кавардак на кухне он уже и думать забыл – и теперь вот почувствовал, что закипает от злости. Но он все же взял себя в руки и принялся рыться в посудомойке в поисках крышки от электрокофеварки. Тут он смекнул, отчего в раковине громоздилось столько посуды: посудомойка тоже была забита битком. Кто, как не Карен, заполнил ее под завязку и забыл включить?
Крышку от капельной кофеварки он обнаружил на полке для посуды, над сушилкой, и поставил кипятить воду. Но, попытавшись потом откопать чашку с блюдцем, грохнул в раковину стакан, и тот разбился вдребезги.
– Ну и черт с ним! – пробурчал он и расколотил следом чашку с блюдцем.
В полудреме Карен почувствовала, как он встал с постели и спустился вниз. Она с трудом размежила глаза. Кругом полумрак. Почему он поднялся в такую рань? Ночью он не раз будил ее, постоянно метаясь и переворачиваясь с боку на бок, – что-то его тревожило. Она смутно подумала – может, встать и приготовить ему завтрак, подняла голову и посмотрела на часы. Только десять минут шестого. Она гипнотизировала взглядом неугомонную секундную стрелку, словно хотела усилием воли остановить ее, а заодно заставить и себя застыть в этом промежутке между сном и пробуждением. Какой ужас – засыпать и просыпаться по часам, не говоря уже о том, чтобы предаваться любви! Она снова откинулась на подушку и закрыла глаза. Рекомендация врача отправиться во второе свадебное путешествие и перестать надрываться была первым дельным советом, который она услышала за все время, пока продолжалась эта эпопея с зачатием.
Раньше она и представить себе не могла, что родить ребенка такая сложная задача. Когда начитаешься про всех этих незамужних матерей, вынужденных избавляться от собственных детей, и наслушаешься родительских предостережений, то после первого же своего сексуального опыта думаешь, что наверняка забеременеешь. Она улыбнулась, вспомнив, как однажды они с Майрой болтали перед сном в темной спальне, лежа в кроватях, как было заведено между ними, девочками девяти и одиннадцати лет, и в конце концов пришли к выводу, что дети рождаются от поцелуя, а потом они еще больше укрепились в этой мысли, после того как услышали в школе от одной не по годам развитой девчонки про глубокий поцелуй («душевный», как та сама его называла), и, хотя Майра заметила тогда, что это противно, Карен подумала – до чего же прекрасно, когда после слияния двух душ в поцелуе возникает жизнь. А через год Майра, понаслушавшись откровений одной девчонки постарше, проходившей курс полового воспитания, торжествующе заявила, что, помимо поцелуя, вроде как нужно еще лечь в постель с мужчиной, чтобы он пролил семя в то место, которым ты писаешь. Карен сперва стушевалась (смекнув разумом десятилетней девчушки, что все это ерунда, потому как, когда ты писаешь, все это из тебя вымывается), а Майре было даже противно думать, что их родители укладываются в постель и проделывают то, что всякие там нахальные девчонки называют «кувыркаться» и «трахаться»: это звучало до того омерзительно, что казалось Майре просто ужасным. Но позднее она пробовала пересказать Майре романы, где вычитала, что люди, предаваясь любви, возносятся до небес на крыльях безудержного восторга и страсти и что это, должно быть, замечательно, когда двое влюбленных даже не думают о том, что будет после глубокого поцелуя, потому что в это время они охвачены безумной страстью.
Она мечтала, что так будет и у них с Барни, когда увидела его впервые. Прежде она никогда не встречалась со скульпторами – и украдкой присматривалась к нему, когда он пришел с товарищами к ним домой на заседание возглавляемого Майрой комитета – «Старшие за поддержку студенческого движения». Высокий, с большими руками и длинными пальцами, с ниспадающими на шею вьющимися рыжеватыми волосами, со светло-голубыми, в коричневатых прожилках глазами и с белой гладкой, как у девчонки, кожей. Ее привлек тогда его встревоженный взгляд. Он был художником, одиноким и угрюмым, из бедной семьи, жившей в Хамтрамке[5], и она пыталась представить себе, какой он, когда остается один и создает свои восхитительные величественные скульптуры. Она никак не могла взять в толк, почему художник оказался в плену чар Майры, как какой-нибудь студент-социолог-политолог (такие ходили за нею толпой, как за Жанной д’Арк, объявившей войну обществу), и все же ей нравилось, что он застенчивее остальных. А когда они всей оравой заявлялись к ним домой сочинять письма, надписывать конверты или рисовать плакаты, она всегда держалась поближе к нему, думая, а что будет, если их глаза встретятся. Впрочем, она никогда не старалась привлечь его внимание. Едва ли это было возможно, пока он принадлежал Майре.
Так уж у нее с Майрой было заведено с детства. Она никогда не претендовала на потрепанные вещи Майры (даже на латаные-перелатаные платья, равно как и на изношенные или сломанные игрушки), пока не убеждалась, что Майре они и в самом деле уже ни к чему. Однажды она крепко усвоила ее пример (сколько ей тогда было – лет пять или шесть?) с Синди, писающей куклой, безрукой, со сколотым носом и ободранными волосами. Ей захотелось эту куклу, потому что та была несчастная и нелюбимая, а поскольку Майра больше не играла с ней, Карен стала нянчить ее, как собственную дочурку. И вот как-то раз, когда тетушка Люси, состоявшая в комитете по сбору рождественских подарков для сиротского приюта, заикнулась, что ей нужны куклы, Майра пошла в их детскую, притащила все свои куклы, вместе с Синди, и передала их для детей-сирот. Майрой все очень гордились, а Карен так расстроилась, что принялась умолять, чтобы ей оставили Синди. Ведь это же ее кровинка, родная дочка, – заверяла она всех. Ей обещали взамен другую куклу. А отец сказал: «Не будь такой эгоисткой. Лучше бери пример с Майры», – и ей стало до того совестно, что она даже не пришла к обеду – спряталась в подвале и просидела там до тех пор, пока не пришло время ложиться спать. С тех пор она не притрагивалась ни к чему такому, что принадлежало Майре.
Так что в глубине души она обрадовалась, когда Майра сбежала со своим преподавателем. Она не забыла выражение лица Барни, когда как-то утром повстречалась с ним в студенческом городке и он спросил, правда ли это. Когда она ответила, что так оно и есть, он с на удивление глупой миной признался: «А мы с ней назначили свидание три недели назад – собирались вечером в кино». Не смея показаться чересчур развязной, да еще перехватив его исполненный отчаяния взгляд (хотя ей очень хотелось подтрунить над ним и сказать: вот и поделом тебе – не надо было назначать свидание загодя, да еще за три недели), она, однако, ничтоже сумняшеся, выпалила: «А почему бы тебе не пригласить меня вместо нее?»
Она до сих пор помнила его взгляд: он как будто видел ее в первый раз. Он ответил не сразу, и она почувствовала, как у нее заполыхали мочки ушей и лицо, – ей хотелось умереть. Но она рассмеялась и сказала: «Я просто пошутила», – и со слезами на глазах убежала в свой театральный класс.
В тот же вечер он позвонил ей и извинился. Сказал, что не хотел показаться грубым. Ну конечно же, он с удовольствием сводил бы ее в кино. Ей очень хотелось сказать, что у нее уже назначена встреча, и отложить свидание с ним на неделю, но она боялась начинать их знакомство с обмана и в глубине души ужаснулась при мысли о том, что за это время его у нее уведут. Несколько раз, пока шло кино, она краем глаза замечала, что он поглядывает на нее, и тогда поняла: раз нет Майры, значит, рано или поздно он переключится на нее.
Она слышала, как он мечется по кухне, громыхает ящиками стола и стенного шкафа. Какого черта он там ищет в такое время? Она снова открыла глаза – посмотреть, который час. Четверть седьмого. Спускаться вниз и готовить завтрак еще рановато. А надо бы встать и прибраться на кухне. Он там сейчас, наверное, злится, глядя на ворох посуды в раковине. Однако ее тело не проявляло ни малейшей охоты вставать с постели. В такую ранищу. Она смотрела, как секундная стрелка пожирает время. Странно: когда спишь, время для тебя как будто останавливается, а для всех остальных – и для него, чего бы он там ни делал на кухне и о чем бы ни думал – идет себе и идет, проходя мимо тебя украдкой и оставляя в прошлом. Подлая все-таки штука – время.
Она взглянула на фертильные часы – и поморщилась. По крайней мере, она знала – о том, что у них произошло на третьем свидании, они и не помышляли и ни к чему такому не готовились. Все случилось самопроизвольно – без оглядки на будущее. Ту восхитительную ночь она потом вспоминала сотни раз и втайне воскрешала в памяти последние три месяца, когда они предавались любви с учетом дней, выверенных по фертильным часам. Она немного послушала, как он громыхает там внизу, на кухне, потом перевернулась на живот и обхватила руками подушку. Все случилось после того, как они сбежали с одной скучной вечеринки и он проводил ее до дома, – тогда она, недолго думая, возьми и скажи: «Зайдем вместе. Предки вернутся не скоро». Она повела его наверх – показать комнату, где они жили на пару с Майрой. Там он ее поцеловал – сперва робко, потом страстно, ласково касаясь ее рук, лица, грудей, так, словно лепил ее плоть, а затем – ведь ей самой того хотелось – уложил ее спиной на постель и стал раздевать. «Только не здесь, – прошептала она, испугавшись собственного голоса. – Это кровать Майры».
Он посмотрел на нее, на мгновение смутился, потом перенес на ее кровать, бережно опустил и выключил свет. Со своей одеждой он замешкался – прошла, кажется, целая вечность, прежде чем он разделся и подошел к ней, а когда наконец лег в постель, его трясло от возбуждения, он сделался грубым, и она, не сдержавшись, заплакала от боли. Поняв, что она девственница, он вдруг стал сама нежность, будто хотел извиниться за то, что был не очень ласков; он мягко обхватил ее своими мускулистыми руками и сказал, что любит. А когда он уснул, прижимая ее голову к своему плечу, она подумала: ну вот, теперь он мой.
Проснулись они от шума: скрипнула наружная входная дверь – вернулись ее родители. Барни вскочил с постели, но она поднесла палец к губам. Они так и лежали, тише воды ниже травы, а когда в доме снова все смолкло, он оделся, тихонько спустился и ушел через заднюю дверь. Через несколько мгновений она услыхала, как в ее окно ударил камушек. Он стоял в лунном свете и посылал ей воздушные поцелуи. Увидев это, она разревелась от счастья – и почти всю ночь пролежала не сомкнув глаз, и все думала: ну вот, теперь его семя проникло в нее, чтобы создать новую жизнь. Она лежала, не шелохнувшись, боясь пошевелиться, и все шептала: уж теперь-то их никто не разлучит.
Какой же наивной она тогда была. Все оказалось не так-то просто. По крайней мере, для нее. Она посмотрела на часы: семь пятнадцать. В окошечке виднелась цифра восемь – красная. Ей хотелось ребенка больше всего на свете, только очень смущало, что предаваться любви приходится в соответствии с клиническими предписаниями – по расписанию. Такая научно запрограммированная связь, напоминающая точно выверенную систему размножения сельскохозяйственных животных, каких-нибудь лошадей или лабораторных зверушек, – это уж чересчур. Майра, может, с этим бы и смирилась. Майра, может, и прониклась бы духом времени, ходила бы по библиотекам и медицинским лекциям, чтобы узнать о последних достижениях в области гинекологии, – и, в конце концов, охотно поучаствовала бы в программе по регулированию рождаемости и планированию материнства. Так вот, она не Майра и ни за что не хотела бы стать такой, как она. И будь что будет.