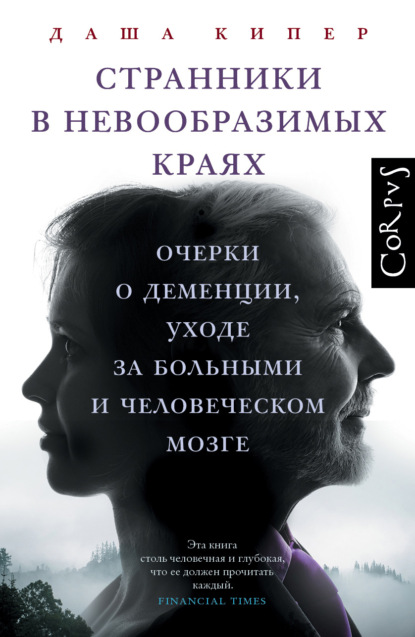Странники в невообразимых краях. Очерки о деменции, уходе за больными и человеческом мозге

000
ОтложитьЧитал
© 2023 by Darya Kiper
© Foreword copyright by Norman Doidge, 2023
© В. Арканов, перевод на русский язык, 2024
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2024
© ООО “Издательство Аст”, 2024
Издательство CORPUS ®
Вступительное слово
“Странники в невообразимых краях” – книга целительная: редкий пример истинной библиотерапии. Рассудительная, зрелая, мудрая, лаконичная, она не только расширит ваше понимание того, как уход за близкими, страдающими болезнью Альцгеймера, отражается на тех, кто взял на себя эту заботу, но и наверняка поможет им и придаст силы, а возможно, и многое изменит для миллионов людей, у которых эта беспощадная болезнь медленно и безжалостно отбирает близких. Книга вводит новое понятие – “слепота деменции”, вскрывая одну из главных проблем, с которой сталкиваются все, кто ухаживает за больными с когнитивными нарушениями, и которую до сегодняшнего дня никто так ясно не сформулировал. Многие из тех, кто занят таким уходом, узнав о концепции “слепоты деменции”, испытают облегчение.
На страницах книги в легкой и доступной форме Даша Кипер воспроизводит свои откровенные, живые и познавательные разговоры с ухаживающими за больными близкими и ищет ответ на вопрос, почему, раз за разом совершая одни и те же ошибки, они не меняют своего поведения. Каждый разговор основан на реальном клиническом случае и сопровождается пересказом научных исследований работы мозга и тщательно подобранными примерами из литературных произведений Борхеса, Кафки, Чехова, Мелвилла, Сартра и Беккета. Все это помогает автору разгадывать ребусы, которые задает болезнь. Писать о деменции непросто, но автор делает это с поразительными чуткостью и тактом.
Необходимость в такой книге давно назрела по нескольким причинам. Сегодня ни один из доступных нам препаратов, назначаемых при деменции, не излечивает от болезни – в лучшем случае лишь на несколько месяцев притормаживает ее развитие. Громкие обещания фармацевтов изобрести “волшебную пилюлю” от болезни Альцгеймера, подхватываемые и раздуваемые в прессе, каждый раз разбиваются о реальные возможности современной медицины. И действительно, становится все более очевидным, что амилоидная гипотеза, согласно которой болезнь Альцгеймера есть не что иное, как накопление бляшек в мозгу, и если найти способ от них избавиться, все вернется в норму, – не выдерживает критики.
Между тем тяжкое бремя забот о людях с когнитивными нарушениями, одновременно слабеющих физически, несут члены семьи и друзья. При этом внимания со стороны медиков их нуждам практически не уделяется, хотя для многих это испытание становится по‐настоящему тяжелым, если не сказать травмирующим. Ведь помимо необходимости обеспечивать ежедневный уход эти люди вынуждены наблюдать за медленным угасанием своих близких, за изменением их личности, а это неизбежно приводит к тому, что психологи называют “состоянием преждевременной скорби”. Добавьте к этому пугающие мысли о том, что болезнь могла передаться по наследству. Есть ли способ хоть как‐то поддержать тех, кто принял на себя эту заботу?
Кипер сумела необыкновенно точно почувствовать и воссоздать те странные, парадоксальные взаимоотношения, которые часто складываются между больными и теми, кто за ними ухаживает, разглядела нечто, ускользавшее от внимания других исследователей, которые занимались этой проблемой. Так обычно бывает: чтобы разобраться в том, чего большинство из нас стремится избежать, нужен человек, который не убежит, а сделает шаг навстречу. Таким человеком оказалась Кипер: помощь тем, кто ухаживает за людьми с деменцией, стала для нее делом жизни. Двойная удача состоит в том, что Кипер еще и одаренный писатель: в ней удивительным образом сочетаются деликатность, необходимая в работе любого психотерапевта, и беспощадная честность, вскрывающая ошибки не только тех, кто ухаживает за больными, но и свои собственные, на которых она постоянно учится.
Болезнь Альцгеймера проявляет себя по‐разному и по‐разному протекает у каждого пациента – отчасти это обусловлено тем, в какой области мозга начался дегенеративный процесс. Однако почти у всех отмечается утрата кратковременной памяти и другие типичные для этой болезни “потери”, к числу которых следует отнести и потерю адекватности. Многие постепенно лишаются разума.
Безусловная заслуга Кипер состоит в том, что она подробно описывает, как больные и те, кто за ними ухаживает, каждый по‐своему сопротивляются этим потерям и как когнитивные нарушения больных неизбежно отражаются на их близких. Понимание этого как витамин: не лечит, но поддерживает.
Книга объясняет, почему мы, ухаживая за больными, обречены, как Сизиф из древнегреческого мифа, вечно толкать в гору камень, который, едва достигнув вершины, неизбежно скатывается вниз. В нашем случае камень – это ошибки, на которых мы не учимся, раз за разом повторяя одни и те же просьбы, втягиваясь в одни и те же бесполезные споры. То, что больные деменцией не извлекают уроки из своих ошибок, неудивительно. Но странно, что их не извлекаем мы, превращаясь в пугающее отражение больных, о которых заботимся: забываем о том, что было вчера, повторяем то, что не сработало в прошлый раз, становимся все более беспокойными и нетерпеливыми. Так болезнь испытывает на прочность наши преданность и любовь.
Почему это происходит? Именно потому, что, как показывает Кипер, здоровый мозг априори считает другого человека независимой личностью со своим неповторимым внутренним “я”, которое на протяжении жизни остается неизменным (целостным), склонно к саморефлексии, открыто к новым знаниям и способно усваивать новую информацию. Психологи называют эту врожденную особенность мозга автоматически приписывать все перечисленные выше свойства чужому “я” когнитивно-эмоциональной предвзятостью. Эта предвзятость никуда не исчезает и тогда, когда мы ухаживаем за людьми, чей мозг начинает давать сбои. С нее начинается любой человеческий контакт. Она находит отражение в нашей речи и даже в самой структуре языка.
Говоря “ты” или “вы”, мы полагаем, что обращаемся к другому “я”, к сущности или совокупности процессов, составляющей эту сущность, которая со временем никоим образом не меняется. Но внутреннее “я” – и идея целостности, которую мы в него вкладываем, – зависит от способности памяти связывать воедино наши различные душевные состояния. Память также вовлечена и в процесс саморефлексии – ключевой компонент человеческого сознания. Болезнь Альцгеймера и другие формы деменции незаметно уничтожают когнитивную инфраструктуру, из которой складывается внутреннее “я”.
Процесс потери своего “я” неоднократно описан в литературе, посвященной болезни Альцгеймера. Он может тянуться долго, иногда десятилетиями, оставаясь незаметным как для больного (и это ключевой момент), так и для человека, который за ним ухаживает. Больной практически не меняется внешне: те же облик, мимика, интонации, пробуждающие в нас тысячи воспоминаний и эмоциональных ассоциаций. При этом день на день не приходится, и иногда кажется, что больной и внутренне остается таким же, как прежде: волевым и способным принимать самостоятельные решения. Как тогда отличить видимость от реальности, если перед нами тот самый человек, которого мы знали всегда?
Или все‐таки не тот? Прогрессируя, болезнь оставляет нам лишь оболочку, которую мы, все сознавая, тем не менее заполняем знакомым содержанием. Так устроен наш мозг, и, как поясняет Кипер, мы просто не можем не видеть того, что было на месте пустоты раньше. Это блестящее наблюдение служит отправной точкой для понимания тех “невообразимых краев”, которые описывает Кипер.
О людях, которые, даже понимая, что их близкий уже не такой, как прежде, продолжают видеть в нем того человека, каким они его всегда знали, мы обычно говорим: “Они отказываются признавать реальность”. Нам кажется, что у них срабатывает защитный механизм. Но это не совсем так. Да, бывает, что близкие действительно отказываются признавать реальность, и Кипер приводит такие примеры. Но подумайте: могут ли эти Сизифы, упрямо толкающие свой камень в гору, не понимать, что их близкие больны? Стали бы они заниматься своим сизифовым трудом, если бы не сознавали серьезность болезни и не стремились помочь? Так возникает концепция “слепоты деменции”, и хотя она может сосуществовать с отрицанием реальности и даже усугублять его, Кипер показывает, что это не просто защитный механизм, к которому мозг прибегает в момент стресса, а неизбежный результат деятельности здорового разума. В этом одна из причин того, что “слепота деменции” так долго ускользала из поля зрения исследователей, и именно поэтому эта книга так полезна.
Наше понимание того, что испытывает человек, страдающий болезнью Альцгеймера, было и остается субъективным. У нас нет никакого надежного знания об этом. Никто из больных не описал своих ощущений, поскольку еще никому не удавалось повернуть болезнь вспять на умеренной или тяжелой стадиях (когда личность практически полностью разрушена) и, восстановившись, рассказать о своем опыте. А нам бы очень не помешало знать, как следует общаться с человеком, стоящим у последней черты. Так что в пугающем выражении “потерять себя” отражена вся неопределенность и условность нашего представления об этой болезни. В то же время мы не склонны всерьез относиться к тому, что может быть едва ли не наиболее достоверным источником знаний, – наблюдениям тех, кто ухаживает за больными. Происходит это оттого, что в иерархии здравоохранения этим людям привычно отводится низшая ступень. Зато все мы жадно ловим каждое слово шарлатанов, сулящих полное исцеление, – на меньшее мы не согласны.
Даша Кипер выбрала для детального изучения довольно узкую тему. Но, как это нередко бывает, пристальное наблюдение за частным случаем порой оказывается ключом к пониманию общего. Хотя Кипер не претендует на это, я вполне допускаю, что ее предложение рассматривать отношения больного и того, кто за ним ухаживает, как единое целое, в котором переплелись их когнитивные предвзятости, может помочь в понимании других проблем, которые вызваны нарушениями различных функций мозга и ведут к постепенному разрушению внутреннего “я” и утрате его целостности.
Возьмем для примера шизофрению. Впервые эту болезнь диагностировали в 1883 году, назвав ее “деменция прекокс” (от латинского “раннее слабоумие”). В ту пору врачи полагали, что причина заболевания – в преждевременном разрушении мозга. Сегодня большинство из нас связывает шизофрению с ее наиболее известными симптомами вроде галлюцинаций и бреда. В действительности же симптомов гораздо больше, просто они – как, например, снижение когнитивных функций (за что, собственно, болезнь и получила свое изначальное наименование) – не проявляют себя так явно. Как и при деменции, подобные изменения личности могут проходить незаметно для больного и быть долгое время неочевидными для его родных и друзей.
Людям, которые ухаживают за больными шизофренией, бывает трудно увидеть, насколько болезнь меняет их близкого человека. Это тоже часто называют отказом признавать очевидное. Возможно, и так, но, зная о выводах Кипер, нельзя полностью исключить, что и это “слепое пятно” – результат работы здорового разума, проецирующего на больного то представление о нем, которое было сформировано до болезни. Я вовсе не утверждаю, что шизофрения и болезнь Альцгеймера – одно и то же. Конечно нет! К тому же шизофрения излечивается, и диагноз больше не является приговором. Но догадка Кипер о причинах возникновения “слепого пятна” деменции может в определенном смысле помочь и в понимании проблем, связанных с шизофренией и другими неврологическими и психиатрическими заболеваниями.
С практической точки зрения близким, знакомым с концепцией “слепоты деменции”, будет легче выбираться из когнитивных тупиков, что позволит им лучше понимать состояние человека, пораженного болезнью, и избавиться от непродуктивных заблуждений.
Я написал “понимать состояние человека”, а не “его внутреннего ‘я’”, потому что, как мне представляется, главный посыл этой книги – уважать человеческое достоинство. Даже когда больной полностью “теряет себя”, это вовсе не означает, что с ним можно больше не считаться; именно поэтому автору особенно важно показать возможность человечного подхода в ситуациях, когда потеря внутреннего “я” больным сталкивается с предубеждениями и восприятием со стороны ухаживающих близких.
Если у вас возникло ощущение, что я не всегда знаю, какой термин лучше употребить для описания людей с серьезными когнитивными нарушениями (“человек”, “внутреннее ‘я’”, “больной”), то вы не ошиблись. Но это из‐за того, что книга Кипер затрагивает новую область знаний, для которой у нас пока нет устоявшейся психологической, неврологической, юридической или даже просто расхожей лексики. Непонятно, в каких терминах думать о людях, чье внутреннее “я” постепенно, но неуклонно распадается у нас на глазах, утрачивая свою целостность. Без сомнения, отсутствие такой лексики затрудняет понимание последствий “слепоты деменции” и обществом в целом. И пока это так, важно найти не столько правильное слово, сколько правильного гида, который согласился бы показать нам (если не вблизи, то хотя бы издали) те невообразимые края, где странствуют наши близкие, со всеми их особенностями и подводными камнями.
Старое медицинское изречение, не утратившее актуальности и сегодня, гласит: “Иногда излечивать, часто облегчать и всегда утешать”. Я уверен, что, показав тот клубок противоречий, в который превращаются взаимоотношения больных с теми, кто за ними ухаживает, эта книга сможет принести облегчение и утешение многим измученным, сбитым с толку, раздавленным чувством вины, ничего себе не прощающим близким. Болезнь Альцгеймера, как и любая другая серьезная болезнь, напоминает нам о том, что мы смертны, но одновременно обнажает все нерешенные проблемы, которые годами отравляли наши отношения. Благодаря проницательным и психологически точным наблюдениям Кипер нам становится яснее, почему, ухаживая за больными, нам так трудно с ними общаться. Мы начинаем понимать, почему это общение причиняет боль и какую мы можем извлечь из него пользу.
И вот какой парадокс: впечатление от прочтения книги Даши Кипер может оказаться у вас не совсем таким, как вы ожидаете. Истории, рассказанные на этих страницах, не только учат трезво смотреть на вещи, не только глубоко трогают, но и дают надежду: если люди, столкнувшиеся с тем, что нас так пугает, находят в себе силы выстоять, значит, выстоять сумеем и мы. Кипер показывает, как те, кто ухаживает за своими близкими, принимают и осознают новую реальность заболевших родственников, привыкают к этой реальности и в конечном счете, пережив потерю, возвращаются в привычный для себя мир. Каждый описанный Кипер случай по‐своему ценен, каждая история таит в себе маленькое открытие. Вы узнаете немало нового о мозге, эмоциях и внутреннем “я”. Это замечательная книга.
Норман Дойдж,
автор книг “Пластичность мозга” и “Мозг, исцеляющий себя”
Странники в невообразимых краях
Моим родителям —
Маше (Марии) и Алексу Киперам
Предисловие
Когда мне было двадцать пять, я переехала жить к мужчине, которому было девяносто восемь. Переехала по чистой случайности, не понимая, действительно ли я этого хочу и буду ли хоть чем‐то полезна. Этот мужчина, которого я буду называть мистером Кеслером, не был мне ни другом, ни родственником. Чудом уцелев в период массового уничтожения евреев нацистами, он дожил до глубокой старости, но в последнее время страдал от болезни Альцгеймера, вот меня и наняли за ним присматривать. Хотя я закончила институт по специальности “клиническая психология”, навыком по уходу за такого рода больными я не обладала. Но сын мистера Кеслера, Сэм, полагал, что профессиональной сиделки отцу не нужно – он просто не хотел, чтобы отец жил один. Не потому, что тот не справлялся, а исключительно с целью помочь ему по дому.
Как многие в его положении, мистер Кеслер не признавал болезнь, списывал все приключавшиеся с ним напасти на возраст и не замечал происходивших с ним непоправимых и разрушительных изменений. Убирая стиральный порошок в духовку или силясь припомнить, на каком этаже живет, он обычно бурчал себе под нос: “Mayn kop arbet nisht” (“Голова не работает”), – но это была жалоба, а не диагноз. Поскольку отказ признавать потерю дееспособности может быть как следствием болезни, так и естественной реакцией здорового человека, Сэм продолжал считать, что отец не болен, а просто стар.
Въехав в трехкомнатную квартиру мистера Кеслера в Бронксе, я, как и многие в моем положении, превратилась не столько в “присматривателя”, сколько в подобие индивидуального справочного окна для особо беспокойных клиентов. “Где мои ключи?”, “Ты не видела мой бумажник?”, “Какой сегодня день?”, “Где ты живешь?”, “Где живут твои родители?” – на эти и другие вопросы я отвечала на протяжении года ежедневно не по одному, а по девять или десять раз в сутки. А поскольку мистер Кеслер пребывал в полной уверенности, что задает каждый свой вопрос в первый раз, то всегда требовал ответа с неослабевающим нетерпением, которое в итоге передалось мне. Я очень хотела ему помочь, но это было не в моей власти. Я очень хотела, чтобы он видел, как я стараюсь, но это было не в его власти.
За год до переезда к мистеру Кеслеру, в 2009‐м, я училась в аспирантуре и собирала материал для диссертации по клинической психологии, в которой хотела рассмотреть различные патологии – преимущественно депрессии, ПТСР[1], затяжные реакции горя и повышенной тревожности – сквозь беспристрастную призму количественного анализа. Хотя я добилась определенных результатов, исследовательская работа угнетала меня сухостью и обезличенностью собранного материала. Я понимала, что без экспериментальных данных и клинических исследований не обойтись, но мне точно так же было очевидно, что сами по себе они не дают полной картины неврологического заболевания, поэтому довольно быстро научные концепции и теоретические построения меня разочаровали.
По сути, я бросила диссертацию по той же причине, которая когда‐то привела меня в науку, – преклонение перед профессором Оливером Саксом. Мне не довелось с ним встречаться, но, прочитав еще в школе его книгу “Человек, который принял жену за шляпу”[2], я подпала под обаяние его интонаций, его тонкой душевной организации, его картины мира. Сакс очаровал меня тем, что очаровывался своими пациентами. Что, знакомя нас с ними, рассказывал не об абстрактных случаях из области неврологии, а о конкретных людях, чей недуг невозможно было понять, не разобравшись в особенностях личности. За сухими клиническими наблюдениями всегда сквозила глубокая человеческая симпатия. Возможно, поэтому мне так нравилось, что для описания своей работы он использовал термин “романтическая наука”, который ввел в обращение советский нейропсихолог Александр Лурия, его друг и наставник[3].
Хотя термин “романтическая наука” отсылает к идущей с восемнадцатого века традиции включать в описание недуга личные данные больного, он как нельзя лучше характеризует то, чем занимался Оливер Сакс. Его так сильно трогало и восхищало умение пациентов приспосабливаться к своему состоянию и заново отыскивать смысл в жизни и вопреки, и благодаря болезни, что его записи становились уже не просто клиническими наблюдениями врача, изучающего особенности человеческого сознания, а одами, воспевающими каждого из героев. Поэтому, когда меня попросили присмотреть за мистером Кеслером, я увидела в этом возможность понаблюдать за тем, как человек борется за сохранение своей неповторимой индивидуальности, даже когда неврологическое заболевание постепенно уничтожает ее.
Иногда, проснувшись поутру, мистер Кеслер понимал, кто я, иногда – нет. Иногда его раздражало мое присутствие, иногда радовало. Случалось, он смотрел на меня и бормотал, словно извиняясь за свою забывчивость: “И давно такое со мной?”, или “Как же я этого не помню?”, или “Не понимаю, как меня можно вынести”. Хотя подобные переходы от спутанного сознания к минутным прояснениям характерны для этой болезни, они редко являются предметом научного обсуждения. В психологии их привычно называют “инсайтом” – термином, подразумевающим внезапное осознание пациентом причин ситуации, в которой он оказался, или проблемы. Но было бы наивно считать, что при деменции есть только два состояния. Инсайт не тумблер, переключающийся из одного положения в другое. В действительности ни одно описание механизма минутных прояснений не способно передать сложную, противоречивую природу разума, зажатого в тисках болезни или, если уж быть совсем точным, силящегося эти тиски разжать.
Оливер Сакс, в свою очередь, не любил понятие “дефицит” – это, по его выражению, “излюбленное словечко неврологов”[4]. Оно подразумевает взгляд на пациента лишь как на бездушный механизм, который либо функционирует, либо нет. К тому же, как и “инсайт”, “дефицит” – понятие, не допускающее неоднозначности. Но при расстройствах, связанных с деменцией, – потеря памяти, потеря интереса, потеря контроля за своими поступками, потеря способности составлять собственные суждения, – любому нарушению, вызванному дефицитом, в насмешку или в назидание обычно предшествует обилие – криков, споров, оправданий, передергиваний и взаимных обвинений. Иными словами, обилие проявлений индивидуальности. Где есть потеря, там встречается и компенсаторное поведение – моменты, когда мозг восстает против болезни, мобилизуя оставшиеся неповрежденными умения и способности, чтобы компенсировать отсутствие контроля над тем, что больше не в его власти.
Мы называем такую компенсацию “опорой на когнитивный резерв”[5], что, несмотря на точность определения, звучит как насмешка, если вспомнить те потрясения и хаос, которые вносит эта “опора” в жизни больных и тех, кто за ними ухаживает. Опираясь на действующие нейронные связи, мозг пытается сохранить у больного ощущение себя, своей индивидуальности, что позволяет тому продолжать спорить, очаровывать, убеждать, выдумывать, обвинять и настаивать[6]. Все это еще больше размывает грань между нарушениями функций мозга и его когнитивной устойчивостью. Пожалуй, можно даже сказать, что необъяснимое поведение, которым огорошивает нас больной, вызывается именно когнитивным резервом, а отнюдь не деменцией.
В отличие от рака или сердечно-сосудистых заболеваний, болезни головного мозга не позволяют отделить проблему от пациента. Больные “вступают в сговор” с болезнью, превращаясь, по выражению Сакса, “в мужа и жену, которых десятилетия совместной жизни делают единым целым”[7]. Ну и кто в таком случае несет ответственность за необычные или вызывающие поступки? Вот, допустим, посреди ночи ко мне в комнату врывается человек и просит найти его паспорт, а спустя пару минут, едва я нахожу документы, говорит, что может прекрасно без меня обойтись, и требует убраться из квартиры. Или другой пример: тот же человек часами задушевно болтает со мной, рассказывая о своем детстве, а потом говорит сыну, что знать меня не знает и вообще ему лучше жить одному.
Чем больше я узнавала мистера Кеслера, тем яснее видела в нем сплав его индивидуальности и болезни, то самое “единое целое”, противоречия которого были не столько печальным следствием снижения когнитивных функций, сколько неизбежным отражением двух постоянно владевших им взаимоисключающих желаний: быть полностью независимым и при этом всегда рассчитывать на поддержку. Именно “сговор” мистера Кеслера со своей болезнью и не давал мне покоя. Словно в насмешку, стремление “сохранить себя”[8], так восхищавшее меня в пациентах Оливера Сакса, теперь сильно усложняло мою работу.
Постоянно находясь рядом с человеком, который то узнавал меня, то не узнавал, то хотел общаться, то гнал из дома, то с удовольствием уплетал приготовленный мной обед, то обвинял в злоупотреблении его гостеприимством, я заметила, что тоже перестаю понимать, кто я – помощница или незваная гостья. Эти его перепады настроения обострили во мне чувство неприкаянности, подняли вечные экзистенциальные вопросы. Зачем я здесь? Что я делаю? Есть ли от меня польза? Тогда я впервые поняла, что деменция не мешает больным находить ваше самое уязвимое место и бить туда до тех пор, пока вы не решите свою внутреннюю проблему.
Как‐то вечером, когда мы уже жили вместе месяцев семь, мистер Кеслер решил забраться на стул, чтобы поменять батарейки в детекторе дыма. Когда я сказала, что это опасно, и предложила помочь, он привычно огрызнулся в ответ: дескать, он тут хозяин и уж как‐нибудь справится. Обычно, когда он порывался что‐нибудь чинить, я переключала его внимание на другое занятие. Но на этот раз на меня почему‐то нашла решимость доказать, что, помимо его упрямства, есть такая простая вещь, как объективная реальность. “Не лезьте туда, – твердо сказала я. – Это слишком опасно”. Он махнул на меня рукой и поставил ногу на стул. Подобное высокомерие лишь усилило мое желание развеять его иллюзии. Я устала ему подыгрывать, устала быть соавтором мифа о его безупречном здоровье – что, кстати, давало ему лишний повод ставить под вопрос необходимость моего присутствия в его доме. И я сделала то, чего никогда не следует делать в общении с больными деменцией: решила поспорить. Поддавшись приступу гнева, я закричала, что он ничего не делает сам, что ему всегда нужна моя помощь, что он не способен жить один.
Хотя мой срыв нисколько его не смутил и через десять минут выветрился из его памяти, происшедшее на многие недели выбило меня из колеи, погрузив в тяжелую апатию. Я продолжала исполнять свои обязанности – подавала реплики, которые мистер Кеслер ожидал услышать, чтобы в очередной раз пуститься в набивший оскомину рассказ, объясняла, кем ему приходятся люди, которые звонили в тот день, – но все это сквозь пелену отчаяния, в каком‐то оцепенении. Более того, я стала сомневаться в своих человеческих качествах. Как можно было повысить голос на девяностодевятилетнего старика, больного деменцией? Куда подевалась моя “сострадательная отчужденность”, без которой, по мнению Оливера Сакса, невозможно успешно ухаживать за людьми, страдающими неврологическими расстройствами? Конечно, Сакс в конце дня мог оставить своих пациентов и вернуться домой в Вест-Виллидж, чтобы отдохнуть и набраться сил. Мне уйти было некуда. Но я все равно считала, что предаю все, чему меня научили его книги.
Неудивительно, что и спасение пришло из одной из них. Как‐то, перелистывая “Человека, который принял жену за шляпу”, я наткнулась на хорошо знакомый абзац в главе “Заблудившийся мореход”, который я, должно быть, перечитывала уже дюжину раз. В этой главе речь идет об “обаятельном, умном и напрочь лишенном памяти”[9] мужчине, который жил в нью-йоркском католическом приюте для престарелых. У Джимми Г., как называет его Сакс, был диагностирован синдром Корсакова, основным симптомом которого является невозможность запоминать текущие события. Из-за этого Джимми считал, что ему девятнадцать, хотя на самом деле ему было сорок девять. Несоответствие между тем, каким представлял себя Джимми, и тем, каким его видели окружающие, было настолько разительным, что, вероятно, поэтому Сакс не удержался от внезапного искушения и поднес к лицу мужчины зеркало. Джимми, естественно, ужаснулся и буквально обезумел при виде отражения. Сакс сразу понял свою оплошность и успокаивал Джимми до тех пор, пока увиденное в зеркале не стерлось из памяти мужчины. Но не из памяти Сакса. Он так и не смог ни забыть о допущенной ошибке, ни простить ее себе.
Как же я была благодарна ему за этот отрывок! Мне так важно было знать, что и у него случались ошибки, которые он имел мужество признать. Что и он поддавался эмоциям и не всегда оказывался на высоте. Зачем он поднес зеркало к лицу человека, зная, что тот не вынесет правды? Похоже, и ему было не чуждо желание, столь знакомое всем, кто когда‐либо ухаживал за больным деменцией. Разве мы все рано или поздно не подносим зеркало к лицу того, за кем ухаживаем? Разве мы все не умоляем его опомниться, посмотреть на происходящее здраво, понять, что реально, а что нет? Как и любой из нас, Сакс инстинктивно захотел вырвать своего пациента из лап болезни, вернуть в нормальное состояние. Вот почему мы спорим и кричим – мы просто хотим затащить больного обратно в нашу реальность. Не жестокость, а отчаяние движет нами, когда мы пытаемся переспорить.
Я по‐новому взглянула на прочитанное: глава “Заблудившийся мореход” была не только о больном человеке, который живет “под непрерывным гнетом странностей и противоречий”[10] и тщетно пытается нащупать последовательность событий вопреки своему заточению в “бесконечно изменчивом, бессмысленном моменте бытия”, но и об Оливере Саксе, и обо всех тех, кто однажды оказывается внутри такого “бессмысленного момента бытия” в обществе человека с когнитивными нарушениями.
Слово “деменция” (от латинского de – отсутствие, отмена, лишение + mens – разум) вошло в английский лексикон в конце восемнадцатого века и поначалу значило сумасшествие или невменяемость. Пока медицина с опозданием не начала отделять психические расстройства от физических, признаки помутнения сознания, маразма и изменения личности считались соматическими заболеваниями и лишь в прошлом веке были отнесены к области неврологии. Пятое издание “Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам”[11] рекомендовало избегать термина “деменция”, заменяя его словосочетанием “неврологические нарушения”[12]. Перенос акцента на биологическую природу психических расстройств помог внедрить более терпимое отношение к поведению, которое когда‐то считалось неприличным. Вы же не злитесь на человека, если у него рак или больное сердце.
Несмотря на рекомендацию, термин “деменция” по‐прежнему широко в ходу. Им обозначают заболевание, но чаще – широкий спектр таких симптомов, связанных с ухудшением когнитивных функций, как потеря памяти, неумение справляться с эмоциями, трудности с формированием суждений, планированием и решением проблем. Деменция может быть временной, если она возникла из‐за употребления наркотиков, обезвоживания или нехватки витаминов, но такие формы деменции, как болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви, лобно-височная деменция и сосудистая деменция, вызывают в организме патологические и необратимые изменения.