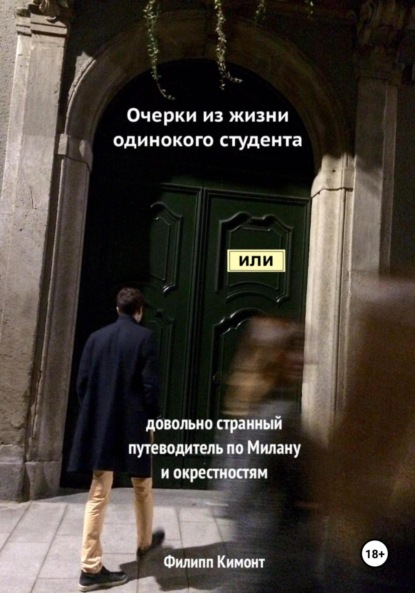Очерки из жизни одинокого студента, или Довольно странный путеводитель по Милану и окрестностям
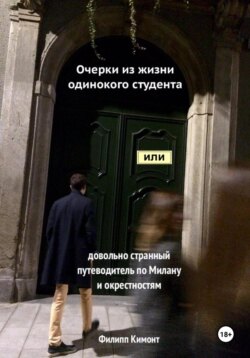
000
ОтложитьЧитал
И снова к Неаполю
Пропетляв сквозь добрую дюжину подобных улиц, я остался с некоторым чувством разочарованности: встречи с мафией не произошло. На меня даже не вылили помои с верхних этажей почерневших от времени домов. Вместо этого, однако, я получил на макушку несколько капель прохлады, всегда желаемой в летний зной. Виной тому было домашнее белье, обильно развешенное по всей ширине узких улиц.
Я нисколько не обиделся, поскольку считаю, что использовать для сушки белья такие бренные приспособления как батареи или, еще хуже, электрическую сушилку, вместо присносущего дуновения теплого ponente54 было бы так же кощунственно, как и расточительно.
Однако я подумал о замечательной иронии того, что на моем месте
мог оказаться чопорный господин, приехавший в южную столицу с целью снять с помощью своего бездонного банковского аккаунта, так сказать, самые сливки местной культуры: полюбоваться величием Везувия, оценить сохранность Помпей, составить мнение о сокровищах Геркуланума или посидеть в партере дедушки Сан–Карло55. Жарким вечером он прибудет в старый город, с холодным расчетом отыскать скромный ресторанчик, где по преданию родилась та самая, давно порезанная на весь мир, неаполитанская пицца. Покинув такси-лимузин заранее, с желанием продефилировать несколько шагов по старинной улочке, наш господин вдруг попадет под прохладный дождь среди ясного неба. Этот «дождь» редкими каплями прольется на его лысину и костюм от Cesare Attolini56, приобретенный здесь же, со свежевыстиранных семейников какого-нибудь угрюмого manovale57, недавно вернувшегося с работы, и здесь же, в траттории за углом, угрюмо потягивающего свое пиво. Последний никогда не узнает, а первый, может быть, так и не поймет, что произошло, но именно в этот момент, я уверен, где-то высоко–высоко вселенские весы качнутся на несколько дюймов в сторону мировой справедливости и всеобщего благоденствия.
В этих сохнущих семейниках, простынях и ночнушках, вывешенных на всеобщее обозрение, заключено какое-то особое гостеприимство местного люда по отношению к стекающимся со всего света ценителям неаполитанского колорита. Где, как не здесь, вспомнить о настоящем багрянородном принце, появившимся на свет в одном из самых нищих кварталов этого города, величайшим комиком своего времени, поэтом, музыкантом, меценатом и просто легендой Неаполя, да и всей Италии. Позвольте представить…
…Антонио Де Куртиз
Если кто-то из уважаемых читателей не узнал с ходу, о ком речь, проявите немного терпения, и мы назовем его полное имя. Среди переулков не очень благополучного, а проще говоря – бандитского района Sanità (что по удивительной иронии переводится как здравоохранение или санитария), сейчас трудно отыскать улицу, где он был рожден, да и совсем не безопасно. А если все же отыщите – не обольщайтесь. Вы не найдете здесь ни новомодного музея с аутентичным реквизитом из его бесчисленных фильмов, ни дорогого ресторана его имени, ни даже кафе, где можно было бы отведать кофе именно таким, каким предпочитал его маэстро. Отрадно одно – с 15 февраля 1898 года, когда маленький Антонио впервые огласил обшарпанную улицу с одним из бесчисленных имен Богородицы58 своим пронзительным неаполитанским криком, и соседи, высыпав на балконы, стали отпускать, перекрикивая ребенка, свои смачные поздравления матери – дородной, гордой и в то время одинокой женщине, – она, эта улица, нисколько не изменилась (да простит мне это наблюдение местный муниципалитет).
Ее обшарпанные стены и ржавые балконы были свидетелями незавидного детства ребенка, безотцовщины, насмешек и побоев от сверстников, очевидно не признававших художественной ценности его пародий на себя. Был бы отец Антонио более ответственным человеком, мальчик рос бы в каком-нибудь римском палаццо с непомерным штатом прислуги и гувернеров. Родись он на несколько сотен лет раньше – он мог бы править этим народом… Но судьба распорядилась иначе, и будущий Антонио Гриффо Фокас Флавио Дукас Комнено Порфирородный Гальярди де Куртиз Византийский, Его Императорское Высочество, Герцог Палатинский, Рыцарь Священной Римской Империи, Наместник Равеннский, Граф Македонский и Иллирийский, Князь Константинопольский, Киликийский (не устали еще?), Фессалийский, Понтийский, Молдавский, Дарданийский, Пелопоннесский, Герцог Кипрский и Эпирский, Герцог и Граф Дривастский и Дураззский59…, а для друзей просто Totò, он стал властителем нового искусства, захватывавшего мир куда быстрее, чем любая империя – кинематографа. В то время, как мать прочила сыну священнический сан, а родовитый отец где-то постигал всю степень ответственности отцовства, Totò уже связал свою жизнь со сценой неразрешимыми узами брака. Когда же, вразумившись и признав сына, родитель почил, слава новоиспеченного наследника уже перекрыла своим блеском свалившуюся на него родословную, а фильмы с его участием с лихвой перевесили все полученные им титулы. Великий Чаплин творил за океаном, а Totò – здесь, в доставшейся ему в наследство Европе. Сам Висконти, у которого и список титулов был все же покороче, всецело признавал художественные заслуги потомка Византийских императоров.
Как это часто случается, на долю самого Антонио выпало немного личного счастья. Женщины, решая, что их сердце разбито, писали ему пламенные письма и умирали60. Единственный брак, едва заключившись, вскоре распался, но бывшие супруги продолжали жить под одной крышей ради дочери. Наконец, единственный сын, едва родившись (уже у другой женщины – последней музы актера), отошел в мир иной. В память о нем Totò всю оставшуюся жизнь навещал детей–сирот, не забывая переводить в детдома огромные суммы. Что до остальных людей – принц Антонио, знавший лучше многих, что такое нищета, искрометно обличал общество, ее породившее, в своем творчестве и боролся с ней весом своего кошелька в жизни.
Другими созданиями, попавшими в фавор князя, стали бездомные собаки, для которых он отстроил собачий питомник, объясняя свою слабость тем, что люди способны на предательство, собака – никогда.
Список фильмов с его участием едва не перевалил за сотню, но сцена, с подмостков которой он начинал свой творческий путь, никогда его не отпускала. Его преданность стоила ему зрения: предположительно из-за яркого света софитов и огней рампы к концу жизни актер практически полностью ослеп. Окончил свой жизненный путь Антонио ди Куртиз, сетуя, что так и не смог воплотить в своем искусстве все возможности, которые дала ему та самая сцена. Родившись на 9 лет позже Чаплина, с которым их так много необъяснимым образом роднило, умер Totò на 10 лет раньше его, в возрасте 69 лет.
Уходил великий комик национальным героем. Вопреки его желанию почить тихо и без лишних слез, Италия хоронила его 3 раза. Один раз в Риме и два в Неаполе. Когда в Милане умирал Верди, мостовые города были застланы сеном, чтобы дробь колес экипажей не беспокоила маэстро. Неаполитанцы пошли дальше: встречая тело своего любимца, они перекрыли все улицы. Город замер на несколько часов: магазины и прилавки закрылись, на всех окнах висели знаки траура, тысячи и тысячи неаполитанцев вышли на улицы, чтобы проводить Totò в последний путь. Третьи же похороны организовал сapoguappo – своеобразная глава того самого бандитского района, где Антонио появился на свет. Несмотря на то, что гроб был по понятным причинам пуст, процессия собралась не меньше предыдущих.
Однако опрометчиво упрекать (да и небезопасно) самих неаполитанцев в забывчивости. Народ, в среде которого рос великий комик, не позабыл его. Свидетельством тому служит портрет Totò, что красуется на углу его родного дома, выполненный тем самым безымянным мастером, для которого город – это холст, а краски – сама жизнь. И теперь флегматичная гримаса principe della risata61, соседствует с не менее флегматичным поломанным дорожным знаком, посыл которого едва ли ясен. Тут же по соседству примостились переполненные мусором контейнеры, роскошью нашего времени, свидетелем которой Антонио, думается, стать не успел. Пройдя дальше, вы найдете прилавок с его портретами на майках, магнитами на холодильник и фигурками – свидетельство, что хоть кому-то дорога память об актере не только в символическом, но и вполне материальном смысле.
Многоуважаемым читателям может показаться, что и здесь нет пророка в своем отечестве. В оправдание отечества, а скорее в свое, спешу заметить, что может быть, обнаруженная мной на стене дома, (заботливо спрятанная в файл от дождя и вандалов) бумажка с именем Totò и стрелкой все же ведет в тот самый, скрытый от глаз непосвященных музей, посвященный великому комику. Но утверждать не берусь, поскольку сам не видел.
Время соборов
Но возвратимся к петляющей среди неаполитанских закоулков стезе московского студента, выбравшегося наконец на одну из тех небольших площадей, что лежат словно нечаянно оброненные монеты на мостовых старого города. Здесь на площади, после мрака узких улиц, тебя ослепляет свет, подобный вспышке в первые доли секунды ядерного распада. Не дожидаясь окончания реакции, ты устремляешься к огромному собору, выходящему на площадь и похожего на великана, забывшегося тяжелым сном в зное южного полудня.
Я любил эти соборы. Но любил не за их роскошь и монументальность, а за их «оставленность». Эмигрантская тоска, которую я обычно примерял на себя по возвращении с родины на очередные несколько месяцев учебы, влекла меня в тихие, забытые людьми места, где можно в полной мере предаться грустным мыслям о далекой родине. Дважды побродив на городском кладбище среди мрачных усыпальниц миланской знати (некоторые из которых достигали размеров загородных домов средне–зажиточных и еще живых семей), я решил, что этого вполне достаточно для человека, не склонного к «тафофилии», и больше знать не навещал. Теперь местом моих уединений стали соборы. Тешу себя надеждой, что подобная симпатия к соборам ничем похожим на что-то-филию еще не названа.
Их история, уходящая своими корнями вглубь веков, по сути, никому давно не нужна. Старые, поседевшие уже тогда, когда наш сегодняшний мир с его раздраем и избыточностью еще только зарождался, сейчас они флегматично наблюдают его закат. Каменные глыбы, врезанные посреди города в земную кору еще на добрые сотни поколений, они напоминают окаменевшие останки динозавров. Может быть, они и заинтересовали бы кого-нибудь, сохранившего свежесть восприятия, если бы историк–умелец нарастил на эти останки живую плоть эпохи, их создавшей (как художник, давая волю своему дару и воображению, наращивает на двух-трех осколках ископаемой челюсти – не факт, что челюсти – огромного, разноцветного, с лютым оскалом и взглядом убийцы какого-нибудь герреразавра).
Но живое прошлое, давно разделанное на клише и эмблемы, нас интересует гораздо меньше, чем тревожное будущее, и свидетелям этого прошлого остается своим немым упреком мозолить глаза современным градостроителям и урбанистам. Соборы в Европе, слава Богу, нельзя снести, нельзя перестроить. Без них немыслима европейская культура. И ни один европеец не видит себя без этих великанов прошлого, как бы обильно он ни был пропитан равнодушием к своим истокам62. Но равнодушие сгинет, обратится в небытие, а эти титаны будут стоять как прежде, самодостаточные и вневременные, как божества.
К этим старикам хочется припасть головой, прижаться щекой к их холодным стенам, прислушаться к их тишине и, сосредоточившись, вырваться из слепой погони за будущим. А вырвавшись, попытаться сцедить из своей души хоть каплю благодарности. Благодарности за постоянство и незыблемость. Дух Божий, как известно, обитает среди молящихся, среди людей. Опустевшим соборам остается хранить лишь дух времени. Что они и делают из века в век.
Кто осмелится судить о церковной жизни западных христиан в стране, где до цитадели могучего папства (еще держащего в религиозном тонусе всю Европу, а за ней и Новый свет), кажется, рукой подать? Мощь и великолепие его соборов говорят лучше любых цифр в Википедии. Но тихие мессы, на которых мне тоже приходилось бывать, казались мне, иностранцу, случайными гостями под этими вековечными сводами. Как редкие из правнуков заходят изредка навестить своего прадедушку в его седом одиночестве. Посидят рядом, не сознавая, каким ликованием они наполняют сердце старика, подержат его дрожащую руку в своих молодых руках и убегут, чмокнув на прощание морщинистый лоб. А старик, который уже давно не в состоянии гнаться за круговертью жизни и добровольно сошел на одной из остановок, снова будет наедине с самим собой, со своим прошлым. И время вновь остановится до следующего визита неуловимой жизни.
Полдень в соборе
Ощущение, посетившее меня тогда, в затерявшемся среди потрепанной паутины неаполитанских улиц соборе, до сих пор возвращается ко мне. Тот собор именно «затерялся», несмотря на свои огромные размеры и даже наличие площади перед собой. Дело в том, что впоследствии, прибыв на родину, я силился отыскать его вновь по картам, но безуспешно. Великан будто исчез, стоило мне покинуть его своды, поднялся над городом, спутав под собой улицы и переулки, к нему выходившие, чтобы раствориться в дымчатой синеве южного неба.
Но пока все было на месте. Жара стояла поистине неаполитанская. Иссушенные бесцеремонной близостью солнца дворы, растения, площади сливались в одну ослепительную картину, название которой «Летний полдень в Неаполе». Путника здесь посещает незнакомое для сынов севера странное чувство единения со всем окружающим миром, как будто все и вся находится на одной огромной сковороде, и рано или поздно, всех ждет один конец.
С робким желанием отсрочить хоть немного свой конец, нетвердым шагом направляешь свои стопы к спасительным сводам этого загадочного собора.
Едва перешагнув порог, тут же опускаешь пальцы в теплую воду кропильницы, чтобы приложить их ко лбу и совершить крестное знамение. Эта древняя как римский папа традиция, сразу же отделяла случайно забредших туристов, не знающих уже, на что посмотреть, от верных сынов римско-католической церкви. Не судите строго, но Ваш покорный слуга всегда предпочитал туристической неприкаянности слияние с местной, не такой уж далекой от нас культурой.
Но едва коснувшись своего лба, я вдруг понял, что в соборе никого нет, то есть вообще никого. Капли воды, сорвавшиеся с моих пальцев в чашу, отдались едва слышной капелью высоко в темных сводах. Меня посетило странное ощущение, что сюда никто не заходил уже месяцы, а может быть и годы… Переведя дыхание, я осмотрелся. Темные даже в редких лучах фрески никому не известных мастеров из какого-нибудь сеттеченто пристально смотрели на меня едва различимыми ликами святых с некоторым недоумением. Я будто потревожил их покой. «Тише, раз уж пришел!», – будто говорили они. Обычно отгороженные почтительным расстоянием от назойливой публики в церквях Рима и Флоренции, подсвеченные со всех сторон искусственным светом, снабженные табличками, разъясняющими интересующимся суть происходящего – здесь между тобой и ими не было ни одного рукотворного барьера. Можно было подойти и в упор рассматривать мазки, которые были «freschi63» всего каких-то триста–четыреста лет назад, ощупывать их и даже пробовать на вкус. Видимо, пытливые натуры, забредавшие сюда с периодичностью в несколько лет, так и делали, поскольку трещины, сколы и потертости были видны повсюду. Та ветхость и запустение, в которых пребывали эти произведения искусства, привела даже меня, выращенного в России 90–х годов, в недоумение! Может быть сейчас, где-то далеко, на крайнем севере, в Московском Государственном Университете, ребята с соседнего отделения посвящают этим фрескам свои дипломы и диссертации, а здесь… Возникший в голове вопрос «Собирались ли их реставрировать?» тут же уступил место другому, куда более прямолинейному: «Помнил ли кто-нибудь об их существовании вообще?». Где-то храмы взрывали, где аккуратно разбирали, а где-то про них забывают. Что все-таки лучше, поскольку нет–нет, да и появится в одном из поколений чудак, который вспомнит об их существовании.
Но сейчас здесь был один я. То есть почти один. Необъяснимое ощущение присутствия кого-то или чего-то где-то поблизости не покидало меня ни на секунду. Я двинулся вглубь, стараясь как можно тише наступать на огромные плиты под внимательными взглядами святых. Продвигаясь очень медленно, я всматривался в сумрак сводов, где уже сотни лет не бывал солнечный свет, и вдруг совершенно отчетливо почувствовал «ее» прямо над собой.
Она беззвучно проводила здесь день за днем, год за годом, век за веком, тревожно наблюдая за миром в узкие проемы витражей. Она понимала, что стоит ей переступить порог собора, показаться в дверях – свет от нее не оставит и следа. Еще больше ее беспокоили самоуверенные и наглые лучи, эти посланники света, проникнувшие сквозь витражи в ее владения и не собиравшиеся их покидать до самого захода, когда их призовут, чтобы до времени оставить Неаполь. Покинут, чтобы на следующий день с новой силой осаждать вековечные стены собора, за которыми она прячется. Я провел рукой по лбу и почувствовал, что рука стала влажной. Тень не давала обещанной прохлады. Она даже робела подарить хоть немного свежести заходящим внутрь и вступить таким образом в конфликт с бесчинствующими снаружи светом и зноем. Как будто не уверенная в неприступности своих рубежей, она, очевидно, боялась последствий за проявленное милосердие к тем, кто пересек порог ее обители, спасаясь от властелинов неаполитанского дня. Ее бесконечный страх и тревога тяготили мою впечатлительную натуру, и мне захотелось поскорее покинуть ее обиталище. Я двинулся к противоположному выходу, где света было заметно больше.
И на этот раз я увидел его. Он мирно спал, сидя на стуле у приоткрытой двери. Конечно же! Ни один собор, даже самый заброшенный, не может обойтись без него. Даже когда вам кажется, что вы остались наедине с фресками и своей совестью, он незримо присутствует где-то рядом, будь то каморка в алтарном нефе или просто стул при боковом входе. Это был кустодий, хранитель собора или совсем по-простому – сторож. У музея – смотритель, у леса – лесник, а у храма – кустодий. Стул моего кустодия стоял, как я сообразил, на выверенном годами месте: под каким бы углом палящие лучи не проникали в довольно широкую щель, стул и его хозяин оставались в спасительном полумраке. В то же время легкий ветерок, рождающийся где-то на границе света и тени, заботился, чтобы полуденный pisolino хранителя был плодотворным и целебным.
Удивительная профессия, думал я, наблюдая, как он старательно посапывает, скрестив на груди руки. Тебя обязывают сторожить прошлое. И этот огромный собор, под сводами которого ты коротаешь свои рабочие будни, препоручен только тебе. Его стены столько видели, столько слышали, а теперь они молчат. Молчишь и ты. Потому что говорить вам особенно не о чем – вы знаете друг о друге все. Собор давно знает, что большую часть рабочего времени ты спишь, а для тебя не секрет, что он тоже время от времени подремывает. Ты и не замечаешь, как медленно становишься частью его, а затем и частью уходящего прошлого. Тихого и прекрасного.
«Работа мечты», – решил я, осторожно открывая старинную дверь – так, чтобы не потревожить двух спящих друзей и их боязливую подругу, и наконец выходя на свет.
Конец окончательный.