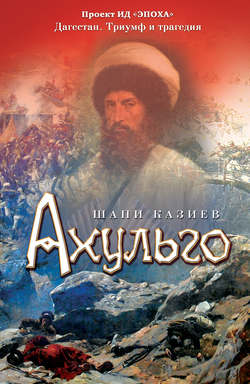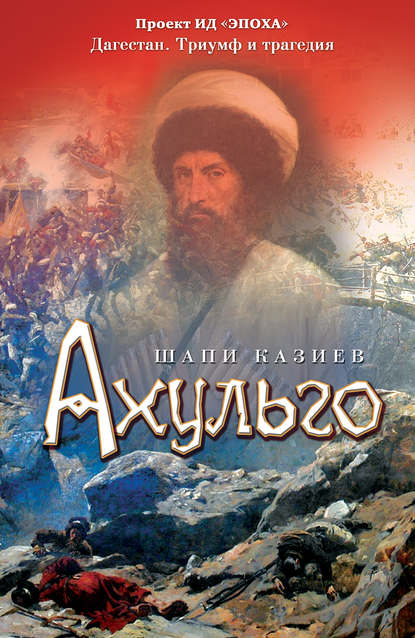Жизнь не умещается в набор фактов или документов, она значительно многообразнее и интереснее. Тем более, когда речь идет о переломных исторических событиях, в которых особенно ярко проявляются сила, величие и красота человеческого духа.
В работе над романом меня ожидало много открытий и откровений, но поразительнее всего было то, с какой убежденностью и мужеством наши предки утверждали современные представления о свободе личности в те далекие времена. Самоотверженная борьба за священную свободу для людей всех наций и вер, борьба, которая велась в окружении по сути рабовладельческих государств, изменила не только судьбы участников событий, но и значительно повлияла на общественное сознание. Ахульго – это не просто историческое событие, это триумф и трагедия на пути исторического развития народов Дагестана.
Основой событийной канвы романа стали многочисленные исторические хроники, документы, мемуары, дневники и письма участников событий, современные научные исследования и рассказы краеведов, с которыми мне довелось встречаться на Ахульго и в близлежащих селах.
Вместе с тем создание полнокровных образов, эволюция судеб героев повествования, разработка фабулы романа и сюжетных перипетий потребовали как художественной реконструкции событий, не освещенных в исторических источниках, так и раскрытия внутренних движущих сил, казалось бы, известных фактов. В повествовании действует и ряд персонажей, являющихся плодом творческого воображения, но порожденных той исторической эпохой. Впрочем, как известно, литературные герои порой оказываются не менее живыми, чем реальные персонажи. Но в этом и есть одна из тайн творчества.
Выражаю искреннюю признательность Гамзату Гамзатову, автору идеи создания романа «Ахульго», незабвенному Гаджи Абашилову, горячо поддержавшему этот проект, Юсупу Дадаеву, который помог мне посетить места событий и снабдил уникальными документами.
Особая благодарность – Издательскому дому «Эпоха», который заботливо опекал автора и блестяще осуществил этот большой проект.
Шапи Казиев

Глава 1

Генералу Граббе приснилась гора. Проступая из мрака, она надвигалась на генерала и была похожа на исполинское каменное чудовище, которое кто-то дерзнул потревожить. Гора была окутана дымом и глухо ревела, угрожая раздавить генерала. Вдруг со страшным грохотом гора раздалась надвое, и неодолимая сила повлекла Граббе в ее жуткое чрево.
От ужаса Павел Христофорович проснулся.
Увидев над собой потолок, под которым носились первые весенние мухи, Граббе облегченно вздохнул и перекрестился.
За окном было раннее утро. В доме еще спали.
Граббе поднялся, стараясь не потревожить супругу, и подошел к окну.
«К чему бы такая гора? – недоумевал генерал, разглядывая пологие макушки пятиглавого Бештау.
– Разве такие бывают?».
Пятигорск просыпался. Где-то мычали коровы, а молочницы-казачки уже неслись с корзинами, полными бутылей, по улицам курортного городка, голося:
– А вот молока!
– А сметана для хана!
Их корзины вмещали в себя и кое-что другое, о чем казачки сообщали особенно звонко:
– А винца для молодца!
Все как обычно. Скоро откроют источники, и потянется к ним курортная публика. Откроются городские ворота, и начнут возвращаться с ночных пикников офицеры, утомленные, как после боевых походов. Распахнут двери разные заведения, и в них осядут посетители, чтобы откушать и обсудить важные известия.
Вот уже третий год, что семейство Граббе жило на Водах, здесь почти ничего не менялось.
Впрочем, вынужденное бездействие генерала скрашивало семейное счастье. И месяца не прошло, как супруга принесла ему пятого ребенка. Мальчика назвали Александром. Граббе чтил царствующую династию и называл своих детей в честь императоров, великих князей и княгинь. Николаю Граббе было шесть лет, Михаилу – четыре, еще младше были дочери Софья и Мария. И вот теперь – Александр. Особенно Павел Христофорович почитал Марию Федоровну, супругу Павла I. Юный Граббе воспитывался в Сухопутном кадетском корпусе, когда он, его братья и сестры остались сиротами, и императрица великодушно о них позаботилась.
Был у Граббе еще один сын, тоже Николай, но младенец не прожил и года, а следом скончалась и его мать – первая жена Граббе. Вера Михайловна Скоропадская, из рода гетмана Запорожского, оставила супругу богатое имение в Харьковской губернии. Он женился на ней нечаянно, ошалев от счастья, когда его выпустили из казематов, в которые он угодил «за прикосновенность к делу декабристов». Когда Граббе проезжал через имение Скоропадских, у него сломался экипаж. Пока чинили, статного полковника пригласили в господский дом, где он был тронут радушием хозяев и сражен красотой младшей дочери Скоропадских. В свой Северский конно-егерский полк он отбыл с молодой женой.
Его вторая женитьба была еще необыкновенней. В 1829 году, в войне с Турцией, Граббе начальствовал авангардом русских войск в Малой Валахии. Победоносная война избавила Валахию от османского владычества, и освободители кутили в Бухаресте. Им было за что выпить. Граббе, раненный в ногу при переправе через Дунай, но не оставивший полк, получил звание генерал-майора, орден Святого Владимира 3-й степени и золотую саблю с надписью «За храбрость». Но главный тост в офицерских компаниях всегда был за смуглую красавицу Катеньку – дочь местного врача, царицу всех балов. Отец ее был человеком строгих правил и, от греха подальше, выдал Катеньку за пожилого богатого молдаванина. Но новобрачная оказалась строптивой, заперлась в спальне, а затем свила веревку из простыней, подожгла комнату и спустилась через окно прямо в руки Граббе. Новоиспеченный генерал-майор был человеком напористым, что и испытал на себе тамошний архиерей, которого Граббе заставил расторгнуть постылый брак Катеньки и обвенчать ее с русским генералом.
Екатерина Евстафьевна боготворила своего супруга и исправно рожала ему детей, несмотря на то, что беспрерывные войны мешали Граббе сполна наслаждаться семейной идиллией. Она достойно несла крест жены боевого генерала, и, когда в 1835 году Граббе был уволен для излечения болезней на Кавказские Минеральные Воды, наступило абсолютное счастье.

Здесь они могли жить на широкую ногу, доходы от имений первой супруги и самого Граббе в Полтавской губернии это позволяли. Да и жалование генерала было немалым, даже когда он не воевал. Но Граббе не любил роскоши, он придерживался спартанского образа жизни, тем более, что имел пример в лице самого государя. Но жене и детям ни в чем не отказывал. Няньки, кормилицы и прочая прислуга носились по дому целыми днями. И только старый денщик Иван понимал, как тягостно барину это богатое безделье, когда вместо полковых гремят детские барабаны, а где-то за соседними горами генералы добывают себе славу и почести.
Когда Граббе вышел в сад, Иван уже ждал его с кувшином теплой воды и полотенцем. Граббе умывался водой из местных целебных источников. Пить ее он отказывался, но на лицо она действовала благотворно. Граббе было почти пятьдесят, но он сохранил молодцеватую выправку под стать его высокому росту и берег свое лицо, которым, как он считал, походил на государя императора и которое, он верил, еще будет узнаваемо среди первых на воинском поприще.
Пока цирюльник манипулировал своей бритвой, Граббе следил за каждым его движением. Следовало быть очень деликатным с длинными бакенбардами, едва не переходящими в усики в точности, как у Николая I.
– Усердствуй, – велел Граббе.
– Не извольте беспокоиться, ваше превосходительство, – заверил цирюльник.
– Знаю я вас, мошенников, – ворчал Граббе.
– Вам бы только кровь пускать.
– Токмо их благородий пользуем, – лебезил цирюльник.
– Даже если покойники, то непременно чтобы офицеры.
– Какие еще покойники? – поморщился Граббе.
– Известное дело, дуэлянты.
– Цирюльник перекрестился.
– На войне не убьют, так здесь под пули лезут.
– Так ты что же, каналья, и покойников этой же бритвой? – гневно вскинул брови Граббе.
– Как можно, ваше превосходительство! – замахал руками перепуганный цирюльник.
– Для дуэлянтов особая статья. Их даже в церкви не отпевают, как самоубийц. Вот и брею, не глядя, шилом таким особым.
– Смотри у меня!
– Насчет бакенбардиков как прикажете – перьями пустить на античный манер или подвить?
– Подвей! Который уже раз тебе толкую.
– Не извольте беспокоиться.
Цирюльник пустил в дело особые щеточки, щипцы и припарки. Он знал свое дело, и Граббе каждый раз находил в своем облике все больше сходства с августейшим оригиналом. Но втайне Граббе наслаждался и своим превосходством. Глаза у него были особенные. Не столь значительные, как у государя, но такие цепкие, что от них не могли укрыться тайные замыслы неприятеля. И когда Граббе был военным агентом в Баварии, глаза его весьма послужили отечеству. Кроме того, они были чарующе синими и с таким особым блеском, что чужие жены падали из пылающих спален в его крепкие объятия. С годами во взгляде Граббе появилась тень недосказанности, затаенной обиды, но это лишь придавало ему веса в обществе.
– Силь вуп ле! – воскликнул цирюльник, завершая свои манипуляции нижайшим поклоном и поднося большое зеркало.
Граббе поглядел на свое отражение с разных позиций, притронулся кончиками пальцев к бакенбардам «а ля Николай» и царственно кивнул, отпуская цирюльника.
– Ступай.
Дом понемногу оживал, наполнялся суетой и детским гомоном. Дети ссорились, не успев проснуться. Постичь причины их недовольств Граббе не пытался, считая это не генеральским делом.
С улицы послышался цокот копыт. Граббе вспомнил свой полк и легко взбежал на бельведер, чтобы полюбоваться на лихих молодцов. Но вместо этого перед ним предстала печальная процессия.
Мимо дома ехали раненые кавалеристы, у некоторых к седлам были приторочены костыли. Следом тянулась вереница телег. Лошади шли медленно, бережно переступая через рытвины и ямы. Везли тяжелораненых.
Граббе отвернулся. Не потому, что вид несчастных мог его слишком опечалить. За свою бурную боевую жизнь он повидал всякое. Его смущало совсем другое. На Кавказе шла война. А он, храбрый генерал, полный сил и боевого опыта, влачил существование отставного ветерана.
Позавтракав, он устроился в кресле-качалке со своим дневником. Только ему он поверял свои мысли, никто другой не в силах был понять и принять его высокие чаяния и душевные муки. Но даже с дневником Граббе был осторожен, помня, как перед арестом по делу восстания 14 декабря 1825 года лихорадочно жег свои записи, письма и прочие бумаги, могущие выдать его либеральные увлечения. Бумаги горели медленно, и он помогал пламени, рубя предательские листы своей саблей.
Теперь он писал иначе, в надежде, что дневник его не останется тайной: «Бывают времена, Государь, в которые немилость царей есть только несчастие. В наше же – она и стыд. В сию эпоху славы и благоденствия Вами покоющейся и во всяком благе возрастающей России быть отверженным, как негодное орудие, в полном обладании всех душевных и телесных сил, с живейшим рвением ко всему полезному, с готовностью на всякую по мановению Вашему опасность и на всякий труд, с непритворною и пламенною в сердце и уме к Вам приверженностью быть отринуту есть великое несчастье, – дерзаю выговорить, Государь, несчастие, мною не заслуженное».
Глава 2
В горах наступила весна.
Серые громады скал украсились первыми цветами, уступы покрылись изумрудными травами и окутались нежно-розовыми лепестками абрикосовые деревья.
Повсюду бежали юркие ручейки, наполняя шумящие в ущельях реки. На склонах паслись овцы с пушистыми ягнятами, а на узких рукотворных террасах чернели лоскуты вспаханных полей.
С перевала спускались всадники. Они двигались по двое и издалека были похожи на четки, скользящие из чудесной невидимой руки. Узлом этих четок был Шамиль.
Он ехал на белом арабском коне, грызшем от нетерпения удила. Шамиль был одет в зеленую черкеску с серебряными газырями и коричневую папаху, обвитую чалмой из светлой кисеи. Красивый кинжал, изящный пистолет в вышитой кобуре и сабля, известная своей величиной и молниеносностью, дополняли его костюм. Не было на нем только ружья, зато легкие горские ружья были у всех его мюридов.
Шамилю было за сорок лет, но стройное тело его было по-прежнему крепко и полно сил. Его благородное умное лицо выражало несокрушимую волю и вместе с тем доброту. Борода его уже начала седеть и была слегка окрашена хной. Голубые, со стальным оттенком глаза Шамиля были слегка прикрыты, как будто он читал молитву.
Позади имама ехали его ближайшие помощники. Юнус из Чиркея гордо держал над собой знамя имама – простое белое полотнище. Знамя цвета чистоты, цвета ихрама – одеяния, в котором совершают хадж, было украшено арабской надписью «Во имя Аллаха милостивого, милосердного». Рядом ехал телохранитель Шамиля – молчаливый гигант Султанбек из Дылыма.
За ними следовало около сотни отборных джигитов – гвардия имама. Они составляли костяк его регулярных войск, еще немногочисленных, но правильно организованных и отлично вооруженных.

Шамиль возвращался в свою резиденцию из долгого похода. Это была не военная операция, но была важнее многих битв. Имам был в колеблющихся аулах, убеждая горцев объединиться в единую несокрушимую силу, с которой придется считаться и отступникам, и продажным ханам.
Это была непростая задача. Вольные общества, объединявшие десятки аулов, не спешили признавать чью-либо власть. Каждый аул жил по своим законам, а независимый характер горцы впитывали с молоком матери. Но с тех пор, как в горах появились царские солдаты со своими пушками, независимость даже вольных обществ была сильно поколеблена, а ханы стремились расширить свою власть и сломить всякое сопротивление.
– Засучите рукава для установления закона Милосердного и устранения наущения дьявола, – наставлял Шамиль.
– Знайте, что мы никому не причиним вреда за грехи и упущения, бывшие в прошлом. Аллах помилует вас, если вы отныне примете шариат, а если не примете, то у меня будет ко всякому, кто противится Аллаху и его посланнику, враждебное отношение, которое не изменится, пока я не одержу верх или буду убит.
В этом походе Шамиль совершил и дело особенной важности. Имам выкупил у одного общества брошенный аул и отдал его вместе с землями мухаджирам. Это были люди, не желавшие жить под властью царских крепостей, ушедшие к Шамилю от ханов. Были среди них и беглые солдаты, измученные муштрой, и казаки, не желавшие воевать с кунаками-горцами, и поляки, сосланные на Кавказ после подавления Польских восстаний.
Поселяя перебежчиков на новом месте, Шамиль говорил местным джамаатам:
– Знайте, что те, которые к нам перешли от русских, являются верными нам, поверьте и вы им. Эти люди – наши чистосердечные друзья. Создайте им все возможности к жизни.
Перебежчики появились в горах уже давно. Многие стали настоящими горцами, женились, заводили семьи. А в военных делах были незаменимыми разведчиками, инженерами, умели составлять карты, чинили трофейные ружья и понимали в артиллерии. И бились они до последнего, потому что прощения от прежнего начальства не ждали.
Шамиль придержал коня, чтобы полюбоваться открывшейся перед ним величественной панорамой. Это было то самое место, где две большие горные реки Андийское и Аварское Койсу с грохотом сливались в одну. Здесь рождался полноводный Сулак, который нес свои воды через гигантские каньоны, чтобы затем спокойно влиться в Каспийское море. Это было особое место, которое всегда напоминало Шамилю о том, как закалялась его дружба с Магомедом – будущим первым имамом. Место слияния двух рек считалось очень опасным, и переплыть этот ужасный водоворот мало кто осмеливался. Но Шамиль, который во всем превосходил своих сверстников, решился сделать то, что удалось Магомеду, хотя и был младше него на целых пять лет. Бурные воды уже готовы были поглотить Шамиля, когда на помощь пришел его друг. Магомед спас его от верной гибели, и с тех пор они почти не расставались, как две реки, слившиеся в одну.

Магомед был не по годам учен, а Шамиль – не по годам жаден до знаний. Они часто уединялись и, заткнув уши воском, предавались исступленным молитвам, открывая в священной книге потаенные смыслы и сокровенные знания.
Вскоре отцу пришлось забрать Шамиля из гимринского медресе. Учитель жаловался, что Шамиль пришел к нему не учиться, а учить.
Магомед говорил другу, что есть в горах другие – большие учителя, знания которых дороже всех сокровищ. И вскоре друзья отправились странствовать по Дагестану в поисках настоящих учителей и сокровенных знаний. Жизнь учеников-муталимов была нелегкой. Они жили в кельях при мечетях, а досыта ели только в праздники, когда принято особенно щедро наделять нуждающихся. Средства к существованию друзья добывали переписыванием Корана и других почитаемых книг. Но никакие лишения не останавливали будущих имамов, которые искали знания, как жаждущий ищет в пустыне оазис. Они обошли почти весь Дагестан, от учителя к учителю. Уже знаменитые ученые – потомок пророка Джамалуддин Казикумухский, Саид Араканский, Абдурахман-хаджи Согратлинский, Хаджи-Магомед Ирганайский называли их своими лучшими учениками, но они теперь жаждали иного.
Ученых в Дагестане было много, но веры, свободы и справедливости становилось все меньше Они видели разобщенность народов, продаваемых в рабство людей, разрушенные аулы, царские крепости, построенные в горах. В ханских владениях процветало неприкрытое варварство: неугодных сбрасывали со скал, обливали кипящим маслом, им выкалывали глаза и отрезали уши, а девушек выменивали на лошадей. Царские генералы тоже не особенно церемонились, когда речь шла о наказании непокорных. Но явно было и то, что в горах зрела ненависть к ханам и прочей знати, деспотизм которой был защищен царскими штыками и обретал уже невыносимые размеры. И в конце концов кроткие алимы преобразились в яростных проповедников свободы и справедливости, без которых гибла и сама вера.
Магомед убедил Шамиля, что первым делом нужно искоренить адаты – древние обычаи, которые противоречили шариату – исламскому праву и толкали Дагестан в хаос беззакония. Затем Магомед написал «Блистательное доказательство отступничества старшин Дагестана», в котором объявил адаты собраниями трудов поклонников сатаны. А отступникам предрекал: «Если вы не предпочтете покорность своему господу, то да будете рабами мучителей».
Магомед обрел множество последователей, призывая людей принять шариат, по которому все должны быть свободны, равны и независимы, который не позволял какого-либо угнетения одного человека другим и ставил вне закона все, что вредило людям и обществу, вроде рабства или ростовщичества. Однако только проповеди, даже самые пламенные, неспособны были вернуть горцев на путь истинный. И молодые реформаторы не замедлили присовокупить к ним самые решительные действия. Восставшие по их призыву горцы объединялись, изгоняли нечестивцев, а зависимые выходили из повиновения.
Шамиль и сам не ожидал такого успеха. Шариат распространялся как очистительный ливень, сметая недовольных мулл и лицемерных старшин. Шамиль вспоминал, как терявшая влияние и рабов знать пробовала урезонить Магомеда. Как Аслан-хан Казикумухский пригласил его к себе и стал упрекать, что он подбивает народ к непослушанию:
– Кто ты такой, чем ты гордишься, не тем ли, что умеешь изъясняться на арабском языке?
– Я-то горжусь, что я ученый, а вот вы чем гордитесь? – отвечал гость.
– Сегодня вы на троне, а завтра можете оказаться в аду.
Когда волнения охватывали уже подвластные царским властям области, остановить Магомеда попытался и самый могущественный человек в Дагестане – шамхал Тарковский. Он пригласил проповедника к себе, в Тарки, будто бы для введения шариата. Но Магомед заявил
ему:
– Не знания должны идти за человеком, а человек за знаниями.
Едва придя в себя от такой дерзости, Тарковский бросился в Темир-Хан-Шуру и потребовал от царских властей покончить с мятежниками.
Больнее всего было для Шамиля то, что против них выступил и один из их учителей, почитаемый в горах ученый Саид Араканский. Он написал своим ученикам письма, в которых требовал оставить опасные проповеди и вернуться к ученым занятиям. В ответ Магомед и Шамиль призвали его поддержать их намерение ввести шариат и сплотить горцев для борьбы с греховной знатью. Араканский не соглашался, полагая, что дело это безнадежное и непосильное. Но было уже слишком поздно. Магомед и Шамиль со своими приверженцами явились в Араканы и разогнали отступников. Саид сказал, что его кусает щенок, которого он сам выкормил, и бежал в Дженгутай к Ахмед-хану Мехтулинскому, оставив в Араканах свою библиотеку, считавшуюся самой большой в Дагестане.
Теперь отступать было некуда, и Магомед с Шамилем решили поднять на борьбу весь Дагестан. Движение их считалось мирным, но все чаще натыкалось на ханские сабли и царские штыки. И когда стало ясно, что шариат нуждается в острых кинжалах, Магомед и Шамиль обратились к духовным руководителям горцев за разрешением на священную войну.
Столпом веры в Дагестане почитался шейх Накшибандийского тариката Магомед Ярагский, который был очередным звеном Золотой цепи шейхов, восходящей к самому пророку. Он был кроток с праведниками и суров с теми, кто отступал от веры ради бренных земных благ. Главным условием веры шейх объявил свободу, но поначалу проповедовал мирный, духовный газават против дьявольской порчи в людских душах. Его последователи, вооружившись деревянными мечами, ходили по селам, призывая людей покаяться и вернуться к чистоте веры.
За деревянными мечами ханы распознали угрозу появления настоящих, которые были бы направлены против них. Забеспокоились и царские власти, велев ханам пресечь опасные брожения в своих владениях. Местному правителю это не удалось. Тогда к шейху было решено послать почтенного Джамалуддина Казикумухского, чтобы ученый уговорил ученого не гневить царские власти. Джамалуддин был секретарем хана, который осыпал его почестями, щедрыми дарами и даже пожаловал ему три аула, когда Джамалуддин предсказал правителю рождение сына.
Но путь Джамалуддина сопровождало столько необъяснимых явлений, что, явившись к Ярагскому, он желал лишь одного – принятия от него тариката – суфийского пути к познанию истины. Шейх посвятил Джамалуддина, и он стал его мюршидом – духовным наместником, которому позволялось самому направлять желающих вступить на истинный путь. Вернувшись в Кази-Кумух, Джамалуддин обратился к Аллаху с полным раскаяньем, раздал людям все свои богатства и объявил хану, что отказывается от должности секретаря, ибо не желает быть соучастником грехов и злодеяний. Хан попытался наказать Джамалуддина, но натолкнулся на невидимую силу, которая едва не погубила его самого. Своим ученикам, число которых росло с каждым днем, Джамалуддин начал проповедовать шариат – первую ступень тариката.
Предпочитая миролюбивое распространение учения, он позвал к себе Магомеда и Шамиля, надеясь умерить их пыл и предостеречь от войны, в которую ханы непременно втянули бы царские войска, не тревожившие еще горный Дагестан. А борьбу с заведомо более сильным противником Джамалуддин считал губительной для народа. Шамиль уважал мнение мудрого наставника, но Магомед считал тарикатистов излишне мирными и ехать к Джамалуддину согласился лишь для того, чтобы убедиться, действительно ли он обладает необычайными дарованиями, о которых шла молва по всему Дагестану.
Входя в дом Джамалуддина, Магомед послал вперед с Шамилем одного из своих друзей, а сам сел с краю.
– Добро пожаловать, Магомед! – вдруг обратился к нему Джамалуддин, а затем взял за руку и посадил рядом с собой.
– Вот место, которого ты достоин.
Эта встреча произвела на гостей столь глубокое впечатление, что даже Магомед почувствовал непреодолимое желание принять у Джамалуддина посвящение в тарикат. Воинственные вожди шариатистов превратились в смиренных послушников, для которых молитвы стали делом более важным, чем война с отступниками.
С тем они и вернулись. Магомеда будто подменили. Ему открылся новый, захватывающий душу мир, и он надолго уединялся для изучения полученных от Джамалуддина книг. А вместо кинжалов вновь взялся за проповеди, что очень удивляло его последователей. Люди стали расходиться по домам, а успехи шариатистов обращались в пыль. Но Магомед недолго оставался в плену очарования Джамалуддином. Он уже колебался между тягой к постижению пленительных высот тариката и стремлением к решительному искоренению разобщающих горцев адатов, чтобы заменить их едиными для всех законами шариата. Но тут пришло письмо от Джамалуддина, в котором мюршид писал:
«Совершенный ученый мюрид Магомед, если ты вступил на путь накшибандийских наставников, тебе нужно неотступно уйти в уединение и многократно славословить Аллаха, и наставлять тех, кто тебя навестит, тому, что ты знаешь. Тебе нет нужды толкать людей на смуту и гибель. Известно, что смуты будут продолжаться без конца, если ты начнешь дело, которое ты хочешь».
Но Магомеда это не убедило, он уже изнемогал от бездействия и в конце концов объявил Шамилю:
– Что бы там ни говорили Ярагский с Джамалуддином о тарикате, на какой бы манер мы с тобой ни молились и каких бы чудес ни делали, а с одним тарикатом мы не спасемся: без газавата не быть нам в царствии небесном. Давай, Шамиль, газават делать.
Они взялись за оружие и развернули борьбу с новой силой. Все больше обществ Дагестана признавало шариат, который становился основой их единения и гарантией независимости.
В горах установилось двоевластие: народ поддерживал Магомеда, но его главный противник – Хунзахский ханский дом, один из самых древних и почитаемых в Дагестане, – был еще силен. Тогда Магомед с восьмитысячным отрядом сподвижников обложил его столицу Хунзах и предложил ханше принять шариат:
– Аллаху было угодно очистить и возвеличить веру! Мы лишь смиренные исполнители его воли!
Гордая ханша ответил огнем. Отряд повстанцев ворвался в Хунзах, но потерпел поражение. Магомед и Шамиль остались живы лишь благодаря заступничеству дервиша Магомеда из Инхо.
Уцелевшие повстанцы разошлись по домам, а Магомед и Шамиль с ближайшими сподвижниками вернулись в Гимры. Но скоро туда явился отряд царских войск с пушками, и под угрозой разрушения аула гимринцам было велено изгнать Магомеда с его сподвижниками. Они ушли сами и построили невдалеке от аула башню. Шамиль хорошо помнил, как Магомед предсказал тогда то, что потом сбылось:
– Они еще придут на меня. И я погибну на этом месте.
Опечаленный Джамалуддин велел Магомеду и Шамилю оставить такой образ действий, если они называются его мюридами в тарикате. Однако они не собирались опускать руки. Под Хунзахом они потерпели поражение, но в народном мнении они одержали победу, дерзнув пошатнуть главную опору отступников в Нагорном Дагестане. Однако в том, как действовать дальше, мнения друзей расходились. Магомед был убежден, что, пока остаются ханы, свободы в горах не будет, что сперва нужно вырвать с корнем ханское племя, а иначе, что бы они ни взрастили, все будет чахнуть.
Шамиль понимал, что он прав, но без поддержки духовных руководителей, без их разрешения, которое много значило для народа, все снова могло кончиться, как в Хунзахе.

Горячие споры и мучительные сомнения привели Магомеда к шейху Ярагскому.
– Аллах велит воевать против неверных, а Джамалуддин запрещает нам это, – сказал Магомед.
– Что же нам делать?
Убедившись в праведности намерений Магомеда, в чистоте его страстной веры, шейх счел, что отшельников-мюридов можно найти много, а настоящие военачальники и народные предводители слишком редки. И разрешил его так сомнения:
– Предпочтительнее повиноваться велению Аллаха, чем распоряжениям людей. Но ты выбери то, что считаешь нужным.
Магомед выбрал борьбу. Благословив его, Ярагский призывал в своих молитвах:
– О Аллах, ты посылал пророку сподвижников, пошли же мне имамов, чтобы наставить народ на верный путь и поддерживать его с помощью шейхов Золотой цепи.
Магомед был покорен не только мудростью святого угодника, но и красотой его дочери Хафисат, на которой вскоре и женился. В Гимры он вернулся другим человеком и с тех пор чувствовал незримую помощь, придававшую ему новые силы.
Молва о том, что Магомед получил разрешение шейха, всколыхнула весь Дагестан. Число последователей Магомеда стало неудержимо расти. В том же 1830 году Ярагский созвал в ауле Унцукуль съезд представителей народов Дагестана, где произнес слова, которым суждено было изменить историю Кавказа:
– Находясь под властью неверных или чьей бы то ни было, все ваши намазы, уроки, все странствования в Мекку, ваш брак и все ваши дети – незаконны. Кто мусульманин, тот должен быть свободным человеком, и между всеми должно быть равенство.
Затем он объявил о необходимости избрать имама – вождя народов Дагестана. Имамом, при общем согласии, избрали Магомеда. А к его имени теперь добавлялось «Гази» – почетный титул борца за веру.
Принимая имамское звание, Гази-Магомед сказал:
– Душа горца соткана из веры и свободы. Такими уж создал нас Всевышний. Но нет веры под властью неверных. Вставайте же на священную войну, братья! Газават изменникам! Газават отступникам! Газават всем, кто посягает на нашу свободу!
Шамиль стал ближайшим сподвижником имама, и они развернули борьбу по всему Дагестану. Как и предсказывал Джамалуддин, после первых же схваток с ханскими отрядами на помощь им пришли царские войска. Тогда Гази-Магомед решил сначала отсечь их от гор, а затем уже покончить с ханами. Мюриды Гази-Магомеда взяли Параул – резиденцию шамхала Тарковского. Оттуда они угнали большое стадо овец. Шамиль улыбался, когда рассказывал, как его потом делили и как имам показал разницу между адатами и шариатом.
– Какого раздела вы желаете? – спросил Гази-Магомед своих воинов.
– Как принято или как надо?
– Как принято, – ответили воины, полагая, что это будет более справедливым.
Тогда имам дал одному две овцы, другому – три, следующему – четыре. Увидев этот странный дележ, мюриды возроптали, но имам сказал им:
– Разве не так разделено все в горах? Одним – все, другим – ничего.
Мюриды согласились, что так оно и есть, но затем сказали:
– Такого раздела мы не хотим.
– Тогда поделим, как надо, по шариату, – сказал имам, и все получили поровну.
Вскоре затем имам осадил крепость Бурную, располагавшуюся над Тарками – столицей шамхальства у берега Каспия. Но здесь они стали жертвой военной хитрости. Видя, что крепость вот-вот будет взята, гарнизон покинул ее, заложив там сильные пороховые заряды. И как только мюриды ворвались в Бурную, раздался ужасный взрыв. Большие потери и прибытие царских подкреплений вынудили Гази-Магомеда отступить, но не заставили отказаться от своих целей.