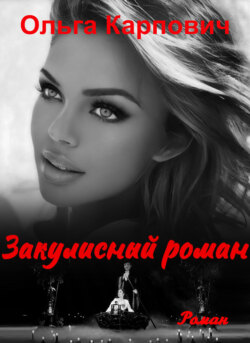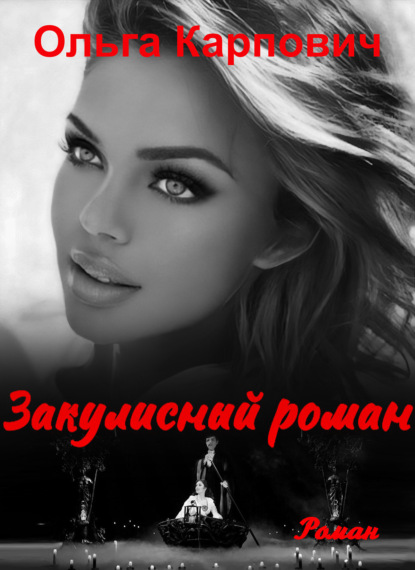В тексте упоминаются социальные сети Facebook и/или Instagram (организации, запрещённые на территории РФ).
Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией на территории РФ.
* * *
Возвращение Дориана
повесть
1. Вацлав
Я вижу источенные жучком деревянные балки террасы. Старый дачный дом, в который мать пригласила нас провести выходные. Между балками тянется фаянсовое синее небо, высоко вверх уходит громада кучевых облаков. Вероятно, близится гроза. Июльский воздух дрожит и плавится, готовый взорваться в любую секунду фонтанами брызг теплой воды из озера. Зудит пчела, ныряя в яркую чашку мальвы.
Мать лежит в гамаке. Вся ее поза апатичная, ленивая, беспечная: ноги скрещены кое-как, книжка, раскрытая на середине, брошена вниз страницами на живот. Мать молода, красива, даже очень красива. Бледно-золотые волосы свешиваются вниз, как моток китайского шелка. Тонкий рисунок лица на хрупком фарфоре кожи. Глаза цвета аметиста. Она всегда говорила, что по происхождению она польская аристократка. Пани Мирослава… И нам с братом дала польские имена.
Стас выходит на террасу. Я смотрюсь в него, как в свое отражение. Он мой портрет, возможно, даже более прелестный, чем оригинал… Я знаю, что и у меня те же волосы цвета переспелой пшеницы. Это мои глаза – в зеленых и бронзовых брызгах, словно речные камешки, – смотрят с его загорелого лица. Это на мою мягко-коричневую спину, подернутую золотистым пушком, садится стрекоза – я даже чувствую трепет ее крыльев на позвоночнике.
– Мам, мы пошли купаться, – говорит Стас.
Мать приподнимает голову – все с той же ленивой грацией. Произносит с едва заметным польским акцентом:
– Ммм… Ты ведь не станешь прыгать с обрыва, Стас? Обещай мне! Вацеку будет обидно…
– Пусть прыгает, – возражаю я. – Мне все равно.
Брат отнюдь не виноват, что я не умею плавать. Нас отдали в бассейн одновременно, но я заболел воспалением легких, и тренировки пришлось прекратить. Это единственное, чем мы отличаемся – он умеет плавать, а я нет.
Мы спускаемся к реке. Я несу на плече надувной матрас. От запаха нагретой резины щекочет в носу. От реки поднимается гомон, крики, смех. Упруго взлетает над крутым берегом полосатый детский мяч. Поодаль, у противоположного берега, заросшего низким кустарником, болтается в лодке пара. Парень, перегнувшись через борт, пытается выудить для девушки кувшинку. Где-то вдалеке надсадно гремят первые раскаты грома.
– Я пойду прыгну, – произносит Стас с материнской ленцой в голосе. – Не заплывай далеко на матрасе, здесь течение. Неохота потом тебя вылавливать.
Он уходит вверх по берегу, на обрыв. Я чувствую босыми подошвами жар разогретого полуденного песка, потом – воду, прохладную, пахнущую тихой заводью и тиной. Бросив матрас на бликующую речную поверхность, я опускаюсь на него животом. Солнце горячо греет спину, руки, погруженные в воду, кажутся зеленоватыми. Я гребу, перебираю пальцами сумрачный шелк воды. Оборачиваюсь назад, щурясь на солнце, вижу Стаса на кромке обрыва. Он взмахивает руками и отрывается от земли – легкий, прямой, солнечный луч в теле одиннадцатилетнего мальчишки. Складывается пополам в воздухе и медленно, очень медленно, как в замедленной съемке, плавно распрямляясь, летит вниз. Его опрокинутое лицо, намокшие кончики кудрей. Вода смыкается над ним – густая, темная, маслянистая. Я жду – секунду, две, три. Я знаю: речная гладь взорвется сейчас тысячей брызг, и вихрастая башка моего брата вынырнет на поверхность.
Мяч взлетает и шлепается на воду. Парень в лодке подцепляет наконец разлапистый мокрый цветок. Вода ровная, тугая, как плотная шелковая ткань. Потом на ней проступают темно-красные круги. Затем и они исчезают. Гром приближается и рокочет совсем рядом над верхушками корабельных сосен.
Стаса нет. Он так и не появился на поверхности.
Я хочу закричать. Мне нужно туда – нырнуть, найти его под водой, вытащить. Но я не умею плавать. Холодно. Мне очень холодно, пальцы немеют, глохнет голос.
Я знаю: это я сейчас там, на дне. Я чувствую вкус речной воды – затхлый и травянистый. Моих пальцев касаются рыбьи губы.
Начинает бушевать июльская гроза. Струи дождя выбивают бешеный ритм по поверхности реки. Отдыхающие с визгом разбегаются.
Стаса вытаскивают потом – бездвижного, изломанного, с торчащим из груди металлическим прутом. Но даже такого – утопленника с посиневшим лицом – невообразимо прекрасного, юного. Кто-то кричит сквозь плотную завесу дождя:
– Объявление же висит, вашу мать! Нельзя тут нырять. Дачники херовы.
Надсадно визжит девица в лодке. Перед моими глазами туда-сюда качается на воде полосатый мяч. Ветвистая молния перечеркивает небо, и оно с грохотом раскалывается над моей головой.
Я не могу пошевелиться. Это меня, меня проткнул железный прут. Я чувствую его всей грудной клеткой, ощущаю вкус крови и тины во рту, холодную мокрую тяжесть во всем теле. Это я должен был утонуть, я не умел плавать, я…
Зазвонил мобильный, валялся, наверное, всю ночь где-то под кроватью. Я открыл глаза и некоторое время, не поднимаясь, слушал его переливчатые трели. Я знал, что звонит Джон, мой агент, но спускаться с кровати в поисках сотового не хотелось. Потом перезвонит, это его работа. А может быть, даже, и это вероятнее всего, приедет собственной персоной, обеспокоенный тем, что я так долго не откликаюсь на его настойчивые призывы.
Телефон наконец заткнулся. Я сел на постели, провел ладонями по лицу, стирая с обратной стороны век морок приснившегося золотого летнего дня. Подушечками пальцев ощутил влагу на щеках.
– Чего ты хочешь от меня? – глухо проговорил я. – Зачем мучаешь этим? Я не мог, не мог помочь тебе, ты же знаешь…
Голос мой прозвучал глухо и надтреснуто в темноте спальни. Поначалу я не мог понять, сколько времени, утро сейчас или вечер. Встал с кровати, прошел босыми ногами по мягкому ковру, отодвинул край шелковой шторы. За окном висел мглистый лондонский день. Поморгав на свет, я вспомнил, что вернулся после утренней репетиции и прилег отдохнуть. Спектакля вечером нет, значит, скоро притащатся мои личные косметолог и парикмахер. Эти два убогих пидора, мнящие себя Дольче и Габбана от цирюльных дел. Что ж, они и правда знают свою профессию, придется потерпеть их клекот в течение пары часов, никуда от них не денешься. Игра навязывает свои правила. Театральные критики языки сломали, воспевая одухотворенную пластику и легкость моего скульптурного мужественно-мускулистого тела, нужно, чтобы им и дальше было чем восхищаться. Как и юным поклонницам, считающим, что я напоминаю молодого Райфа Файнса.
Запахнув шелковый халат, выхожу из спальни и спускаюсь по лестнице. Перила ее вырезаны из темного дерева, ступени устилает мягкий ковер. На стене в гостиной – подлинник Ван Гога. На каминной полке японские нэцке времен династии Минь. Мой дом мог бы составить неплохую конкуренцию музею Д’Орсе. Только в отличие от знаменитого музея все гениальные творения, обитающие в моих двадцати двух комнатах, – подлинники. Красивым вещам нужны свет и жизнь, а не мрак и тлен.
У меня есть серебряная ложка для абсента конца девятнадцатого века. Есть китайские веера и античные вазы. Есть картины знаменитых классиков и добившихся успеха современников. Один из них написал даже мой собственный портрет в роли Гамлета, который висит, взирая на гостей, на стене в моем кабинете. Я не коллекционер, мне чужд инстинкт собственника, жажда обладания. Это слишком скучно и утомительно. Я просто люблю красивые вещи. Люблю красивые дома с аккуратно выстриженными газонами. Красивых равнодушных людей, не лезущих в твою жизнь. Красивую прислугу и великолепные вечеринки, которые могу себе позволить устраивать как минимум раз в неделю. Я люблю комфорт и удобство: личный спортзал, оборудованный в цокольном этаже дома, мощные спортивные машины, томящиеся в подвальном гараже. Пожалуй, единственная роскошь, которая оставляет меня равнодушным, – это бассейн на заднем дворе. Я ни разу не искупался в нем: я не люблю открытую воду и боюсь ее.
Зато я просто обожаю все то, что отняли у меня в детстве после смерти Стаса. Это было самым гнетущим в детдоме – отсутствие красоты, абсолютное убожество всего окружающего мира. Я был необычным подростком, не таким, как другие, мог часами вертеть в руках чашку тончайшего старинного фарфора или припадать лицом к иссушенному пергаменту страниц древней книги. И вдруг оказался лишен всего этого – в один прекрасный день, когда соседи, утомленные трехнедельным запоем матери, вызвали наконец милицию. Хрупкая, утонченная, беспечная женщина, она сломалась от той трагедии раз и навсегда. Поддержать ее было некому. С нашим отцом она много лет находилась в разводе, и мы не знали его. Бесчисленные ее поклонники предпочли ретироваться, как только золотая, аметистовая, фарфоровая пани Мирослава, легкомысленная прожигательница жизни и вечно юная любовница, перестала пленять их чарующей беззаботностью своего смеха и безмятежным жизнелюбием. В целом их не за что винить. Роль спасителя оступившихся достаточно уныла и неблагодарна, мало кому она придется по вкусу. Да и, в конце концов, человек имеет право на саморазрушение, вполне возможно, это не худший вариант исхода.
В детдоме самым страшным для меня было и вот эта окружающая посредственность, уродство, усредненность. Желтые облупленные стены, омерзительные одинаковые кровати, тупые прыщавые рожи моих соседей по комнате. Я не мог испытывать к ним даже ненависти – они были слишком похожи все друг на друга, слишком ничтожны, чтобы вызывать у меня какие бы то ни было глубокие, сильные эмоции.
Вечно немытые, грубо размалеванные копеечной помадой девки, подсовывавшие мне записки с пошлыми любовными признаниями, также не вызывали во мне никаких чувств, кроме брезгливости и отвращения.
Потерявший самого близкого человека, свое отражение, свое второе «я» (а возможно, и первое?), я был насильно вторгнут в этот серый, однообразный, уравнивающий всех мир. С того дня я навсегда понял, что ад, если он существует, – это не ужас и боль, ведь их можно постараться перенести, это, по сути, очень сильные раздражители нервных окончаний – другая грань восторга и наслаждения. Нет, ад – это одинаковость, безликость, усредненность, биомасса.
Не обладавший выдающейся физической силой и бойцовскими навыками, я вынужден был выживать в этой полупреступной среде, используя свой врожденный талант «чувствовать людей». В свое время, когда еще жив был Стас, нашей излюбленной игрой было наблюдать за прохожими – на улице или в метро – и пытаться угадать их характер, прошлое и будущее. Мы учились подмечать и анализировать малейшие детали поведения, какие-то на первый взгляд незначительные штрихи, особенности мимики. Начав заниматься в детдомовском драмкружке, я усовершенствовал свои познания в человеческой психологии, теперь я мог на глаз определить слабое место, зону уязвимости любого человека. Именно это играло мне на руку в общении с детдомовскими сверстниками – я научился манипулировать ими, заставлять плясать под мою дудку. Так мне удалось не погибнуть в той клоаке, которая тогда представляла собой мою жизнь.
В последний раз я видел мать за две недели до моего пятнадцатилетия – и за три дня до того, как припадок белой горячки швырнул ее на рельсы под надвигавшийся поезд метро. Она приехала повидаться со мной, все плакала и цеплялась за мои пальцы. Я был потрясен тем, насколько она изменилась. Грациозные тонкие руки превратились в дрожащие узловатые клешни, под подбородком провис дряблый лягушачий мешок кожи, глаза заплыли, испещренные красными прожилками. Только бледно-золотые шелковые волосы, пожалуй, еще оставались красивыми. Я был поражен тем, как хрупка и непрочна человеческая красота. Как скоро очарование юности покидает тело, превращая его в безобразную развалину. Надо признать, мать постаралась ускорить этот процесс всеми доступными ей способами, и все же я понимал, что, так или иначе, беспощадный унизительный распад неизбежен.
Во мне навеки поселился отчаянный страх, что и я когда-нибудь стану таким же. Я почти обезумел, я завидовал античным статуям, которые мог видеть только на картинке в учебнике, древним китайским вазам, миниатюрам из слоновой кости. Они могли сохранять свое совершенство долго, оставаться прекрасными вне времени, я же был обречен на старение и уродство. Дошло до того, что я завидовал погибшему брату: он ухитрился навсегда остаться стройным, зеленоглазым, златовласым ребенком, я же мучительно взрослел, неотвратимо приближались мои тридцать, затем тридцать пять… Я изнурял себя спортивными тренировками, доводя свое тело до совершенства, держал личного косметолога, втиравшего в мое лицо какие-то баснословно дорогие эликсиры вечной молодости. На всем свете немного нашлось бы людей, которые могли бы по моему внешнему виду точно определить мой возраст. И все же я старел, старел безвозвратно…
Этот ужас и отвращение перед старостью сохранились во мне на всю жизнь. Омерзительное гниение плоти, отвратительные косность и равнодушие, которые скудоумные морализаторы называют житейской мудростью. За всю жизнь я встретил только одного человека, которого старость не сделала уродливым шутом. Это был мой театральный Мастер Евгений Васильевич Багринцев.
Багринцев уделял большое внимание сохранению молодости своего тела, его распорядок дня включал целую серию физических и косметических процедур. Для некоторых людей из его окружения это являлось постоянным предметом для насмешек, я же находил, что Мастер совершенно прав. По крайней мере, на его лице и руках не было той тошнотворной старческой «гречки», которой щеголяли другие наши преподаватели.
Наперекор глупому стереотипу Багринцев, тщательно заботившийся о собственной внешности, вовсе не был женоподобным слабаком и нытиком. Наоборот, в институте Евгения Васильевича считали диктатором. Его тяжелое, суровое лицо, квадратный, выдававшийся вперед подбородок, глубокая угрюмая складка между густыми седыми бровями, твердо сжатые губы внушали моим однокурсникам трепет и почтение. Наверное, только мне дано было знать, что за этой холодной нордической внешностью скрывалась натура тонкая, глубоко понимающая красоту, способная на острое душевное страдание. Он был беззаветно предан сценическому искусству, и теперь, пройдя долгий путь на актерском поприще, я с уверенностью могу сказать, что лучшего педагога у меня не было никогда.
Мой путь в театральный институт был на удивление прост. Вероятно, кому-то это может показаться невозможным, но поступил я сразу – на первом же прослушивании ко мне подошла декан актерского факультета и передала, что Мастер ждет меня сразу на третий тур и чтобы я и не вздумал подавать документы куда-то еще.
Помню, я читал лермонтовского «Демона», Багринцев дослушал почти до середины поэмы, потом хмыкнул и попросил подождать за дверью. Почему-то я был абсолютно уверен, что уже зачислен в студенты. Меня никогда не мучили сомнения в собственной одаренности. Наверное, тот кружок в детдоме, театрально-танцевальный, в котором я проторчал четыре года, придал мне уверенности, или, может быть, слепое поклонение местной публики при моих выходах на доморощенную детдомовскую сцену сыграло свою роль. К тому же лет с тринадцати я привык, что моей внешностью восхищаются, и ошеломленные взгляды были мне не в новинку. Я знал, что красив, очень красив. Это вселяло в меня веру в лучшее будущее еще в период разучивания омерзительных стишков в убогом театральном кружке. Я знал, что это не моя жизнь. Я был уверен.
Поэтому, когда, даже не окончив школы, я отправился поступать на курс к именитому Мастеру, я предчувствовал, что выйду победителем. В итоге по личной просьбе Багринцева в моих документах подправили год рождения, и, простившись с детдомом, я стал студентом знаменитейшего театрального института в России, цитадели самого потрясающего из всех известных мне искусств.
Теперь я был целиком предоставлен самому себе и искусству. Моя мечта сбылась легко и непринужденно. Я находился на своем месте и знал, что не развенчаю надежд, которые возлагал на меня мой Мастер. Вскоре я в этом убедился.
Однажды после индивидуальных занятий с учителем, после самых значительных слов о профессии, какие я только желал услышать, после того, как меня по-настоящему заставили влезть в чужое естество, я долго не мог прийти в себя. Мне все еще казалось, что я – Печорин и меня одолевают те же сомнения, те же страсти, что и моего героя. Я и в самом деле поверил, что я – это вовсе не я, и на дворе XIX век, и одет я в военную, ловко сидящую на мне форму.
Это была моя первая серьезная работа – показ самостоятельных отрывков. Я выложился полностью, отрывок окончился, и я вышел в коридор, закурил. Со лба градом катился пот…
Я не сразу услышал шум, доносившийся из зала. Впоследствии выяснилось, что впервые за долгие годы существования актерской кафедры исполнителя отрывка, первокурсника, вызывали на бис, тем самым почти разрушив моральный настрой моих однокурсников, чьи показы отрывков должны были следовать за мной. Багринцев не комментировал мою работу, он только коротко кивнул мне и сказал своим поставленным низким голосом:
– Блестяще!
Затем последовал разбор отрывков. Было сказано много слов относительно моего Печорина, я почти не слушал, переживая внутри новую эмоцию, натягивая тетиву до предела. В том, что я талантлив, у меня и раньше не было сомнений, однако впервые это было признано всеми.
Заседание кафедры закончилось за полночь, Багринцев еще долго курил в своем кабинете. Я тихонько постучался и вошел. Он сидел один, ворот его рубахи был расстегнут, сизый дым витал под потолком. Мне показалось, что Мастер чем-то расстроен, по крайней мере лицо у него, прежде всегда волевое и твердое, было печально.
– Что с вами, Евгений Васильевич? – тихо спросил я.
– Вацлав, ты разбил мне сердце! Ты слишком талантлив, мой дорогой, я просто не знаю, чему тебя учить… Ты знаешь, Вацек, я всю жизнь мечтал встретить такого ученика, как ты… И вот теперь мне отчего-то грустно. Впрочем, это все мои старческие, наверное, переживания. – И Багринцев снова улыбнулся, лицо его прояснилось.
В этот момент тетива внутри меня сжалась и лопнула. Я подошел к нему и…
Меня отвлекли от воспоминаний звонкие голоса, доносившиеся с улицы. Я снова подошел к окну. У ограды дома топтались две девицы в кедах и ярких шарфах. Движение за занавеской очень их вдохновило, они тут же принялись растягивать бумажный транспарант, испещренный корявыми сердечками. Посреди плаката красовалась надпись: «Дэмиэн Грин – Вы Бог!» Надо будет сказать Джону, чтобы как-нибудь выдал этим дежурным фанаткам пару открыток с автографами. Любовь, как и ненависть, надо вовремя подогревать соответствующими поступками.
В дверь позвонили. Это сладкая парочка от фешн-олимпа явилась умасливать, разминать, взбадривать и омолаживать мое тело. Я небрежно киваю им, нарочито медленно скидываю с лепного торса халат из тончайшего шелка и укладываюсь на массажный стол.
Да, я проделал длинный путь от детдомовского сироты Вацлава Левандовского до звезды британской сцены Дэмиэна Грина. Я сменил страну проживания, имя и круг общения, я окружил себя красивыми вещами и обожанием поклонников. Я объездил весь мир, я видел мрачное веселье венецианского карнавала, ночевал в трущобах Рио-де-Жанейро, охотился на львов в Кении и торговался на индийском базаре, спал с тайскими шлюхами и однажды едва не обручился с наследной принцессой одной крошечной европейской страны. Я достиг такого уровня знаменитости, славы и богатства, что мог позволить себе все. Здесь, вероятно, следовало бы посетовать, что в нищей безвестной юности я был неизмеримо счастливей. Однако это было бы неправдой. Разумеется, большие возможности подразумевают жизнь более интересную и насыщенную. Что до счастья…
Это всего лишь миф, красочная приманка, которую люди вывешивают перед собой, чтобы не так тоскливо было влачить ежедневное однотипное существование. «Я буду работать по двенадцать часов в сутки, скоплю денег, приобрету квартиру – и буду счастлив», – обманывают они себя. Или: «Я женюсь на этой женщине, разведу сопливых отпрысков и буду счастлив, играя с ними в кошки-мышки». И то и другое, в конце концов, довольно популярный самообман. Мало кому хватает мужества признать, что счастье неуловимо, как солнечные блики на речной воде. Сегодня, в данную секунду, оно поглощает тебя целиком, но проходит лишь миг – и ты уже несчастен до самых кончиков пальцев. Причем счастье эфемерно, груз несчастья же ты вынужден таскать на себе долгие годы. Все же как несправедливо устроен мир, если разобраться…
Если что и заставляет меня возвращаться в памяти к дням моей молодости, то это одно событие, которое круто переменило мою жизнь. Не будучи моралистом, искренне полагая, что человеку позволено ровно столько, сколько он сам может себе позволить, я все же не могу отделаться от посещающих меня ночами смутных и тревожных видений и просыпаюсь иногда в тисках темного ужаса. Я не пытался забыть об этом, вычеркнуть из памяти, ведь любое впечатление, каким бы сильным и отталкивающим оно ни было, бесценный дар для нашей души. Может быть, именно поэтому я и решился вновь вернуться в город моей юности, встретиться с людьми, окружавшими меня в то время. Я большой любитель ставить эксперименты, прежде всего надо самим собой.
Телефон снова зазвонил. Гарри с заискивающей улыбкой залез под кровать и подал его мне. На этот раз я снял трубку.
– Мистер Грин, – зачастил Джон, – все в порядке. Билеты заказаны на завтра, номер в гостинице «Националь». Я заеду за вами утром в девять часов.
Итак, Рубикон перейден.
Выдворив Гарри и его подручного из комнаты, я достал старинный серебряный портсигар, затем, открыв ящик стола, вытащил оттуда коричневый, пахнущий дурманом и сандаловым деревом предмет. Поставил длинную трубку на тумбочку, вынул из портсигара несколько шариков. Это был самый лучший опий, который только можно было достать: один китайский делец довольно-таки часто привозил мне его. Я раскурил трубку и не спеша прилег на кровать. Внутри разлилось тепло, стало спокойно и светло. Оставалось только одно – ждать. Я знал, что Он скоро появится.
Мерцающий сумрак клубился в углах кабинета. Темные, отделанные деревом стены мерно покачивались, расплывались в стороны, раздвигая пространство. Я видел искры, и звезды, и уходящий во тьму зеркальный коридор. Я знал, что еще секунда – и Он придет ко мне, вечно юный, стройный, прекрасный, с застрявшими в золотых волосах прозрачными брызгами.
Стас вышел ко мне, спустился по уходящим в никуда ступеням. И я улыбнулся ему.
– Зачем ты едешь туда? – спросил он безо всякого энтузиазма в голосе.
– Из любопытства, – ответил я. – Разве это не единственная достойная причина для любого поступка?
– Тебе в самом деле интересны эти люди? – с сомнением покачал головой он. – Они давно чужие тебе. Они так же изменились, как и ты сам. И скорее всего, не в лучшую сторону.
– Мне все люди чужие, – возразил я. – И все одинаково любопытны. Мне хочется посмотреть, что сотворило с ними время. Ты знаешь, время – единственный бог, которого я боюсь.
– Ты боишься времени… впрочем, пока оно над тобой не властно, мой вечно юный брат, – усмехнулся Станислав. – Но ты не боишься того, что они узнают… Ты мастер фантасмагорий, и с годами этот твой талант приобрел невиданный размах. Но неужели он научил тебя, как избавиться от страха?
– Ты ошибаешься, я боюсь, очень боюсь, – сказал ему я. – Боюсь и страстно желаю. Говорят, человека всегда тянет на место преступления. Как думаешь, почему? Может быть, мы оставляем там частичку своей души? Смутное отражение, запечатлевшееся на оболочке глаз мертвеца?
– Парадоксы, – вздохнул он, – в этом ты мастер. С другой стороны, мой дорогой Вацлав, последнее мое воспоминание из жизни – это ты, красивый, как юный греческий бог. Я помню, как тучи сгустились над озером, помню, как ощутил последний порыв ветра… вот и все… Так что доля истины в твоих словах есть. Я запомнил тебя, и вот вынужден годами захаживать к тебе и выслушивать этот горячечный бред, мой дорогой, никогда не стареющий и не унывающий любитель первоклассного опия. Так, значит, ты боишься разоблачения и все равно едешь туда? Но зачем?
– Страх – всего лишь эмоция, – улыбнулся я. – Одна из самых сильных. А сильные переживания всегда меня привлекали. Их слишком мало в нашей обыденной жизни. Разоблачение, возмездие… Только ничего этого не будет. Никто ничего не узнает, раз до сих пор – за восемнадцать лет – правда не выплыла на поверхность.
Веки мои отяжелели. Я чувствовал, что скоро тяжелый, черный сон одолеет меня. И старался оттянуть это мгновение, еще немного побыть с братом, услышать его слова. Я уже не видел лица, лишь ощущал кожей его легкое дыхание.
– Они узнают, – покачал головой Станислав. – Кто-нибудь обязательно догадается, раскопает все это. Они узнают, кого ты убил…