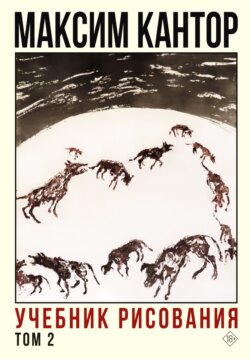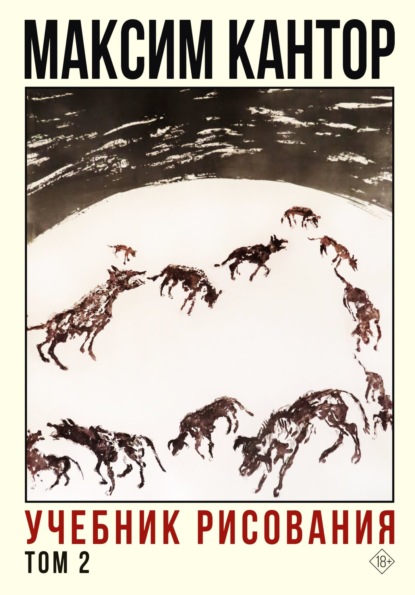© Максим Кантор, 2013
© ООО «Издательство АСТ», 2022
* * *
Часть третья
23
Существуют картины, написанные поверх других, – художник использует былую картину просто как основу, как грунт. Случалось, живописец брал законченную картину, чтобы писать поверх нее – просто от недостатка холста. Чаще всего так поступают с собственной картиной, если признают ее негодной, но бывали случаи, когда художник брал чужой холст и писал поверх него. Разумеется, это предполагает достаточно высокую самооценку художника и, во всяком случае, неуважительное отношение к труду предшественника. Рассказывают, что Модильяни, не имея возможности приобрести чистый холст, заходил к знакомому торговцу картинами, который давал ему выбрать чужую картину для работы среди тех, что не находили спроса. Согласно рассказу, Модильяни, прежде чем забрать чужой холст, долго к нему присматривался и, если находил хоть что-нибудь достойное внимания, не мог позволить себе записать чужую картину. Иногда он проводил часы, разглядывая чужие – вероятно, не самые выдающиеся – картины, и после колебаний так и не решался ничего взять. Видите, показывал он на деталь на чужом холсте, какой интересный фрагмент – его нельзя уничтожать. Напротив того, Пикассо славился бесцеремонностью, он не мог себя сдержать и покрывал живописью любую поверхность – в том числе картины друзей. Его, как говорят, было опасно оставлять в чужой мастерской: он мог записать чужой холст, не говоря о том, что рисовал на полу, дверях и стенах.
Известны случаи, когда мастер заканчивал набросок ученика (как, например, Рембрандт – неоконченные ландшафты Сегерса) или, напротив, когда великий ученик довершал недоделанное мастером (так Тициан заканчивал «Сельский концерт» Джорджоне).
Подобная возможность – то есть исправить или вовсе покрыть другой живописью законченный холст – появилась только с изобретением масляной живописи; ранее такой возможности не существовало. Иконописец не только не мог писать поверх чужой иконы, но даже не способен был изменить что-либо в своей собственной. Художник, исполняющий фреску, должен был бы сколоть штукатурку и заново грунтовать стену – захоти он писать иной вариант. Подобной возможности лишен скульптор, рубящий из мрамора: каждый удар по камню лишает его возможности пересмотреть решение; эта возможность отсутствует у художника, кладущего мозаику, режущего деревянную гравюру, льющего бронзу.
Масляная живопись, таким образом, предстает как наибольший соблазн для изменений и искажений. Это абсолютно автономная вещь, предмет, независимый от окружения, – в отличие от иконы, скульптуры, фрески живопись может существовать где угодно. Именно свобода делает масляную живопись наиболее уязвимой: картина может оказаться в руках человека, который захочет ее исправить, улучшить или уничтожить. Масляная живопись уязвима так же, как слова, которые, будучи раз произнесены, могут быть с легкостью взяты назад.
Ничто так не провоцирует на изменения или даже на создание новой работы, как чужая, не слишком законченная живопись. Опытному живописцу достаточно тронуть кистью в двух-трех местах, чтобы оживить поверхность; опытный живописец может оценить в чужой картине возможности, скрытые от самого автора, и он-то хорошо будет знать, как заставить заиграть цвет, как сделать из чужой картины – шедевр, но шедевр свой. Случалось, что иные художники заблуждались на свой счет и недооценивали то, что, по их мнению, может стать основой для их собственной живописи.
Существует лишь один способ предотвратить возможную судьбу картины: подобно слову, произнесенному столь страстно, что его невозможно уже взять назад, краска и цвет должны быть столь определенны и внятны, чтобы и тень мысли о том, что это набросок, не могла посетить ничью голову. Помимо прочего, сильные и резкие суждения неудобны в обращении – их неудобно как произносить, так и брать назад, а резкие, пастозные, яркие мазки (как, например, у Ван Гога) плохо подходят для грунта под чужую живопись.
История искусств сохранила память о том, что картины Ван Гога продавались как «холсты, бывшие в употреблении».
Глава 23
Заложники красоты
I
Вы убеждены, что все должны поступать так, как нравится вам. Ваши вкусы воплощают общий порядок. Ваше довольство стало мерой хорошего и плохого. Причинять боль другому – плохо; но для вас я тоже другой; отчего же вы решили за меня, в чем мое благо? Для меня хорошо обнимать эту женщину, лежать с ней в постели. И мне безразлично, что это причиняет вам боль. Пусть у вас тоже поболит – ведь когда болит у меня, вам безразлично, не так ли?
Вы говорите, эта женщина грешна, оттого что много раз выходила замуж, то есть нарушала ваши правила. Но мне плевать на ваш суд. Ваша уютная мораль выдумана не для того, чтобы защитить слабых, а чтобы унизить гордых. Если я приму вашу сторону, сторону въедливых праведников, то откажусь от своей сущности. Я не сделаю этого. Я хочу, чтобы эта женщина была моей.
Она стояла перед ним, худая и голая, с отвисшей круглой грудью с большими сосками, грудью, которая показалось ему очень большой на худом теле. Он осмотрел ее длинные худые бедра, густые черные волосы на лобке, плоский живот, и она не сделала попытки прикрыться. Она стояла прямо, как солдат в строю, стояла не шевелясь, откинув голову с короткими мальчишескими волосами, и ждала, что он с ней сделает. Он протянул руку и провел ладонью по лобку, по густым волосам. Она не пошевелилась, только сдвинула ногу в сторону, чтобы его ладони было удобнее ее гладить. Это движение показалось ему циничным, и он перестал ее стесняться.
Он повел ее к дивану, и она шла не прячась, не закрываясь рукой, но прямо, откинув назад голову. Она легла, согнула ноги в коленях, развела их в стороны и сделалась похожа на раскрытую книгу. И он приник к ней так же, как приникал к самым любимым своим книгам: к «Гамлету» и «Трем мушкетерам», к письмам Ван Гога, к дневникам Делакруа, к «Смерти Артура» Томаса Мэлори. И так же, как случалось с ним, когда он открывал эти книги, он растворился в ней, и жизнь вокруг перестала быть важной.
II
Все, что происходило в его семье, происходило на тех же основаниях и так же, как в иных семьях. Одинаковый ритуал с одинаковым тщанием совершают люди хорошие и заведомо дурные: можно дружить и с банкиром, и с бандитом, и, если обсуждать с ними детей, врачей и летний отдых, разницу во взглядах нипочем не заметишь. Однако, если не признавать интересов семьи, тут же сыщутся противоречия в иных сферах. И Павел сидел за столом со скучными родственниками Лизы, ходил с женой к ее неинтересным подругам, и каждый прожитый день сближал его жизнь с тысячами таких же жизней. Это нарочно так сделали, думал Павел, чтобы семейная мораль скрепила устройство неправого мира. Не скажешь за праздничным столом собранию толстых родственников: извините, тороплюсь к любовнице. То-то ахнули бы тетки и кузины, уронили бы пирожки с капустой. Они, говорил про себя Павел, непреклонно решили, что именно для меня хорошо. Для меня полезно делить их тихие радости, слушать про отдых в Крыму. Если выяснится, что у меня есть любовница, то Крым окажется под угрозой.
Сегодня эта чужая жизнь отодвинулась далеко, перестала существовать.
Он так же читал книги: книга была будто бы специально написана для него, никогда не было у книги другого читателя. Ни с кем иным, только с ним говорили Ван Гог и король Артур, и Шекспир писал ему лишь одному. Темная дорога над обрывом у моря, там, где шел Гамлет вдоль могил, – ему одному видимая дорога; только он знает, как не поскользнуться и куда наступить, он помнит, как в темноте отогнуть ветку и перейти вброд ручей. Это написано только для единственного читателя – для него, других не было никогда; и кто бы отважился пройти этим узким темным путем. Он всегда знал, что избран; это для него на далекой эльсинорской стене трубила труба, это ему предстоит вправить сустав у века. Вот зачем дана ему эта книга, вот почему она дожидалась его, одного его – чтобы он не сбился с дороги. И если раньше он иногда сомневался, что сможет пройти до конца, то теперь сомнений не было.
«В ту ночь всю тебя от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову…» – вот что он вспомнил под утро. Сквозь занавеску светило низкое зимнее солнце, девушка спала, и Павел смотрел на ее грудь и косточку ключицы. И Павел подумал: она была как книга Шекспира – раскрытая для того актера из стихотворения. Трагик в провинции, как точно сказано, нарочно про меня сказано. Именно трагик в провинции, который дает представления с ненужной страстью перед глупой публикой, – вот кто я такой. И приходится произносить со сцены беспросветную чушь – иного не поймут, что еще пойдет в такой дыре? И вдруг актер находит в гостиничном номере том Шекспира – и читает ночь напролет. Как точно описано. И потом Павел подумал: нет, это неточно сказано. Разве страсть возникает оттого лишь, что женщина – такая удивительная женщина – могла не встретиться, могла пройти мимо, а вот вдруг встретилась? Разве только поэтому так колотится сердце? Могло не случиться, могло не произойти – неужели именно этот страх движет страстью? Разве читают ночь напролет оттого лишь, что в провинции книги Шекспира – редкость? Нет, ему не случайно досталась эта книга, это не подарок, не везение – но только исполнение обещанного. Ему досталось то, что принадлежало ему всегда, только одному ему. Эта женщина назначена ему, это он понял еще тогда, в том давнем выставочном зале. Она сразу выделила его в толпе, улыбнулась так, как улыбаются избранному. Трагик в провинции – это надо толковать шире. Вся жизнь – провинция, глухая безрадостная дыра, и лишь эта раскрытая книга делает провинцию единственно осмысленной землей. Нет больше ни столиц, ни провинций, есть единственный путь, который знает тот, кто открыл книгу. Нет ни цивилизованных земель, ни пустырей – есть судьба, теперь я знаю ее. Вот, рядом со мной, вот она, моя желанная, я ее никому не отдам.
Подобно всем мужчинам, изменяющим женам и говорящим себе, что иначе поступить они не могли и сделали хорошо, Павел запрещал себе думать о жене. Он видел и помнил только то, что было у него перед глазами и что казалось ему самым важным: только эту ночную женщину с тяжелой грудью и тонкой косточкой ключицы он видел и помнил. Он провел пальцем по ключице и спустился ниже, и гладил грудь, и трогал плоский сосок. Но точно так же, как и все иные мужчины, убежденные, что имеют право изменить женам, Павел, несмотря на убеждение, что поступает хорошо, и несмотря на запрет думать о жене, совсем некстати стал думать о Лизе. Трогая тело Юлии Мерцаловой, он представлял себе, как Лиза в их квартире лежит и смотрит в темноту и прислушивается к шагам на лестнице, к стуку парадной двери. Лиза всегда ждала его и не спала, и, если он приходил поздно, издалека умела слышать его шаги по пустой ночной улице.
Лиза не плохая, думал Павел, она хорошая, просто слишком обыкновенная. А мне нужна необыкновенная женщина, я всегда ждал необыкновенную. И вот дождался.
Как сказал однажды Борис Кириллович Кузин: ничто не невозможно. Кузин говорил о преодолении культурного детерминизма, об изменении приговора судьбы. Разве непреодолимо то обстоятельство, что Россия – холодная и дикая страна? Что с того, что Россия провела двести лет под монголами, а столетие под большевиками? Можно это преодолеть – и скакнуть в просвещение, сделаться западной цивилизованной страной. Ничто не невозможно, надо приложить усилие. И судьбу женатого на скучной, обыкновенной женщине человека можно изменить. Не навсегда же это со мной. Вот, я нашел свою женщину. Так думал Павел, трогая гладкое тело Юлии Мерцаловой, а она, проснувшись уже, открыла глаза и глядела на Павла широко раскрытыми прекрасными глазами.
– Я люблю тебя, – сказал Павел. Он смотрел на нее, на ее длинное голое тело, мальчишескую голову на подушке, и стриженая девушка не изменила позы, не старалась прикрыться, не стеснялась наготы, она давала разглядывать себя, словно тело ее принадлежало теперь не ей, но Павлу.
И он немедленно принял это как должное и разглядывал ее, не стесняясь. Да, так правильно: книга Шекспира дожидалась трагика в гостиничном номере, и это так же верно, как и то, что женщина эта всегда ждала его – и лежала, раскинувшись на постели, отдавая себя его взгляду. Он провел взглядом, как кистью, вдоль ее ног, по животу, он обвел взглядом ее грудь, проследил линию шеи. Он подумал об откровенных венецианских Венерах и о махах Гойи, о возлюбленных и натурщицах, что так же бесстыдно лежат на картинах в музеях. Он подумал о том, как бесстыдно выкладывали эти женщины свои тела на смятых простынях – и не только для единственного мужчины, но для бесчисленного количества мужчин, которые ежедневно смотрят на них в музеях. И, подумав так, он вспомнил о мужьях стриженой девушки, лежащей перед ним, о тех мужчинах, что уже разглядывали ее, о глазах и взглядах тех, кто прежде стоял перед этой картиной – кто уже изучил ее.
III
– Хочу, чтобы ты была моей, – шептал Павел, уткнувшись ей в плечо. – Совсем моей, понимаешь?
– Совсем и навсегда, – сказала девушка убежденно.
– Не могу примириться с тем, что было до меня, – сказал ей Павел.
– До тебя ничего и не было.
– Невыносимо думать о других мужчинах, которые трогали тебя, которым ты улыбалась.
– До тебя ничего не было, – повторила она со всей силой страсти.
– Но ведь было же, было, – твердил Павел, – разве нет? Объясни мне, ради бога, как ты могла? Ты, такая прекрасная, неужели не знала, что это меня ты ждешь, а больше никого, – и он подумал о книге Шекспира, оставленной в гостиничном номере.
– Разве ты не видишь, что ничего другого не было? – спросила она. И взгляд Павла еще раз обшарил ее тело, прошел везде, где хотел, и Павел подумал, что нет, не мог никто другой так же на нее смотреть и никому другому она бы так не раскрылась для взгляда. Разве сумели бы Тушинский или Голенищев так разглядеть ее? Разве сумел бы Тушинский разглядеть, как устроена ее нога, как круглится колено, как беззащитно открыт живот? Но стоило ему сказать про себя эти имена – Тушинский и Голенищев, как горло сдавила обида.
– Я поверить не могу, что ты их любила. И этого, и того? Объясни мне, пожалуйста, чтобы я понял.
– Спроси все, что хочешь. О ком именно? Кто они: этот и тот? Что тебе хочется знать?
– Мне трудно выговорить имена.
– Ты хочешь, чтобы я сказала сама? Я не боюсь говорить. Я была женой Леонида Голенищева. Я была подругой Владислава Тушинского, недолго, впрочем. Сегодня я – жена Виктора Маркина. И ни один из этих людей мужем мне не был. Помнишь Писание? Шестеро мужей – ни один не муж.
Павел не помнил этого места. Он смотрел на голую девушку и слушал ее, и его слух и зрение существовали отдельно друг от друга и не создавали вместе единый образ. Не могла эта молодая прекрасная и худая женщина лежать в постели с другими. Отчего-то именно худоба ее показалась Павлу несовместимой с обилием мужчин. Не могла она быть столь любвеобильной – нет, только не длинная худая женщина, сделанная по образу эль-грековских праведниц, только не она, так не может быть. Иначе все искусство, все образы существуют зря. Иначе зачем существует различие между Тицианом и Эль Греко, между Рубенсом и Гойей? Неужели понапрасну поднимает художник кисть и стоит перед холстом? Не могла эта стриженая голова лежать на подушке Леонида Голенищева. То, что она произносит, то, о чем она рассказывает теперь, – неправда, так быть не могло. И даже если так было, то, вероятно, это происходило при каких-то особых условиях, поневоле, не по-настоящему, но так, чтобы тот эль-грековский образ не был разрушен.
– Как ты могла? – спросил он.
И стриженая девушка смотрела ему прямо в глаза своими осенними глазами и говорила:
– Я не могла.
– Но могла. Могла же. И с этим Леонидом, боже мой, с этим Леней! Мне это мучительнее всего. И с Тушинским тоже, да? И с ним тоже? С этим толстым, циничным человеком? Скажи мне.
– Мне нечего сказать. Этого не было.
– Как – не было? Объясни, я сойду с ума.
– Я не могу объяснить, – отвечала она. – Просто не было ничего, никого, кроме тебя, не знала. Ничего не помню. Это было не со мной.
– Но с кем же тогда, с кем?
– Обними меня, мне холодно.
Павел умолк и обнял ее, и она прижалась к его плечу, и в эту минуту ему казалось, что действительно ничего, кроме этого объятия, и не было и быть не могло. Разве бывает с кем-нибудь так, как у них сейчас? Так ведь не может быть ни с кем больше.
Ведь не может человек с одинаковой страстью и доверчивостью обнимать двух разных людей, или тем более трех разных людей, или пятерых. А если случалось так, что человек с одинаковой страстью и доверчивостью обнимал много людей, то ведь это – неправильно, что-то не так, значит, в понятиях «страсть» и «образ».
Но было же, было! Она смотрела им в глаза – в чужие глаза, она держала их за плечи – чужие плечи. Она так же тянула к ним губы, так же выгибала шею, так же двигалась и так же говорила – ведь не придумано природой много различий в движениях и речи, и не может быть различий много. Ведь она – тот же самый человек, и, в конце концов, одна и та же картина может сменить много владельцев – а праведница на картине не изменит улыбки. Неужели все они встречали эту улыбку – и улыбались в ответ? Павел представлял рыхлого Тушинского с его вечной кривой ухмылочкой, с которой он предлагал парламенту либеральные законы, отлично зная, что законы эти никогда не пройдут, но предлагать их надо – это будет оценено и на Западе, и в России. Он представлял крепкого, уверенного в себе Голенищева и представлял манеру Леонида крепко и ухватисто брать предметы – как цепко он держал стакан, так же, верно, он и обнимал девушку. Павел представлял и других неизвестных ему мужчин, их руки, обнимающие стриженую девушку, их губы – слюнявые и сухие, вытянутые для поцелуя и растянутые в улыбке. Он запрещал себе думать дальше, но сознание не слушалось его, и он воображал себе подробности и детали, он воображал слова и вздохи – и эти мысли не давали ему покоя. Разве любовь и доверие не уникальные вещи, данные человеку однажды и неповторимые, думал он. Это ведь не фотоснимки, которые можно отпечатать в десятках копий. Это вещи единственные, уникальные, как картина, как рисунок. Но единожды нарисованный, образ уже не принадлежит художнику, думал Павел.
Потом, на другом свидании, он спросил ее опять о ее бывших мужчинах.
– Пусть Маркин, хорошо, – говорил Павел, – я не ревную тебя к Маркину.
– Это он должен к тебе ревновать, – говорила она.
– Я не ревную к нему, – повторял Павел, – он диссидент, он порядочный человек. Я понимаю, его можно любить. Не могу примириться с другими. Ведь с ними надо было говорить о чем-то? Вы беседовали, правда? Они рассказывали истории? Как ты могла? Чтобы сначала один, а потом другой? И все говорят – каждый о пустяках. Все тебя трогают, да? Как можно?
– Так нельзя, – говорила она, – и я не смогла так. Я ждала, когда произойдет главное, но ничего не происходило. Они были все одинаковые. Тогда я вышла замуж за старика – чтобы сделать жизнь осмысленной, чтобы служить ему. Мне было очень трудно: вокруг много пустых мужчин, и все хотели меня обнимать. Красивой быть трудно. Почти так же трудно, как быть художником.
И Павел подумал, что она права. Добродетелен тот, у кого нет соблазнов, подумал он. Добродетельна Лиза, которая не знала других ухажеров, кроме меня. Что за цена у добродетели, если ею награждают за невзрачность.
– Понимаешь, – говорил ей Павел, – я не знаю, как сущность выглядит, я не знаю, как выглядит душа. Но это цельный предмет, от которого нельзя отщипнуть часть – и дать одному, а потом отщипнуть другую часть – и дать другому.
– А как же Христос, – говорила девушка, – разве он себя не раздавал?
– Ах, так ты распущенность христианством объясняешь. – И Павел горько смеялся.
– Не было распущенности, – и девушка смотрела на него твердыми глазами, – я никогда не была распущенной.
И Павел встречал ее взгляд и понимал, что она права. Не могла она быть распущенной. Слово «распущенность» не подходило к этой женщине, сделанной твердо и поставленной прямо. Суть и сущность мира воплощены в ней, думал Павел, они не зависят ни от чего, в том числе от моего суда. Вот она стоит, сильная, и не боится.
IV
И однако ему казалось, что он недоговорил, не сумел объяснить то, что хотел. В другой раз он нарисовал на бумаге круг и показал ей.
– Вот смотри, – сказал он, – этот круг – ты. Там, внутри, все твое – и мысли, и понимания, и любовь, и жажда. Этот круг (то есть все сразу) можно отдать целиком тому, кого любишь. И слиться с ним. А можно раздавать по частям – немного одному, немного другому. Так круг становится меньше – ты отрезаешь от него по кусочку. И когда ты любишь кого-то или просто обнимаешь кого-то, целуешь кого-то, ты расходуешь этот круг. Ты отрезаешь один сектор, потом еще один – для следующего. Вот видишь? – И он нарисовал, как постепенно вырезаются из большого круга сегмент за сегментом, – видишь? Площадь круга все меньше и меньше. И так ты тратишь себя, отдаешь постепенно по частям, и от тебя самой ничего не остается.
– Но я никому ничего не отдала, – сказала она, – все отдала тебе.
И эти слова звучали в Павле, и когда он видел других людей, когда говорил с другими, в нем постоянно повторялись эти слова; и порой он не разбирал, что ему говорят, вслушиваясь в них. Он смотрел на свою жену Лизу, глядел в ее несчастные глаза и спрашивал себя: интересно, способна Лиза почувствовать так же сильно? Способна Лиза отдать все без остатка? А что ей отдавать? Привычный уклад привычной жизни? Котлеты да суп? Он уходил из дома, и шел в мастерскую, и ждал свою девушку, свою возлюбленную Юлию Мерцалову. Он встречал ее на пороге, снимал с нее пальто, вел к кровати мимо своих холстов, и она, проходя мимо картин, трогала их и ласкала длинными пальцами.
– Твои картины, – и она провела пальцами по тыльной стороне холста, повернутого к стене. – Ты не показываешь, потому что я недостойна? Где портрет отца? Господи, я помню этот портрет. Ты его не продал?
– Продал. Послал в галерею, его купил адвокат или дантист. Мне чек прислали.
– Я бы этот чек наклеила твоей Лизе на лоб, – и девушка засмеялась. – Прямо на лоб. Она понимает, что ты обмениваешь картины на ее тряпки и кастрюльки?
– Не знаю, – сказал Павел.
– Думаю, не понимает.
– Как ты узнала, что на картине мой отец?
– Твоего отца мне показывал Леонид. Очень давно. Он не любил твоего отца.
– Как же так могло получиться, что ты была с этим Леонидом, как?
– По глупости, – сказала стриженая девушка.
– По глупости? – и, представляя себе вальяжного чернобородого Леонида, рассуждающего про квадратики и полоски, Павел закрывал глаза.
– Хорошо тебе говорить. Ты не представляешь, что люди могут быть обыкновенными. Тебе Бог велел быть художником, – и она целовала его в ладонь. – Как я люблю твою руку. А вот мозоль, это от кисти?
– Да, – сказал Павел, – от кисти. В это место кисть упирается при работе.
– Покажи мне, как надо держать кисть.
– Вот так, – и он привычным движением принял в ладонь кисть, – видишь: так фехтовальщики держат шпагу.
– Вот так ты держишь кисть каждый день?
– Да.
– Господи, спасибо тебе, – и она снова целовала его в ладонь, а Павел не отнимал руки. – Ты видишь. Он позвал тебя, дал тебе дело. А меня никто не звал, я сама выдумала, чем заниматься.
– Чем? – спросил Павел.
– Тебе будет смешно.
– Скажи.
– Я всю жизнь хотела быть редактором.
– Редактором, – удивился Павел. – Редактором в газете?
– Не всем же быть гениями.
– Исправлять чужие ошибки? Зачем?
– Да, исправлять чужие ошибки, делать так, чтобы все было правильно.
– Не понимаю.
– Я умею исправлять ошибки. Я была редактором самиздата – тогда, давно. Я люблю делать правильно.
– Что делать?
– Все. Лизу свою спроси, – сказала девушка с усмешкой, – как я учила ее варить суп. Спроси свою Лизу.
– Ты знаешь Лизу?
– Мы встречались в одном доме. Давно. И потом Лиза два раза приходила ко мне – но я жила очень бедно, со мной неинтересно было дружить, – девушка засмеялась; она лежала на диване голая, не прикрывая себя ни одеждой, ни рукой, и смеялась, откинув голову, – совсем неинтересно было со мной дружить. Она научилась у меня варить суп – и больше никогда не приходила. Скажи, Лиза хорошо варит тебе суп? Мне нравилась Лиза, но она никогда ничего не умела и не хотела уметь.
– Ты жила бедно? Что это значит? Мы все жили бедно. – Павел не стал отвечать про суп.
– Я мыла полы в школе напротив дома и на Казанском вокзале мыла полы. Знаешь, это неплохое занятие. Если сосредоточиться, думать о чем-нибудь другом, то не заметишь, как вымоешь все лестницы. Это совсем нетрудно. А по ночам перепечатывала статьи диссидентов. Самолюбивые статьи пустых людей. Я напечатала тысячи страниц. На тонкой кальке, чтобы можно было скатать в трубку и незаметно провезти через границу. Их отправляли с иностранными корреспондентами в Мюнхен и в Париж, и там выходили бессмысленные самолюбивые альманахи, журналы, книги. Я их знаю еще в рукописях.
– А зачем ты печатала, если тебе не нравилось, что они пишут?
– Потому что каждый должен исполнять свои обязанности. Это была моя обязанность. Меня просили напечатать за ночь двадцать страниц. Иногда сорок. Однажды шестьдесят. Это было невозможно, но к одиннадцати утра я закончила. А утром пошла мыть пол в школу напротив.
– Что было противнее? – спросил Павел.
– Я бы хотела редактировать эти тексты. Все можно сделать лучше. Даже лестницы в школе, даже зал ожидания на Казанском вокзале можно отмыть. Все плюют на пол и проливают пиво – но ты можешь отмыть и отскрести добела.
– А потом опять наплюют и прольют пиво.
– Значит, опять нужно взять ведро и тряпку. Надо выполнять свои обязанности. Просто девушки не любят это делать.
– Да, – сказал Павел и вспомнил Лизу, которая спала до позднего утра, – девушки не любят, и никто не любит.
– Я люблю редактировать, – сказала стриженая девушка.
– Но современные газеты сделать лучше нельзя. В них ни слова прочесть невозможно. Ты в них заглядывала?
– Какая разница, о чем пишут. Говорю тебе: я не гений, не такая, как ты. Это ты знаешь, что сказать, я – нет. Я просто буду следить за тем, чтобы грамотно говорили. Чтобы существительное стояло в нужном падеже, глагол – в нужном спряжении.
– И тебе безразлично, какую мерзость они пишут?
– Я не могу содержание изменить. Но я могу сделать речь более грамотной, тогда содержание изменится тоже.
– Никогда, – сказал Павел, – никогда содержание не переменится.
– Я не могу отменить расписание поездов на Казанском вокзале, – сказала девушка, – и не могу запретить плевать на пол. Но я могу каждый день мыть пол на вокзале и вылизывать плевки.
Она говорила про плевки и блевотину, а он смотрел на ее длинное тело; девушка лежала перед ним не закрываясь, без стыда, подставляя себя под взгляд, точно это тоже входило в ее обязанности – дать себя рассмотреть.
– Ты, это была ты, я тебя видел в церкви.
– Когда?
– Очень давно, у Николы Обыденного, на всенощной. Да-да, это была ты, я теперь точно знаю. Я вспомнил все, я теперь даже платок твой вспомнил. Ты в платке была совсем другая, чем тогда на выставке, где мы познакомились. Мне то твое лицо – из церкви – по-другому помнилось. Теперь все вижу ясно – ты была с Леонидом Голенищевым. Я помню, как ты на него смотрела.
– Не надо вспоминать об этом, – сказала она, – ты не должен.
– Почему?
– Я была маленькая. Это не я была. Мне тогдашней, той себя, стыдно. Знаешь, – сказала она быстро, – я могла стать хуже, чем есть. Бог, то есть религия, это было единственное, что меня тогда поддержало. Я могла плохой стать – и мне надо было начать служить.
– Я не понимаю, – сказал Павел.
– Я потому и Маркина в мужья выбрала, что он старый и ему домработница нужна была. Он в лагере похудел на двадцать килограмм, я его выхаживала. Варила бульон, терла морковку. Я служить хотела, как медсестра, как монахиня. Вокруг меня были какие-то пустые мальчики. Я хотела так уйти от всех, чтобы служить – и забыть жизнь. В госпиталь, в монастырь. И ушла к старику-диссиденту. Я должна была именно такого выбрать! – страстно сказала она, и Павла поразила сила в ее голосе. Она произносила слова с напором, истово.
– Разве не он тебя выбрал?
– Он – меня? – Она посмотрела так, что понятно стало: это она всегда выбирает. – Я потому и крестилась, и начала в церковь ходить, потому и Маркина выбрала, чтобы уберечься от всех этих мальчишек.
– Разве нужна схима, чтобы беречь себя? – спросил он.
– Ты думаешь, легко быть красивой? Впрочем, что же я спрашиваю? Ты должен знать лучше других – ты создаешь красоту каждый день. Обними меня, – сказала девушка, – я не помню своей жизни. Помню тебя на той давней выставке. Больше ничего не было.
V
И опять прятали друг в друга свои лица, и опять Павел почувствовал, что эта женщина рождена для него, просто ее долго скрывали. Ее отдавали замуж за других мужчин, укладывали в чужие постели – ее, которая всегда принадлежала ему. И каждым объятием он словно выправлял то, что время сделало неправильно, он вправлял сустав у времени, и однажды он спросил у Юлии Мерцаловой:
– Как ты понимала, что делаешь неправильно?
– Я сразу вижу ошибку.
– Что ты называешь ошибками, скажи?
– Несоответствия, так точнее. В словах, в вещах и в людях тоже. Смотрю на человека – и вижу, что в нем неправильно. Вот простой пример: Лиза Травкина – жена Павла Рихтера. Разве это сочетается? Я смотрела и не понимала, для чего она тебе: челочка, серые глазки? Глядела и думала: как бессмысленно они поставлены рядом.
– Неужели, – спросил Павел, – ты сразу увидела?
– Издалека, – сказала девушка. – Но как же я завидовала Лизе! Завидовала ее сонной добродетели – без соблазнов, без ошибок. Она сама – недоразумение, но ошибок в жизни не делала. Как я мечтала прожить жизнь некрасивой сероглазой девушки, у которой нет кавалеров.
– Когда я познакомился с Лизой, у нее был кавалер, – сказал Павел, которому сделалось обидно за Лизу, – за ней ухаживал нелепый мальчик, оформитель. Тогда я не знал, что такое ревность, – добавил Павел, – мне казалось, я ревную к Вале Курицыну.
– Валя Курицын! – и Юлия Мерцалова рассмеялась. – Низенький, вертлявый Валя Курицын. Ты выбрал себе соперника.
– Знаешь его?
Она засмеялась презрительно, и Павел не стал более спрашивать: понятно было, что пустой Курицын, ничтожество Курицын не ровня этой стремительной девушке. Но другие, другие? И, глядя на каждого мужчину, он думал: да, и этот мог быть ее любовником, и тот тоже. Нет, скорее всего не этот, но вдруг – вон тот?