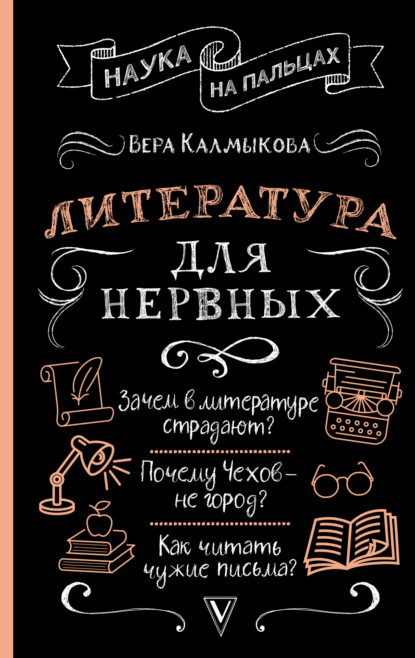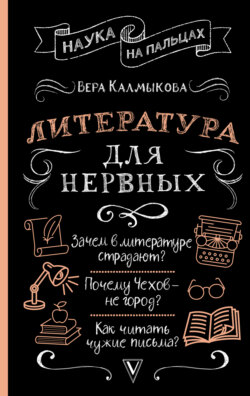
000
ОтложитьЧитал
Остранение
– возникает, когда привычное слово помещено в контекст, в котором оно воспринимается как непривычное и новое.
Понятие ввел Шкловский в статье «Искусство как прием» (1917). Шкловский рассуждал, каким образом писатель может преодолеть затверженность слова, автоматизм его восприятия.
Действительно, когда мы говорим, то не задумываясь обозначаем (от «знак») известные процессы и явления и не используем ни фонетические, ни семантические (т. е. смысловые) богатства каждого слова, а значит, и мир не переживаем непосредственно! Шкловский писал:
Если мы станем разбираться в общих законах восприятия, то увидим, что, становясь привычными, действия делаются автоматическими. Так уходят, например, в среду бессознательно-автоматического все наши навыки; если кто вспомнит ощущение, которое он имел, держа в первый раз перо в руках или говоря в первый раз на чужом языке, и сравнит это ощущение с тем, которое он испытывает, проделывая это в десятитысячный раз, то согласится с нами. Процессом обавтоматизации [тотальной автоматизации] объясняются законы нашей прозаической речи с ее недостроенной фразой и с ее полувыговоренным словом. Это процесс, идеальным выражением которого является алгебра, где вещи заменены символами. В быстрой практической речи слова не выговариваются, в сознании едва появляются первые звуки имени. <…> Так пропадает, в ничто вменяясь, жизнь. Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны.
А в литературе слово должно стать живым, ярким, нести в себе художественный образ или его зерно или служить сигналом, что мы попали во вторую реальность с ее законами. Так нам возвращается ощущение свежести жизни, как если бы она только что появилась на наших глазах. Слово Шкловскому:
И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи, как ви́дение, а не как узнавание; приемом искусства является прием «остранения» вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен; искусство есть способ пережить деланье вещи <…>.
Пока «вещь» (т. е. произведение) создается, автор непосредственно переживает создаваемый мир, и это передается читателю. Видеть, а не узнавать, знакомиться, а не считать известным, жить сейчас, а не как всегда, – вот каково главное умение художника, в частности писателя.
Процесс необходимой деавтоматизации слова в литературе описан Шкловским уже в самой первой работе – «Воскрешение слова» (1913). В статье «Искусство как прием» эта мысль углубляется. Автор показал, как Лев Толстой остраняет слова: «<…> он не называет вещь ее именем, а описывает ее, как в первый раз виденную, а случай – как в первый раз произошедший, при чем он употребляет в описании вещи не те названия ее частей, которые приняты, а называет их так, как называются соответственные части в других вещах». После этого Шкловский привел многочисленные примеры из рассказа «Холстомер», в котором эффект усиливается еще и тем, что повествование ведется от лица главного героя – лошади. Другие примеры – из «Войны и мира»:
На сцене были ровные доски по середине, с боков стояли крашеные картины, изображавшие деревья, позади было протянуто полотно на досках. В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна очень толстая, в шелковом белом платье, сидела особо на низкой скамейке, к которой был приклеен сзади зеленый картон. Все они пели что-то. Когда они кончили свою песнь, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах, с пером, и стал петь и разводить руками. Мужчина в обтянутых панталонах пропел один, потом пропела она. Потом оба замолчали, загремела музыка, и мужчина стал перебирать пальцами руку девицы в белом платье, очевидно выжидая опять также, чтобы начать свою партию вместе с нею. Они пропели вдвоем, а все в театре стали хлопать и кричать, а мужчины и женщины на сцене, которые изображали влюбленных, стали, улыбаясь и разводя руками, кланяться.
Никогда мы так не описываем театральное представление, разве что в глубоком детстве! Толстой побуждает нас увидеть вещи, как говорится, первым глазом, а в такой ситуации мы еще не постигаем множества связей между явлениями (контекста), лишь описываем их с помощью простейших познавательных блоков, которыми владеем. Остранение позволяет передать не только детскую наивность Наташи, но и мастерство плетения интриги, которая разворачивается отнюдь не на сцене, а в ложе. Шкловский на основе примеров из Толстого и многих других сформулировал, что же такое остранение: это способ видеть вещи выведенными из их контекста.
Остранить – значит сделать странным. Зачем? Чтобы привычное увидеть как необычное. Зачем? Чтобы увидеть мир словно впервые, удивиться и обрадоваться ему.
Замысел
– процесс от первого, неясного, интуитивного ощущения до составления плана будущего произведения или первых набросков для него, т. е. до того момента, когда автор уже может рационально подойти к рождающемуся тексту.
Ошибочно полагать, будто авторский замысел возникает в виде логически законченной фразы вроде «я хочу написать то-то и то-то о том-то и о том-то» или по-другому: «я хочу сказать о том-то и о том-то (прославить, обличить) с помощью таких-то художественных средств». Первоначально иррациональную природу замысла подчеркивал Пушкин в «Евгении Онегине»: «И даль свободного романа // Я сквозь магический кристалл // Еще не ясно различал». Даль и магический кристалл, казалось бы, метафорической природы, но на данной стадии – точные обозначения того, что происходит в чувствующем сознании писателя.
Семен Теодорович Вайман (1924–2004) в книге «Неевклидова поэтика» собрал целый ряд не столько определений, сколько признаков замысла от представителей различных видов искусства Эту ситуацию Вайман назвал «целое раньше частей»:
Вот некоторые характеристики исходной творческой «отметки»: «движение в душе» (Достоевский), «поэтическая идея» (Грильпарцер), «какие-то идеалы» (Римский-Корсаков), «первичное переживание» (у Моцарта), «общее движение» (Роден), «творческая концепция» (Белинский), «поэтическое состояние» (Валери), «некоторое лекало» (Эртель), «образ во всем его протяжении» (Бетховен), «картина» (Теодор Руссо), «звук темы» (Андрей Белый) и т. п. Эти исходные творческие импульсы выступают в различных сочетаниях и сопровождаются такой, к примеру, дополнительной информацией: «неделимое, органическое» (Вундт), «мелодическая ткань всего произведения» (Римский-Корсаков), «нерасчлененное ощущение мира» (Валери), «идеальное понятие, которое еще не борется с необходимостью осуществиться» (Т. Рибо), «тональность без мелодии и ритма» (Андрей Белый), «кружатся в душе ощущения, как снежинки во время метели» (Тургенев), «вижу весь круг своей бесконечной работы» (Н. Ге), «пришедшее издалека» (Пикассо), «смутная, но могучая общая целостная идея» (Шиллер) и т. п., причем «смутное», «нечто самостоятельное», «целое» – характеристики эти повторяются бесчисленное множество раз.
Ахматова дала точное описание творческого процесса от замысла до начала осознанной работы с текстом:
Бывает так: какая-то истома;
В ушах не умолкает бой часов;
Вдали раскат стихающего грома.
Неузнанных и пленных голосов
Мне чудятся и жалобы и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, все победивший звук.
Так вкруг него непоправимо тихо,
Что слышно, как в лесу растет трава,
Как по земле идет с котомкой лихо…
Но вот уже послышались слова
И легких рифм сигнальные звоночки, —
Тогда я начинаю понимать,
И просто продиктованные строчки
Ложатся в белоснежную тетрадь.
Сначала появляется предчувствие целого – иррациональная доминантна. Потом вокруг нее нарастают тональные нюансы. Из их множества рождается главенствующее звуковое начало (вспомним, что поэзия родилась из того, что пелось). Потом приходят конкретные слова, приносящие будущему творцу понимание, что это будут за стихи. На вопрос, сложно ли писать стихи, Ахматова отвечала – ничего сложного, когда диктуют. В начале работы над «Поэмой без героя» она настолько уставала от бесконечного шума в ушах, что, едва он начинал раздаваться, тут же бросалась стирать белье и топить печь, только бы его заглушить. Поэма мучила ее физически.
Этап рационализации, т. е. обработки, записывания первоначального импульса, тоже не вполне рационален. Любой квалифицированный психолог объяснит, что между мыслью, бродящей в голове, и той же мыслью, выраженной на бумаге, огромное различие: слова, т. е. материя, способны вносить существенные коррективы. Задумав некоторую схему художественного характера, писатель на практике сталкивается с тем, что в процессе проработки первоначальный контур меняется. Произведение как будто пишет себя само, герои ведут себя весьма своенравно, как если были бы живыми людьми…
Под замыслом также можно понимать и осознанную концепцию, когда автор уже понимает, что намеревается передать читателю. На этом этапе писатель уже может сказать: «я хочу, чтобы мой герой…» и обсудить это со своими друзьями, единомышленниками, корреспондентами. Поэтому возможно распространенное выражение «делиться замыслами».
Чаще всего во втором значении термин и используется. Практически изучение замысла сводится все к тому же вопросу: «Что хотел сказать своим произведением автор?» – и к ответу на него. Однако этот ответ предполагает скорее анализ авторской художественной идеи, чем замысла.
Вот, например, история замысла «Горя от ума». Сам Грибоедов писал: «Первое начертание этой сценической поэмы, как оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь в суетном наряде, в который я принужден был облечь его». Осознанно Грибоедов желал создать торжественное произведение, исполненное героического пафоса. Оно должно было быть связано с событиями 1812 г., и в нем должна была звучать патриотическая тема.
Друг Грибоедова Степан Бегичев указывал: «План этой комедии был сделан у него еще в Петербурге 1816 г. и даже написаны были несколько сцен; но не знаю, в Персии или в Грузии, Грибоедов во многом изменил его и уничтожил некоторые действующие лица, и между прочим, жену Фамусова, сентиментальную модницу и аристократку московскую… и вместе с этим выкинуты и написанные уже сцены». Видно, что подробности содержания комедии и форма пьесы определились у Грибоедова не сразу. Его собственное сообщение о раннем замысле существенно отличается от свидетельства Бегичева.
В последующие три года Грибоедов обдумывал комедию, периодически начинал писать ее, вводил новые сцены и уничтожал прежние, читал отрывки знакомым. И вдруг в сентябре 1820 г. он увидел вещий сон. Вот что рассказал сам Грибоедов в письме к неизвестной нам даме:
Вхожу в дом, в нем праздничный вечер; я в этом доме не бывал прежде. Хозяин и хозяйка. Поль с женою меня принимают в двери. Пробегаю первый зал и еще несколько других. Везде освещение; то тесно между людьми, то просторно. Попадаются многие лица, одно как будто моего дяди, другие тоже знакомые, дохожу до последней комнаты, толпа народу, кто за ужином, кто за разговором, мы там тоже сидели в углу, наклонившись к кому-то, шептали <…> Необыкновенно приятное чувство и не новое, а по воспоминанию мелькнуло во мне, я повернулся и еще куда-то пошел, где-то был, воротился; вы из той же комнаты выходите ко мне навстречу. Первое ваше слово: «Вы ли это, А. С.? Как переменились. Узнать нельзя. Пойдемте со мной», увлекли далеко от посторонних в уединенную, длинную боковую комнату, к широкому окошку, головой прислонились к моей щеке, щека у меня разгорелась, и подивитесь! вам труда стоило, нагибались, чтобы коснуться моего лица, а я, кажется, всегда был выше вас гораздо. Но во сне величины искажаются, а все это сон, не забудьте… Тут вы долго ко мне приставали с расспросами, написал ли я что-нибудь для вас? Вынудили у меня признание, что я давно отшатнулся, отложился от всякого письма, охоты нет, ума нет – вы досадовали. – Дайте мне обещание, что напишете. – Что же вам угодно? – Сами знаете. – Когда же должно быть готово? – Через год непременно. – Обязываюсь. – Через год, клятву дайте… – И я дал ее с трепетом. В эту минуту малорослый человек в близком от нас расстоянии, но которого я, давно слепой, не довидел, внятно произнес эти слова: лень губит всякий талант. А вы обернитесь к человеку: посмотрите, кто здесь?.. Он поднял голову, ахнул, с визгом бросился мне на шею, дружески меня душит… Катенин!.. Я пробудился… Хотелось опять позабыться тем же приятным сном. Не мог. Встав, вышел освежиться. Чудное небо! Нигде звезды не светят так ярко, как в этой скучной Персии! Муэдзин с высоты минара звонким голосом возвещал ранний час молитвы (пополуночи), ему вторили, со всех мечетей, наконец, ветер подул сильнее, ночная стужа развеяла мое беспамятство, затеплил свечку в моей храмине, сажусь писать и живо помню мое обещание; во сне дано, наяву исполнится.
С того времени работа над комедией оживилась, хотя автор еще долго писал ее – до лета 1823 г.
Увлекательна история замысла пушкинской «Капитанской дочки». Она весьма обширна, и подробно изложить ее здесь, увы, невозможно. О первой, интуитивной фазе мы ничего не знаем, поэтому сосредоточимся на второй. Мечта создать исторический роман (тогда в моду вошли сочинения Вальтера Скотта) на отечественном материале владела поэтом с 1820‐х. Он знакомился в архивах с судьбами разных людей, так или иначе связанных с Пугачевым: среди них были те, кто изменил присяге – или заслужил благодарность предводителя восставших, те, кто чудом остался жив – или был казнен бунтовщиками. Образ Пугачева двоился в глазах писателя: с одной стороны, документы говорили о непомерной кровожадности казацкого царя, с другой – очевидцы событий, древние старики, с которыми лично беседовал Пушкин в путешествии по Оренбургской и Казанской губерниям, вспоминали о «батюшке-царе Петре Третьем» с благодарностью и почтением. Мы не знаем, что происходило в душе Пушкина при столкновении этих точек зрения. С одной стороны, он был государственником и адептом исполнения закона, с другой – сторонником человечности превыше всего.
Ближе всех, наверное, подошел к разгадке образа Пугачева Абрам Терц (Андрей Донатович Синявский, 1925–1997) в «Путешествии на Черную речку».
Пугачев – оборотень. Он появляется внезапно из «мутного кружения метели», в предварение мужицкого бунта, и в первый момент, как оборотень, не поддается четкой фиксации. <…> Между тем Пугачев при ближайшем знакомстве оказывается простым мужиком, чье лицо не лишено даже некоторой приятности (а что вы хотите от оборотня?). <…> И все же в человеческом облике и в повадках Пугачева проскакивает временами что-то волчье (верхнее чутье, сметливость и расторопность на неведомых дорожках в степи, полномочия Вожатого, Вожака, Вождя в дикой стае, кровожадность, воющее одиночество). Через весь роман, по лучшим стандартам, проносится огненный, волчий взгляд Пугачева. <…> Но главный факт, устанавливающий – на острие иглы! – оборотничество Пугачева, принадлежит истории. Это уже, так сказать, объективный исторический факт, и мог ли тут Пушкин остаться равнодушным? Как было упустить вполне правдоподобный, разработанный урок обращения неизвестного бродяги в царя, восколебавший половину России?! <…> Не сочувствуя революции, Пушкин влекся к Пугачеву. Уж больно интересной и поучительной показалась ему история, что сама ложилась под ноги и становилась художеством. От «Истории Пугачевского бунта», удостоверенной всеми, какие ни на есть документами, отделилась ни на что не похожая, своенравная «Капитанская дочка»…
Автор протер глаза. Выполнив долг историка, он словно забыл о нем и наново, будто впервые видит, вгляделся в Пугачева. И не узнал. Злодей продолжал свирепствовать, но возбуждал симпатию. Чудо, преподанное языком черни, пленяло. Автор замер перед странной игрой действительности в искусство. Волшебная дудочка, как выяснилось, пылилась у него под носом. Смысл и стимул творчества ему открылись. Он встретил Оборотня.
Факт – зерно никому не известного растения, попадающее в плодородную почву авторского мира. Замысел – первая ступень перехода от внехудожественной действительности к художественной.
Заглавие (название)
– одно или несколько слов, вынесенных перед текстом произведения.
Заглавие передает художественную идею произведения, как в случае с романом Герцена «Кто виноват?», Тургенева «Отцы и дети». Заглавия могут также указывать на тему (одну из тем), на проблему (одну из проблем), на главного героя произведения. «Недоросль» Дениса Ивановича Фонвизина – указание на тему, «Горе от ума» Александра Сергеевича Грибоедова или «Герой нашего времени» – на проблему, «Евгений Онегин» – на главного героя, «Вишневый сад» Антона Павловича Чехова – на проблематику. Заглавие обозначает и со- или противопоставление: «Война и мир», «Отцы и дети».
Часто задается вопрос, в чем смысл заглавия такого-то произведения. Отвечать на него следует только исходя из художественного целого данной вещи. Так, с первого взгляда «Горе от ума» – комедия о Чацком, который сделан Грибоедовым действительно смешным: персонаж врывается с утра пораньше в дом, где не был три года, с порога клянется в любви, не понимая, что трехлетнее молчание обидит любую девушку, не слышит, о чем ему говорят прямо, вступает в споры, не утруждаясь пониманием, готов ли его собеседник… Однако на самом деле состояние, которое можно назвать «горем от ума» (недаром выражение стало афоризмом), переживают еще два героя – умная, начитанная интеллектуалка Софья и государственный чиновник высокого ранга Фамусов.
Софья придумала себе будущую жизнь исходя из двух предпосылок: во‐первых, это романы писателей-сентименталистов, в которых описаны благородные и добродетельные герои, отметающие социальные ограничения во имя любви, а во‐вторых – нравы московского общества, в котором дамы явно главные. Молчалин подходит Софье с обеих сторон. Его, безродного, Софья хочет возвысить до себя, т. е. до своего высокого положения, тем самым продемонстрировав презрение к искусственным границам (этим Софья близка Чацкому). Одновременно бессловесный Молчалин станет, как кажется героине, идеальным мужем – вот уж кто точно никуда не исчезнет на три года, чтобы заниматься какими-то мужскими делами, «ума искать», раз есть взаимная любовь! Здесь Софья явно ориентируется на Наталью Дмитриевну Горич. Ослепленная блестящим, в ее понимании, будущим героиня даже мысли не допускает, что возлюбленный обдуманно и холодно действует «в угодность дочери такого человека», как Фамусов. Сам отец семейства, для которого превыше всего богатство и законы общества, ощущает себя и свой дом под прицельным вниманием московских дам. Судя по его последней реплике, они умеют видеть и сквозь стены. С каждым из героев ум – а здесь это метонимия (представление целостного объекта по одной из его составляющих) способности формировать картину мира в соответствии со своими предпочтениями, – сыграл злую шутку, заставив переживать горе.
Или возьмем название пьесы Фонвизина «Недоросль». В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля (XIX в.) слово «недоросль» объясняется так: «Не достигший полных лет, обычно 21 года; невзрослый, не вошедший во все года, в полный возраст, невозмужалый». В современном «Словаре русского языка» С. И. Ожегова читаем: «1. В России в 18 в.: молодой дворянин, не достигший совершеннолетия и не поступивший еще на государственную службу. 2. переносное. Глуповатый юноша-недоучка». Заметно, что второго современного значения не существовало во время Фонвизина, но в нашем языке оно есть, и пришло оно из комедии «Недоросль», где выведен как раз такой герой: он не просто глуп, его невежество – воинствующее.
Благодаря исследованиям Лотмана мы знаем, как употреблялось это слово в XVIII–XIX вв. Реформы Петра I привели к тому, что в России в первой половине XVIII столетия все дворяне-мужчины должны были обязательно проходить государственную службу. Потом эта ситуация несколько смягчилась, но идея того, что дворянин обязан служить Отечеству, была важной и в XIX в. Дворяне XVIII в., по тем или иным причинам все-таки избегавшие государственной службы, и назывались недорослями. Еще в пушкинские времена даже пожилые неслужилые дворяне должны были подписывать документы, перед фамилией употребляя слово «недоросль».
Мы видим, что словарные значения несколько усложняются. Если же мы вспомним фонвизинскую комедию, в которой идея дворянского служения государству выводится как одна из основных, то увидим: здесь «недоросль» – это еще и человек, нравственно незрелый и не желающий созревать, самостоятельно развиваться, не состоявшийся как личность, не желающий трудиться на благо Отечества, получать знания. Художественный образ Митрофана Простакова постепенно стал знаком молодого дворянина, в котором не воспитано ощущения долга перед государством: он понимает лишь, что благодаря своему происхождению имеет право на злокачественную леность. И поныне любого молодого человека, пренебрегающего учебой и избегающего ответственности, мы называем Митрофанушкой.
Существование Митрофана таким, каким его воспитывает мать, и ему подобных, с точки зрения Фонвизина, оказывается прямой угрозой всему Российскому государству. Авторский пафос направлен на то, чтобы искоренить это страшное зло. И вот тут-то возникает художественность: слово «недоросль» приобретает дополнительные оттенки значения, которые возникают при чтении комедии. Влияние художественного образа оказалось столь велико, что, употребляя слово недоросль, мы порой уже и не помним его исторического значения.
А вот случай, когда изменение заглавия меняет смысл произведения. Документальное историческое повествование Пушкина первоначально носило название «История Пугачева». Личный цензор автора, император Николай I, заменил его на «Историю Пугачевского бунта». Акцент, разумеется, сместился с личности на событие.
В лирике заглавие часто отсутствует, т. к. авторский замысел и его воплощение оказываются шире, чем какое-либо слово или словосочетание. В таком случае при необходимости его заменяет инци́пит.
- Математика для безнадежных гуманитариев
- Русский для тех, кто забыл правила
- Всемирная история для тех, кто не учил её в школе
- Всё, что мозг хотел знать про мозг
- География для топографических кретинов
- Политология для тех, кто не знал, что это наука
- Биология для тех, кто хочет понять и простить самку богомола
- Математика. Для тех, кто не открывал учебник
- Физика. Шрёдингер вырос, а вопросы остались
- Человек: эволюция и антропология
- Научные открытия для тех, кто любит краткость
- Климат, или Что рулит судьбой цивилизаций
- Экономика. Для тех, кто про нее не может слышать
- Физика в быту
- Антинаучная физика: загадки пространства, времени и сознания
- Медицинский ликбез. База
- Квантовая механика и парадоксы сознания
- Литература для нервных
- Таблица Менделеева. Элементы уже близко
- Антропология. Секреты счастливых обезьян