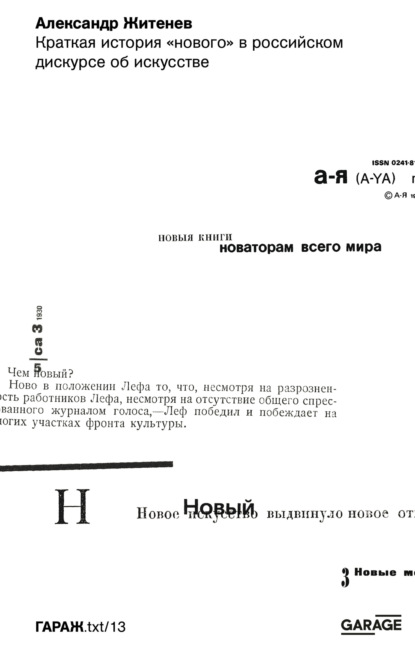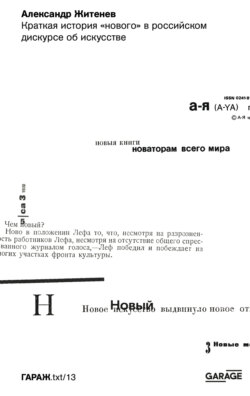
000
ОтложитьЧитал
© Александр Житенев, 2022
© Андрей Кондаков, макет, 2022
© Музей современного искусства «Гараж», 2022
Введение
Если художник хочет быть современным, означает ли это, что его творчество непременно должно быть «новым»? «Новизна» утверждается по отношению к какой-то точке отсчета или является неким перманентным качеством? Можно ли утверждать, что «новое» появляется в какой-то системе координат или оно проявляет себя в том, что создает систему координат? Возможен ли мир без «нового» и будет ли этот мир все еще миром современного искусства?[1]
Эти и другие вопросы, связанные с критерием новизны, на протяжении всего XX столетия сохраняли свою актуальность, поскольку были связаны с проблемой (само)легитимации творчества, со встраиванием его в различные ценностные и репутационные иерархии. При этом в разных исторических контекстах содержание «нового», круг закрепленных за ним смыслов и функций понимались существенно различным образом[2].
«Новое» как ценность исторически было связано с модерностью и, начиная с «Поэта современной жизни» Ш. Бодлера (1863), рассматривалось как ее самое очевидное выражение: «Процесс выздоровления можно сравнить с возвратом к детству. Выздоравливающий, как ребенок, способен с необычайной остротой увлекаться всем, даже вещами с виду самыми заурядными. ‹…› Глубокое и радостное любопытство наделяет детей пристальным взглядом и наивным жадным восторгом перед всем, что ново, будь то лицо, пейзаж, свет, позолота, краски, переливающиеся ткани, очарование красоты»[3].
В дальнейшем в философии культуры эта связь «нового» и «современного» будет снова и снова воспроизводиться. О ней заходит речь у В. Беньямина в «Краткой истории фотографии» (1931): «Новизна – качество, независимое от потребительской стоимости товара. ‹…› Искусству, начинающему сомневаться в своем предназначении и перестающему быть “inséparable de l’utilité” (Бодлер), приходится принять новое в качестве высшей ценности»[4].
О ценности «нового» в контексте «современного» пишет и Т. Адорно в «Эстетической теории» (1969): «…именно категория нового становится с середины XIX века – то есть с началом эпохи высокоразвитого капитализма – центральной, правда, в сочетании с вопросом – а не было ли уже это новое? С тех пор не удалось создать ни одного произведения, которое отвергало бы носящееся в воздухе понятие “современность”. ‹…› Новое – это тусклое пятно, пробел, пустой, как абсолютное “вот это”. ‹…› Авторитет нового – авторитет исторически неизбежного»[5].
На примере языковых исследований Н. Арутюнова указывает на относительную природу определения «нового»: «Задача сравнения, устанавливающего факт новизны, состоит в выявлении различий в пределах одного ‹…› класса. Новизна, таким образом, ‹…› устанавливается относительно уже категоризованного мира. Семантика новизны относительна. ‹…› Новое не бывает абсолютно первым. Оно скорее стремится занять позицию последнего в серии сменяющих друг друга состояний мира»[6].
Этот же тезис звучит в рассуждениях о «новом» у другого лингвиста – Р. Якобсона: «Инновация понимается ‹…› как то, что противопоставлено традиции ‹…› именно эта одновременность, с одной стороны, приверженности к традиции, с другой же – отступления от нее составляет суть каждого нового произведения искусства»[7].
Эти и другие противоречия «нового» неоднократно становились предметом анализа в концепциях, объясняющих принципы производства «нового» в культуре[8].
Для Б. Гройса в работе «О новом» этот принцип связан с переопределением границы значимого и профанного: «Любая инновация использует материал реальности, т. е. всего того банального, незаметного, неценного, ‹…› что в каждый данный момент не входит в культурный канон ‹…› При этом материал реальности каждый раз особым образом обрабатывается, эстетизируется, стилизуется или интерпретируется и таким образом адаптируется к культурному канону»[9].
Для Ж. Делёза «новое» соотносится с идеей разрыва в линейной логике развития, что делает любое соотнесение «традиции» и «новации» многовариантным: «Мы производим нечто новое лишь при условии повторения один раз на манер прошлого, другой – настоящего метаморфозы. То, что произведено, само абсолютно новое, в свою очередь, ничто иное, как повторение, третье повторение, на этот раз от избытка»[10].
«Пустота» нового делает его своего рода макгаффином, создающим напряжение в поле культурного производства и поляризующим это поле, но при этом часто лишенным очевидного содержания[11]. Это маркер высшей оценки, смысловое наполнение которого может быть разным. «Новое» не равно самому себе не только в том смысле, что оно может соотноситься с разными реалиями, но и в том смысле, что может по-разному пониматься.
Так, для О. Аронсона «новое» – это понятие, исторически связанное с концептом «гения» и указывающее на «оригинальность» создаваемых им форм: «Сегодня, как мне кажется, если ты назвался художником, ты должен делать что-то ‹…› что вовсе не будет “новым”, но что будет продолжать какой-то жест, который когда-то был новым ‹…› Новое сегодня – это исключенный жест»[12].
А для Е. Петровской – это слово, имеющее отношение не к понятийной сфере, а к экзистенциальной реальности: «Новое – это то, что вырывается за рамки теоретизирующего и, шире, рационального мышления и утверждается только единственным способом, а именно через поступок. ‹…› Новое ‹…› является вызовом человеческой конечности. Обреченные на смерть, люди утверждают себя, когда начинают – начинают что-то новое»[13].
В оценке искусства XX века критерий новизны всегда имел решающее значение. Новизна была связана с идеей переустройства мира средствами искусства и рассматривалась как предвестие перемен во всех областях социальной практики. Авангардистская абсолютизация «нового» получила закрепление и в творческих декларациях, и в эстетической теории. При этом самым радикальным проявлением новизны стал пересмотр границ искусства и представлений о художественности. Даже полная исчерпанность авангардистской парадигмы не означала отказа от «нового» как важнейшего оценочного критерия, который был и остается предметом активных дискуссий.
Обращение к широкому контексту XX века позволяет говорить о своего рода омонимии «нового», о принципиально разных способах его «локализации» в культуре.
1. «Новое» может рассматриваться как событие, меняющее самосознание субъекта и возвращающее его к ритуальному «началу». Оно корреспондирует с такими феноменами, как «деавтоматизация» восприятия, выход из творческого кризиса, «второе рождение». Быть «новым» здесь означает быть живым, воспроизводить себя, преодолевая собственные объективации[14].
В этом контексте с «новым» соотносится изменение чувственности, трансформация видения. В предельном выражении это экстатическое и болевое «новое»[15].
2. «Новое» может интерпретироваться как субстанция креативности, воплощенная способность к художественному изобретательству[16]. В этом случае важен не тот или иной характер связей с традицией, а способность снова и снова создавать «иное» по отношению к системе искусства, видеть то, чего никто не видит, проводить границы там, где их раньше не было[17].
Это «новое» всего внесистемного, уникальный жест проблематизации, который окостеневает в традиции в виде приема или образа-знака. Это оспариваемое «новое» творческого первенства, «новое» сенсации и моды. Оно связано с эффективной коммуникацией и широтой резонанса, оно создает ситуацию принуждения к изобретательству, к определению себя через отталкивание от известного[18].
3. «Новое» может быть связано с тотальностью проекта, с универсальностью творческой идеи, способной проникать в самые разные практики. Это новизна определенного способа мыслить или производить вещи, новизна авторского поведения или «делания», возводимого к единому творческому принципу.
Это ориентирующее «новое», изобретение-веха, без соотнесения с которым художник не может обрести самостоятельность. Такое «новое» очерчивает горизонт возможного в ту или иную эпоху, предлагая набор образцов, точек отсчета[19].
«Новое», как и любые другие концепты культуры, имеет свою историю, но история этого понятия еще не написана[20]. В этой книге будут пунктирно охарактеризованы только два этапа из российской истории «нового» – этап его утверждения как важнейшего критерия оценки в рамках «исторического авангарда» и формирования советского проекта (1910–1920-е) и этап его критической рефлексии в неофициальной «второй культуре», в художественной эмиграции «третьей волны» и в первое постсоветское десятилетие (1990-е)[21].
Из истории «нового», таким образом, почти полностью выпадает советский период, что объясняется зависимостью искусствоведческого дискурса от дискурса идеологического, который в 1930–1970-е годы фактически обладал монополией на «новое» и при этом основывался на двух-трех простых предпосылках[22].
Предметом интереса будут художественные и литературно-художественные журналы, которые, на мой взгляд, позволяют более полно реконструировать «историю дискурса»[23], чем работа с текстами отдельных, пусть и крупных, теоретиков искусства. Журнал всегда предъявляет спектр позиций, ряд решений – и это кажется особенно важным при попытке историзации «нового».
Оговоримся, что в рамках этой книги не будут затронуты темы, которые, при всей их близости к теме «нового», связаны все же с иными проблемными полями. Это тема изобретения, поскольку в этом случае в фокусе оказывается феноменология события[24]; тема инновации, в которой внимание сосредоточено на экономическом потенциале культурных технологий[25], и тема модерности, имеющая отношение скорее к способам осмысления времени и развития, чем к способам производства «нового»[26].
Глава 1. «Новое» в журнале «Аполлон»
Первым шагом в историческом обзоре будет исследование семантики «нового» в одном из самых значительных изданий русского модернизма – журнале «Аполлон» (1909–1917).
Универсализм «Аполлона» давно отмечен историками культуры. П. Дмитриев в числе важнейших признаков издания называет «попытку широкого взгляда изнутри культурной традиции ‹…› и поиски своего места в ней»[27].
В «Аполлоне» новизна осознается как важный признак эстетической актуальности, прямо связанный с масштабом влияния. Характеризуя сборник «Кипарисовый ларец» И. Анненского как «катехизис современной чувствительности», Н. Гумилев отмечает, что «круг идей» его автора «остро нов»[28]. У М. Кузмина через категорию «нового» определяется сама творческая способность: «Друг мой, имея талант, то есть уменье по-своему, по-новому видеть мир, ‹…› пишите логично…»[29]. Вместе с тем «новое» в журнале увидено сквозь целый ряд призм, исключающих возможность его абсолютизации.
Новизна последовательно, особенно в статьях С. Маковского, характеризуется как важный, но не единственный критерий ценности высказывания. Любое акцентирование новизны может рассматриваться только как предварительное условие создания художественного языка: «Мы знаем историю этой “борьбы за новое искусство”. Чтобы вернуть живописи утраченные ею ценности, чтобы излечить ее от антихудожественности, ‹…› художникам-реформаторам пришлось как бы “начать сначала” ‹…› отстранив от себя более общие, более сложные и более окончательные задачи»[30].
В характеристике новизны важным оказывается не единство контекста, в котором все явления можно измерить общей мерой, а уникальность художественного примера. Здесь уместно вспомнить апологическое высказывание С. Маковского о Валентине Серове: «Я знаю – в глазах русской молодежи Серов “уже устарел”. Серов академичен, недостаточно новатор ‹…› Но, говоря по совести, что может быть новее искренности?»[31]. Суть такого подхода становится очевидной из работы М. Кузмина, разделяющего новизну «голоса» и «приема»: «Наслаждаться художественным произведением не по неслыханности нового личного голоса, а по новизне принципов и приемов есть временное достояние исключительно современных вещей…»[32].
Оппозиция «голоса» и «приема» сопряжена с характерным для «Аполлона» утверждением о том, что «новое» является средством удостоверения уникальности субъекта и его места в культуре. Об этом смысле новизны пишет А. Шервашидзе: «Гордый дух современного художника сознал себя достаточно сильным для того, чтобы раскрыть в свою очередь великую книгу Жизни, смело найти в ней предназначенную для него страницу, ‹…› повторить ее в искусстве и вылить свое прекрасное волнение в новые формы и, совершив все это только из неодолимого желания, – сделаться человеком своего времени и своей расы»[33].
Если ценность «нового» состоит в наделении смыслом индивидуального бытия, то средством достижения этой цели оказывается последовательное отождествление «быть» с «видеть», а «видеть» с «выражать». Быть новым – значит уметь видеть по-новому и найти форму для закрепления этого видения. В работе о «художниках-аналитиках» Н. Радлов связывает переход явления в эстетическое качество с его преломленностью в восприятии художника: «Художник-аналитик стремится прежде всего увидеть ‹…› “Как” всецело торжествует над “что”. Центр тяжести перенесен на художническую личность. ‹…› Мы стремимся к новому искусству»[34].
Ценность личностных обертонов «нового» оттеняется с помощью разных ситуативных определений. При этом признание личностного характера новизны допускает различные ограничения «индивидуализма». Н. Радлов, например, выражает неприятие «точки зрения»: «Требование, предъявленное художнику после долгих лет рутинного “реализма” – видеть по-своему – выродилось в стремление видеть непременно по-новому. ‹…› Новизна взгляда на природу, новизна способа изображения стали мерилом ценности произведения. По-новому, во что бы то ни стало по-новому!»[35]. У С. Маковского неприятие индивидуализма – это несогласие с абсолютизацией приема: «Дело не в методе, а в творческом вдохновении и в творческом знании. Поэтому неизмеримо лучше – метод не столь новый и большой “знающий” талант, чем наоборот»[36].
Б. Анреп устанавливает связи между «новым», «субъективным» и «музыкальным»: «Идея нового искусства ‹…› состоит в том, что оно ‹…› есть непосредственное ‹…› воплощение особых душевных волнений. Цель нового искусства – создать зрительную музыку[37]. «Музыкальная» психология новаторства в публикациях «Аполлона» характеризуется несколькими чертами, важнейшей из которых оказывается «нетерпение». Нетерпение трактуется как потребность высказаться поверх условностей. Об этом, говоря о «страстности» Ван Гога, пишет А. Шервашидзе: «Одинокий, сильный, горячий темперамент, нетерпеливый, всеподчиняющий! У него не было ни достаточно знаний, ни метода, чтобы делать спокойно и уверенно работу синтеза, ‹…› без которой ни один шедевр, полный страсти и огня, не создается»[38].
Нетерпение, как явствует из заметки С. Ауслендера о Комиссаржевской, связано с неспособностью соразмерить желания с реальностью: «Комиссаржевской не было суждено успокоиться, узнать радость настоящего достижения. ‹…› Но главная причина, мне кажется, лежит в самой Комиссаржевской: она слишком горела, слишком жадно и нетерпеливо хотела того, о чем позволено только мечтать…»[39].
«Нетерпение» тесно связано с другими признаками – дилетантизмом и абсолютизацией открытия. О дилетантизме в контексте апологии «оригинальности» пишет С. Маковский: «Конечно, Судейкин еще не мастер; упрек в дилетантизме до известной степени им заслужен. Но ‹…› разве нет налета дилетантизма почти на всем даровитом и оригинальном, что было создано русской живописью за последнее время?»[40].
О «догматизме» и даже «порочности» новаторства применительно к кубизму рассуждает Б. Анреп: «В “кубизме” мы встречаемся с тем же общим пороком многих новаторов. А именно с обольщением себя и других каким-нибудь одним принципом искусства ‹…›. “Кубисты”, как и другие “пророки”, выбирают какую-нибудь истину, которою пренебрегали ранее, и возводят ее в исключительный догмат…»[41].
Важный элемент любой концепции «нового» – интерпретация смены художественных эпох, способ включения субъекта оценочного высказывания в движущуюся временную перспективу. История «Аполлона» в этом отношении представляет особый интерес. Апология новизны была здесь подчинена разноречивым правилам, что обусловило, в частности, парадоксальную коллизию отказа в новизне представителям русского авангарда.
Исследователями уже были описаны фазы интерпретации футуризма в журнале, отмечено, что в его декларациях авторами «Аполлона» прочитывались «знаменательные и весьма опасные ‹…› тенденции в современном искусстве и – шире – европейской культуре»[42]. Отчасти эта опасность была связана со спекуляцией новизной, а поскольку «борьба с лженоваторством» была обозначена в приоритетах «Аполлона» еще в первом номере, закономерно, что к футуризму на его страницах было предъявлено немало претензий.
Первый из аргументов против – неоригинальность самого требования разрыва с прошлым, претензии на подведение черты под предшествующей культурой. Об этом пишет В. Чудовский, полемически «состаривший» оппонентов: «Идея футуризма, несомненно, нова; но у этой идеи такая старая история! ‹…› Футуризм есть благоговение перед будущим ‹…› Этой мысли лет полтораста»; «Они поставили последнюю точку, они подвели итог под очень старым течением ‹…› действие почти старческое…»[43].
Еще один аргумент – вторичность по отношению к европейскому культурному контексту, связываемая с недостаточной искушенностью в истории и теории искусства. «Легкомысленно нападать на новаторство, пусть даже самое революционное, ex principio, только потому, что мы не привыкли к известным формам. – отмечает С. Маковский, – Но отсюда вовсе не следует, что подражание приемам самых современных новаторов сколько-нибудь нужнее, чем подражание старикам»[44]. Подражательность футуризма для него – очевидная данность, удостоверяемая комизмом результата: «Среди сотен художников – ни одного мастера, все подмастерья ‹…› Надо ли удивляться, что в России постимпрессионизм приобрел оттенок скороспелости, неряшества, провинциализма, сугубой кружковщины и несколько смешного озорства?»[45].
Довод против авангарда, который субъективно представляется наиболее сильным, был связан с выходом за привычные границы искусства, что рассматривается как тупик: «Наши “молодые”, в создавшихся условиях безудержного порыва “вперед” как будто спешат перегнать самих себя… ‹…› Надо ли говорить, что, ‹…› выйдя из плоскости холста, художник тем самым отказывается от живописи ‹…› Искусство ли это?»[46]. Для С. Маковского и Н. Радлова это вопрос риторический: «Художественная мысль делается настолько робкой и неуловимой, что практически падают границы между произведением искусства и произведением природы»[47].
Но авторы журнала не были в этом вопросе единодушны. Так, в работах Н. Пунина выражается вполне сочувственное приятие авангардистского внимания к фактуре: «В настоящее время особенную остроту получил вопрос о художественном материале ‹…› Мало нарисовать, необходимо еще нарисовать углем, карандашом, сангиной или тушью, иначе говоря – раскрыть силу самого материала»[48].
Такое отсутствие единства в оценках – не просто следствие разницы подходов, но результат теоретической непроработанности различия между модернистским и авангардистским искусством и, в частности, вопроса о пределах «допустимой» новизны. В публикациях С. Маковского прямо обозначается преемственность футуризма по отношению к постимпрессионизму, но если это так, то все «тропы новаторства» неслучайны: «Метод “деформизма”, не останавливающийся ни перед какой чудовищностью или явной дисгармонией ‹…› это искание жизненности во что бы то ни стало ‹…› отвечает какой-то глубокой потребности нашей эпохи»[49].
Об отсутствии последовательности в критике авангарда как о риторическом поражении в одном из последних номеров «Аполлона» пишет Н. Радлов: «Футуристов нельзя было гнать – из боязни пропустить. ‹…› Надо было вынуть жало, сделать футуризм по возможности безвредным или, по крайней мере, не смертельно уязвляющим. Это жало – нетерпимость футуризма. ‹…› Критике пришлось обойти этот вопрос»[50]. Это поражение было тем более чувствительно, что «Мир искусства», всегда с сочувственным вниманием воспринимавшийся в журнале и обещавший «новое течение в искусстве», не оправдал ожиданий и оказался всего лишь «случайной рамой окна, сквозь которую мы видим ‹…› подстриженную аллею Людовика Четырнадцатого»[51].
- В поисках потерянного звука. Экспериментальная звуковая культура России и СССР первой половины ХХ века
- Theatrum mundi. Подвижный лексикон
- Медиум для масс – сознание через глаз. Фотомонтаж и оптический поворот в раннесоветской России
- Лидия Мастеркова: право на эксперимент
- Пора Сецессионов. Выставочные стратегии русского модерна
- Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, «бывшая» и другие в искусстве 1917–1939 годов
- Краткая история «нового» в российском дискурсе об искусстве
- Герварт Вальден – куратор нового искусства. Жизнь и судьба
- Её жизнь в искусстве: образование, карьера и семья художницы конца ХIХ – начала ХХ века
- «Зритель, будь активен!» Как музеи рассказывали об искусстве в 1920–1930-е годы