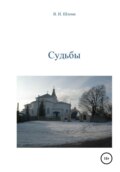Воспоминания
Пытаюсь понять, с какого времени я себя помню. В памяти всплывают отдельные события, но точно не помню, что было раньше, а что позже. Можно попытаться восстановить порядок следования этих событий по фотографиям. Мама каждый год нас фотографировала и подписывала эти фотографии. Для этого к нам домой приезжал фотограф с фотоаппаратом на треноге. Он устанавливал свою треногу, накручивал на нее фотоаппарат, накрывался черным покрывалом и наводил резкость на матовом стекле. Затем вынимал рамку с матовым стеклом, на ее место ставил рамку с фото-пластиной, говорил: «внимание, сейчас вылетит птичка», и нажимал на кнопку на тросике. Слышен был щелчок и изменялся цвет линзы в объективе. Мне разрешили посмотреть в этот фотоаппарат. Там было все вверх ногами!
На этом фото мне, скорее всего, полгода.
Помню старую хату под соломенной крышей, с высоким, по крайней мере для меня, крыльцом, которое было огорожено в виде перил жердями, чтобы случайно с него не упасть. Хата, как я потом узнал, обычная пятистенная, то есть четыре стены внешние и одна внутренняя, делит дом пополам. С порога попадаешь в сени, с них налево дверь в комнату, а прямо дверь в камору, то есть кладовку. Справа в сенях был небольшой деревянный подвал, где хранились овощи. Над ним стояли мешки с зерном и мукой, и скрыня, в которой хранилось все бельё и одежда. В каморе под потолком было небольшое окошко примерно 20×20 см, поэтому там всегда был полумрак. Там хранились банки с вареньем, дежа (кадка) с салом и бочки с квашенной капустой и солеными огурцами. Дежа – это деревянная круглая емкость с крышкой, диаметром примерно 70 см и высотой 50 см. Таких емкостей было две, в одной хранилось сало, а в другой замешивали тесто для выпечки хлеба. Кстати, сало было вкусным только зимой, когда было свежим. Летом один его запах отбивал желание его съесть.
В комнате, прежде всего, справа стояла большая печь и грубка с лежанкой, возле которой стояли полати (настил из досок вместо кровати). В дальнем правом углу деревянная кровать, покрашенная под красное дерево, на которой спали родители. Дети с бабушкой спали на полатях. Вдоль стены слева стояли две длинные лавки, и в дальнем левом углу стол. В ближнем левом углу – небольшая лавка, на которой стояло ведро с водой. В комнате было три окна, которые могли изнутри закрываться деревянными ставнями. Полы, везде кроме каморы, были земляными, и мама раз в неделю мазала их для красоты желтой глиной. В углу, там, где обычно висят иконы, висела картина «Катерина» Т. Г Шевченко, которую мама сама нарисовала карандашами на обратной стороне обоев. Поскольку мама была учительницей, то держать в доме иконы было нельзя, и они хранились на чердаке. После того как она ушла на пенсию и в селе снова открыли церковь, она в нее ходила вместе с отцом, но тех икон в доме я не помню. Может за время долгого лежания на чердаке они пришли в негодность, или я просто забыл.
Слева от дома, от дороги, росла большая липа, а перед домом – две груши, посаженные отцом: «жнивка» и «лимонка», очень вкусные. Справа от дома был пристроен небольшой низенький сарайчик, в котором на входе занимала место корова, в дальнем конце были небольшие отсеки для поросенка и теленка, а в промежутке между ними был насест для курей. Сразу за сараем лежала куча навоза, возле которой, с одной стороны росла яблоня, а с другой шелковица. Было очень удобно доставать до шелковиц с этой навозной кучи. Двор был отгорожен от сада и огорода жердями, по несколько жердей на столбиках. Проход в огород отгораживался воротами из жердей и такой же калиткой рядом. После прихода с пастбища, корова все время пыталась рогами открыть эту калитку и пролезть в огород. В тридцати метрах за воротами стояла клуня, в которой хранилось сено, а рядом летняя кошара для коровы. Клуня представляла собой сооружение с соломенной крышей, стены которого были сплетены из лозы, как обычно плели плетень. Все продувается. Для хранения сена в самый раз, но держать там скотину было нельзя.
Перед клуней росла, груша, которой было не меньше 100 лет, и которую только недавно спилили. Мама не помнила, кто и когда ее посадил. Груши назывались зимними. Эти груши заносили на чердак, где они и лежали всю зиму на морозе. Потом их приносили в дом, они оттаивали и только в таком виде становились съедобными. За клуней росла еще одна яблоня с темно-красными яблоками, «цыганка», а чуть дальше росла еще одна шелковица и липа. Это все были старые деревья. Кроме них был еще молодой сад, посаженный отцом. В нем было полно всего: яблоки, груши, сливы, вишни, малина, крыжовник, черная и красная смородина. Особенно были вкусными груши «Лесная красавица», но только в недозрелом виде, потом, когда они созревали, по вкусу превращались в картошку. А вот клубники не было совсем.

На фото крестная, мама с Аллой, и я, на руках у бабушки.
Помню бабушку Татьяну, когда она еще ходила. Мы с ней слушали радио. Это был детекторный радиоприемник «Комсомолец». На стене возле стола висела черная коробочка размером примерно 10×15 см, а под ней на гвоздике висели наушники. Радио смонтировал отец. На верхушках яблони возле сарая и на груше возле клуни были прибиты жерди, между которыми был натянут провод, примерно 30м длиной, служивший антенной. Я любил слушать передачи под названием «театр у микрофона», другое меня не интересовало. Скорее всего мне тогда было 2,5 года.
Позже, когда мы были с бабушкой дома вдвоем и по радио передали сообщение о смерти Сталина, бабушка сильно плакала, так как не знала, как мы теперь будем жить дальше. Почему-то не помню, где тогда была сестра Алла. Это мне уже точно было 4 года.
Нашими соседками на улице были две уже взрослые девушки, которые заканчивали школу, дочери двух родных братьев, Митрофана и Николая Василенко. Такие же разные, как и их отцы. Дед Митрофан и дед Николай отличались как небо и земля. Дед Митрофан – добродушный, отзывчивый, мастер на все руки, всегда готовый прийти к соседям на помощь. Брат был его противоположностью – закрытый, несколько нелюдимый, в свой дом старался никого не пускать, правда любил поговорить о политике.

Фото с Галей
Дочь деда Митрофана Галя была веселой, общительной, дочь деда Николая Люда – скованной, чрезмерно стеснительной, необщительной. Люда по ночам боялась спать без света, поэтому у них в доме всю ночь горела керосиновая лампа. На одном керосине можно было разориться. Сохранилась фотография, на которой я и Алла сфотографированы с Галей. Галя и Люда фотографировались во дворе у Люды, и мы с Аллой там бегали. Заодно и мы в кадр попали. Я помню это фотографирование, но не мог вспомнить, как мы там оказались. Мне там 3,5 года. Алла подсказала, что, по рассказам мамы, нас оставляли на попечение Гали во время летних школьных каникул.
Возле двора деда Митрофана стояла длинная скамейка. По воскресеньям (раньше выходной был только один) на ней собирались девушки. К ним приезжали парни и начинались танцы под гармонь и бубен, песни. Нам с Аллой все это очень нравилось. Сейчас такого уже не увидишь. Потом Галя вышла замуж и уехала. Люда закончила институт и стала хорошим преподавателем математики, дети ее хвалили. Замуж она не вышла, и, после смерти родителей, жила одна. В свои 80 лет, когда я приезжал к Талику в гости, она еще помогала им чистить свеклу. Именно тогда я от нее и узнал о своих предках-казаках. Она показала нам казацкое седло, с которым ее предки вместе с нашими пришли в Веркиевку с Запорожской Сечи после ее разорения Петром Первым. Кстати, еще один штрих к ее портрету. В тот год два придурка, которым захотелось выпить, без согласования с ней, выкосили у нее еще зеленым ячмень, который она выращивала на зерно, и потребовали плату за работу. И она им заплатила, вместо того, чтобы потребовать компенсацию за нанесенный ущерб.
Первое яркое воспоминание об Алле у меня, пожалуй, связано с одним знаменательным событием – нам пошили зимние пальто. В чем мы ходили до этого, я не помню. Пальто были классные, с воротниками из черного каракуля. На манжетах рукавов пальто Аллы были еще украшения из остатков каракуля, а на моем не было. Я просил и мне такие пришить, но каракуля больше не было и портной мне объяснил, что такие украшения пришивают только девочкам, мальчикам не пришивают. Мне очень хотелось такие украшения, но раз мальчикам нельзя, то пришлось смириться.
Пальтишки нам сшил соседский дедушка Осипенко, живший от нас через три дома. Пальтишки были сшиты со старого маминого пальто. Портной перевернул ткань наизнанку и получились абсолютно новенькие пальтишки, которые носились пока мы из них не выросли. А дедушка был замечательный. Кроме того, что он умел шить, у него еще были в сенях жернова, а за домом ножная ступа. Такого больше ни у кого не было. К нему мы с мамой ходили молоть муку и толочь в ступе просо, чтобы получить пшено. В то время мама сама раз в неделю пекла хлеб, магазинного не было. Какой от него шел запах! А какой он был вкусный! Такого вкусного хлеба я в своей жизни больше не ел. Хотя нет, ел, только не черный, а белый. Это было, когда я служил в поселке Бершеть, под Пермью. Там в солдатской пекарне пекли удивительно вкусный белый хлеб, который можно было кушать один, без ничего.
В связи с жерновами и ступой вспомнил еще одно старинное приспособление, которое было уже у нас дома – жлукто, применявшееся для отбеливания постельного белья. Выварок, применявшихся для этой цели позже, тогда еще не было. Жлукто, это большая бочка без дна и крышки, выдолбленная из колоды липы, высотой порядка 1,2 метра и диаметром порядка 60 сантиметров с толщиной стенок порядка пяти сантиметров. Оно ставилось на доски с настеленной на них соломой. В него мама закладывала самотканое постельное белье, пересыпая его древесной золой. Потом заливала в жлукто кипяток и накрывала крышкой. Вода снизу вся вытекала, но под воздействием пара и золы белье отбеливалось, это называлось золить белье.
С игрушками у меня было не густо, но они были. Были какие-то машинки, но я их плохо помню. Я их быстро ломал, пытаясь узнать, что у них внутри. Запомнился маленький трехколесный велосипед. Не помню откуда он взялся, но на нем я ездил долго, пока в колесах не поломались спицы. А еще, когда я катался на этом велосипеде, на меня налетел драчливый петух и начал меня клевать. Я очень испугался и, как результат, начал заикаться. Пришлось отцу везти меня к бабке-шептухе. Помогло. Заикание прошло. Было еще одно неприятное событие. Не помню только, до этого случая или после. Отец ехал в лес за хвойными иголками арбой, запряженной быками. Я сидел в этой арбе, а отец шел рядом. Водитель встречной автомашины посигналил, здороваясь с отцом, а быки испугались и понесли. Я даже не предполагал, что быки могут так быстро бегать. Отец остался далеко позади, а я ухватился за вертикальные палки арбы и со всех сил старался удержаться. Арба так переваливалась с боку на бок, что я боялся чтобы она не перевернулась. Быки успокоились и остановились довольно далеко, метров через 500. Тогда я испугался не очень сильно, обошлось без последствий.
А велосипед валялся сломанным, пока не приехал в гости брат отца дядя Миша. Он периодически приезжал к нам в Нежин за запчастями к экскаваторам. Приехавший вместе с ним водитель увидел этот велосипед, взял пассатижи, обычную проволоку, и поставил ее вместо утерянных спиц. Я был счастлив, велосипед снова ездил. Кроме того, дядя Миша привез мне двуствольное курковое ружье, которое стреляло пистонами. Пистоны правда очень быстро кончились, но зато такого ружья ни у кого не было. Позже дядя Миша подарил мне еще одно двуствольное ружье. Это уже была бескурковка, стреляла пластмассовыми шариками или, как я потом приспособился, корковыми пробками от бутылок. Ружье было большое, почти как настоящее. Чтобы его зарядить, нужно было переломить его пополам, как настоящее, а затем привести в исходное положение, вставить шарики или пробки прямо в стволы и можно стрелять. Шарики правда тоже скоро закончились, пришлось приспосабливать пробки, но они были великоваты и их нужно было обрезать. Это ружье также долго не протянуло, сломались пружины.
Следующее воспоминание, бабушка уже не встает с постели, как теперь знаю, упала с лестницы и сломала шейку бедра. Мы с Аллой играем в доме под ее присмотром пока родители на работе. Я что-то хулиганю, и бабушка мне говорит, что она все видит и грозится рассказать обо всем родителям. На что я ей заявил: «тогда я тебе глаза выколю, чтобы не видела». Одним из средств воспитания у нас была постановка в угол, на этот раз я его заслужил. У Аллы с углом было все менее болезненно. Немного постояв, она говорила, что так делать больше не будет, и ее выпускали. Я же никогда не просился, и меня выпускали только перед сном.
Бабушка умерла. Я сначала не осознавал происшедшего, а потом спрятался в яслях кошары и там плакал. Там меня и нашли перед отъездом на кладбище, посадили вместе с Аллой на телегу к деду Митрофану, на которой везли веревки и лопаты. Шел дождь и нас накрыли каким-то брезентом или попоной.
В дальнейшем, пока родители на работе, нас оставляли дома одних, строго-настрого приказывая никому дверь не открывать. Так мы и сидели, выходя из дома только в туалет. Как-то пришел Витя Осипенко с ребятами, звали гулять, обещали дать леденцов, если выйду. Я не выдержал, вышел, и леденцы взял, но идти гулять отказался. Витя потребовал вернуть леденцы. Я разозлился, выбросил леденцы в траву ему под ноги и вернулся домой. Но леденцов было жалко, и когда вернулись родители, часть из них мы с Аллой нашли и съели.
Запомнилось еще лечение. Каждый день нужно было пить этот противный рыбий жир. Кто его только придумал? Даже дышать паром над горшком картошки при простуде было легче. Еще давали пить сок из листьев алое и натирали грудную клетку растопленным гусиным жиром при простуде. Помогало. А чай, заваренный на ветках смородины и малины, да еще с малиновым вареньем – это всегда с удовольствием.
Еда у нас была простой, но ее было достаточно. Голодными никогда не сидели. Поскольку холодильников не было, и родители работали, времени утром на готовку было очень мало, а приготовить нужно было завтрак, обед и ужин, поэтому все готовилось в печи сразу. На завтрак почти всегда был суп. На обед, на первое, борщ или фасольный суп с небольшой косточкой старого соленого мяса, которое предварительно вымачивали, но убрать из него соль было невозможно. Оно было настолько соленым, что есть его тоже было практически невозможно. На второе обычно была тушеная картошка с салом или какая ни будь каша. Картошка готовилась очень просто – в чугунок закладывалась очищенная и порезанная на кусочки картошка, а сверху клался кусочек соленого сала граммов на двести, чугунок ставился в печь и вынимался в обед. Для заправки каши в небольшом горшочке хранилась специальная приправа – смалец с жаренным луком. Кто такую кашу не пробовал, не поверит, насколько это вкусно. В ужин съедали то, что не съели в обед. Иногда зимними вечерами запекали в грубке картошку в мундирах, и ели ее, еще горячую и обжигающую, с мерзлым салом. Это тоже был деликатес.
Свежее мясо купить было негде, да и не на что. Мяса было вдоволь только зимой, когда резали поросенка. Тогда были и мясо, и колбасы, и начиненные требухой кишки, и ковбык (начиненный требухой желудок). Часть сала и мяса всегда раздавали соседям, а они, когда резали своего поросенка, поступали так же. Поэтому, когда соседи нам приносили кусочек свежего сала и мяса, у нас также был небольшой праздник и был вкусный борщ. Был еще один свиной деликатес. Толстые кишки хорошо промывали и солили. Потом, по мере надобности, их вымачивали, начиняли мелко натертой картошкой и запекали. Вот это действительно вкуснятина. В России этого не делают, а жаль.
Утром по выходным делали оладьи из картошки, в России они называются драниками, вкуснейшее блюдо со сметаной или с постным маслом. По праздникам мама варила галушки и налистники. Это особые блюда, такие делали только на Украине, и то не везде. Раскрываю секретный рецепт. Сначала замешивают на молоке в соотношении 1/1 муку и крахмал, и жарят тонкие блины. Для галушек эти блины режут на полоски и варят в молоке с добавлением сахара. Для налистников блин режут на две части и в них заворачивают сладкий творог. Налистники складывают в кастрюльку и тушат с добавлением сливочного масла. Оба блюда – это вообще объедение.
Праздники еще были, когда отец возвращался из Нежина с базара, где что-то продавал, чтобы заработать немного денег. В колхозе ведь работали за трудодни, на которые только в конце года выдавали несколько мешков зерна и совсем немножко денег. Так вот, с этих поездок отец всегда привозил порядка килограмма вареной колбасы. Колбаса имела удивительный запах и была очень вкусной. Жаль только, что съедалась она очень быстро, на второй день от нее уже ничего не оставалось.
Но это были праздники. А обычно был суп из фасоли, без мяса, немного заправленный соленым салом. Именно он мне запомнился больше всего. Отец шутил, что 40 кг фасоли заменяют килограмм мяса. Фасольный суп я терпеть не могу до сих пор, как и перловую кашу, которую я три года кушал почти каждый день, когда жил в казарме.
Итак, я уже почти большой, больше 4-х лет. Мы с Аллой одни оставались до обеда дома. Жизнь текла тихо и мирно, пока подвал в сенях, о котором я ранее упоминал, не сыграл со мной злую шутку. Над подвалом еще висела связка веток калины с ягодами. Они были ярко красные, и так притягивали, что мне захотелось их попробовать. Вот только висели они высоковато. Я несколько раз пытался до них допрыгнуть, но безуспешно. Собрав все силы я прыгнул еще раз, и почти достал. Но видимо я прыгнул слишком высоко. При приземлении, прогнившая деревянная крыша подвала обвалилась, причем почти вся, осталась стоять только скрыня. Видимо сломались продольные балки, и я, вместе с крышей, рухнул в подвал. Сколько я там просидел до прихода родителей, я не помню. Испуг был жутким. Я опять стал заикаться, да так, что вообще на мог разговаривать. Я помню это состояние – мысли улетают вперед, а язык за ними не поспевает, в итоге ничего на можешь сказать. Опять меня повезли к бабке-шептухе, на этот раз с соседской девочкой Олей Василенко, дочерью соседа Петра, которая была старше меня года на четыре и тоже заикалась. Ехали лошадью на санях. Была ранняя весна, уже везде были проталины. Проехали проезд под железной дорогой, выехали на поле, и тут лошадь куда-то провалилась, причем очень глубоко. Она барахталась в этой яме и не могла из нее выбраться. Мы с Олей опять испугались. Отец долго не мог вытащить лошадь из этой ямы, но все-таки с этой задачей справился, и мы поехали дальше. Процедура лечения у бабки была следующей. Бабка что-то шептала, крестила, выстригала на голове накрест немножко волос, в косяке двери сверлила буравчиком дырочку, закладывала туда волосы и забивала дырку деревянной пробочкой. Заикание стало меньше, но до конца не прошло, однако к бабке мы больше не ездили, говорили, что она умерла. Заикание продолжалось еще несколько лет, хотя понемногу уменьшалось. Может помогало то, что отец запомнил то, что шептала бабка и пытался лечить меня самостоятельно, а может и нет. Усиливалось оно, когда я начинал волноваться. Проявлялось это иногда даже в зрелом возрасте.
Несколько слов о сельских знахарях. После этой бабки я еще дважды убеждался в том, что они действительно помогают. Как-то случайно Алла разрезала мне ножом руку, задев при этом вену. Фонтанчик крови бил вверх сантиметров на пять. В местной больнице остановить кровь не смогли и отправили нас в нежинскую больницу, причем добираться нужно было обычным рейсовым автобусом, который ходил не очень часто. Когда мы сидели на автобусной остановке в ожидании автобуса, мама попросила кого-то из знакомых сходить к бабке, которая заговаривала кровь. Часа через два мы приехали в нежинскую больницу, и когда размотали окровавленные бинты, то оказалось, что рана абсолютно чистая, крови нет ни капли. Врач просто стянул рану лейкопластырем, который потом разошелся, и отправил нас домой, даже не зашив рану. Шрам остался довольно большой и широкий.
И второй случай, у меня очень сильно болел зуб, и мама посоветовала съездить к деду Билыму, который заговаривал зубную боль. Я поехал к нему велосипедом.
–Что, зуб болит? – спросил он, когда я зашел к нему во двор. – Езжай домой, скоро пройдет.
Я уехал в полном недоумении, даже имени не спросил. Как же он заговаривать будет? Решил, что зря съездил. Но пока я ехал домой, а это всего минут пятнадцать, зубная боль действительно прошла. Так-что в этом что-то есть, чего мы не знаем и не понимаем, оно существует вне нашего сознания.
Дальше помню детский садик, но называли его яслями. Меня водили в них два года, но только летом, возможно зимой он и не работал. Где в это время была Алла, я не помню. Алла говорит, что ее пару раз водили в садик, но ей там не понравилось, и она наотрез отказалась туда ходить. Первый год ясли размещались в обычном доме, как обычный частный, с маленьким двором, а на второй год – в большом колхозном доме с огромным двором. Потом в этом доме была контора колхоза «Заря коммунизма». Кстати, в селе тогда было четыре колхоза. В яслях мне нравилось, в основном игрались в песочнице, что-то лепили, строили. Дома песка на было, была только глина, которой мама мазала пол. Был мальчик со странным именем – Вячик. Только одно меня не устраивало в садике – дневной сон. Я ведь никогда на спал днем, а здесь днем меня пытались укладывать спать, чему я всячески сопротивлялся, наотрез отказываясь спать. Мои протесты были услышаны и меня оставили в покое. Пока другие спали, я спокойно игрался в песочнице, строил замки из песка.
Из ясельной жизни запомнились два случая. Как-то раз в ясли приехала какая-то учительница, спросила у воспитателей кто из детей самый послушный и вручила мне большой букет цветов. Воспитатели предлагали мне поставить букет в вазу, чтобы постоял там, пока за мной не придут, но я свой букет никому не отдал. Положил только на пять минут на скамейку, когда захотелось поиграть с ребятами в мяч. Через пять минут от него ничего на осталось. Было очень жалко этот букет, ведь я хотел подарить его маме.
И второй случай. Детей разделили на две команды, нужно было мячом попадать в кольцо. Оставив нас соревноваться, воспитательница ушла по своим делам. Я комментировал ход этих соревнований используя выражение, которое слышал от мужиков, когда у них что-то не получалось. При промахе я говорил: «Вот б-дь». Смысла этого выражения я конечно же не понимал, просто подражал старшим. Некоторые нехорошие дети побежали к воспитательнице и наябедничали, будто бы я матерюсь, хотя у меня такого и в мыслях не было, я ведь знал, что материться нельзя. Ни за что попал в «угол». Тоже очень обидно было.
И еще одно отрывочное воспоминание. Начало зимы. Я, Алла и внук деда, который нам с Аллой сшил пальтишки, Толя Осипенко, играем не далеко от нашего огорода, на сажалке (большого размера яма в диаметре порядка 30 метров и глубиной до двух метров, выкопанная в низине для того, чтобы туда стекала лишняя вода с ближайших огородов). Гнем план, то есть бегаем по очень тонкому первому льду, а он под нами прогибается и растрескивается на мелкие элементы, но не проваливается. При этом на поверхности льда образуется рисунок в виде паутины, и, при беге по такому люду, образуются своеобразные волны из прогибающегося льда. Очень интересное, щекочущее нервы занятие. И так бегаем до тех пор, пока под кем-то этот лед не провалится. Толя уже взрослый, он на три года старше меня и ходит в школу. Лед, почему-то, провалился под самой легкой Аллой, и она ушла под воду. Хорошо, что Толя не растерялся, быстро подбежал к этому провалу, схватил Аллу за руку и вытащил на лед. Побежали домой, каждый к себе. Я рассказал маме о геройском поступке Толика, но она его не оценила, как и мое красноречие. Она как раз убиралось в доме, и в руках у нее была мокрая тряпка. Мокрая тряпка оказалась еще одним средством воспитательного воздействия. Она отходила меня этой тряпкой с ног до головы, обещала и до Толика добраться. Аллу натерли водкой, гусиным жиром и уложили спать, а маму отец отвел в роддом, и она родила братика Талика. Через два месяца мне исполнилось пять лет.
Алла подсказала, что с купанием было не совсем так, как я описал. Она не провалилась. Там недалеко была прорубь. Толик рукой попробовал воду в проруби. Алле также захотелось поболтать воду, но рукой она не хотела, поскольку вода холодная, решила поболтать ногой. В итоге оказалась в проруби.
После рождения Талика мама находилась дома, и мы начали учить буквы по азбуке, сделанной в виде игральных карт с картинками. Мне это занятие очень нравилось. Мама говорила, что когда я выучу все буквы, она достанет Букварь, и мы будем читать. Я не мог дождаться этого момента, очень хотелось увидеть этот загадочный Букварь и начать читать. И вот наступил долгожданный день. Мама достала Букварь, и мы начали читать. Дело оказалось очень трудным, и мне оно быстро разонравилось. Дальше я учился читать, как говорится, из-под палки. Каждый день я должен был прочитать вслух определенное количество сначала абзацев, а потом страниц. Пока не прочитаю, гулять мама на пускала, а все ребята давно уже гуляли. Одним словом, это было мучение. Мне больше нравилось считать. Я быстро научился считать до двадцати, и дальше десятками до ста. Легко складывал и вычитал числа в пределах двух десятков. А еще в это время, длинными зимними вечерами мы с Аллой и мамой сидели на печи и пели песни. В основном революционные: «По долинам и по взгорьям», про Щорса, про Кармелюка, песни на стихи Шевченко.
Через несколько месяцев маме нужно было выходить на работу, а Талика девать было некуда, так как в ясли, которые находились в центре села, детей принимали только с полутора лет. У нас появилась бабка-нянька, которая жила у нас и смотрела за Таликом. Талик постоянно кричал и плакал, и бабка потребовала доплаты, потому, что ребенок очень вредный. Потом она на пару дней куда-то уезжала, и ребенок перестал кричать и плакать. С ее возвращением все возобновилось. Мама осмотрела Талика и обнаружила на его теле красные следы, как будто его специально больно щипали, чтобы он кричал. Бабку выгнали и взяли другую, после чего ребенок стал абсолютно спокойным.
Когда Талику исполнилось полтора года, мама стала носить его в ясли. Но брат оказался хилым ребенком, за год посещения садика он семь раз болел воспалением легких, и мама лежала с ним в больнице. Хорошо, что в то время в Вертиевке было все свое: и больница, и поликлиника, и роддом. Сейчас, с развитием демократии, нет ничего, в бывшей больнице осталась только машина скорой помощи с одним водителем, без врачей, да и ту нужно заправлять своим бензином, чтобы тебя отвезли в больницу в Нежин. Дальше носить Талика в садик было опасно, и его начали оставлять на попечении двоюродной бабки Ганны. Мама рассказывала Алле, что кушать там Талик отказывался, ел только печенье, которое мама клала ему в карман. Он нигде не бегал и не играл. Как мама утром сажала его на лавку в доме бабы Ганны, так он и сидел до обеда, когда мама возвращалась из школы и его забирала.
Примерно в этот период я впервые попал в Нежин. Ехали на базар на телеге, запряженной лошадью, с дедом Митрофаном и отцом. Выехали затемно, было довольно прохладно, и меня накрывали тулупом, чтобы не замерз. Утром уже были на базаре. Не помню, чем торговали, но большой бублик мне отец купил.
Родная моя бабушка Татьяна умерла рано, но были еще две двоюродные: Ганна и Домаха. Бабушка Домаха жила одна, далеко, аж возле железнодорожной станции, и к нам практически не приходила. Ее муж и старший сын не вернулись с войны. Младший, Коля, ездил на работу в Нежин в рваных сапогах, осенью промочил ноги, заболел и умер. Дочь Галя жила в Чернигове. Позже, когда повзрослел, ездил к бабушке я, возил молоко и другие продукты, которые передавала мама.
Бабушка Ганна жила недалеко от нас, вместе с невесткой Варварой и внучкой Верой. Муж ее к тому времени уже покоился на кладбище, старший сын, отец Веры, погиб на фронте, а младший Иван жил в Ичне, где работал лесничим. Бабушка к нам иногда заходила, и ее угощали селедкой. Говорили, что за селедкой она на край села в гости пойдет. Пару раз я с бабушкой Ганной ходил в церковь. Первый раз были на обычной службе. Кроме красивых икон ничего интересного я там не увидел. А второй раз были на пасху на всенощной. Какая красота, какая торжественность. Я простоял в церкви как завороженный целые полчаса. Потом все наскучило, и мы с другими мальчишками играли во дворе церкви в прятки. Ночью это очень интересно. Мальчишки учили меня как заработать в церкви на кино. Когда церковный староста будет обходить людей с подносом для пожертвований, нужно положить на поднос 5 копеек, а сдачи взять 15 копеек. Поучаствовав таким образом в благотворительности несколько раз, можно набрать нужную сумму на кино. Но я не стал этого делать, это как-то стыдно. Потом начался крестный ход, очень красивое зрелище. Мы с бабушкой тоже прошли со всеми вокруг церкви. Уже под утро народ выстроился вокруг церкви со своими корзинками с зажженными в них свечами, и священник все это освятил. Это было очень красиво. Стоило не поспать ночь чтобы увидеть всю эту красоту.
А потом бабушка взяла меня с собой при поездке в Ичню к сыну Ивану. Ехали сначала до Нежина, а потом маленьким автобусом, у которого дверь открывалась длинной ручкой с места водителя, ехали до Ични. В пути попали под сильный ливень, дорогу размыло, автобус таскало по дороге из стороны в сторону. По пути есть село с названием «Вэлыка дорога», оно наверно сильно заболочено, потому, что на всем протяжении примерно в 5 км вдоль дороги выкопаны глубокие рвы. В один из таких рвов и начало сносить наш автобус, который сильно накренился как раз в ту сторону, где мы сидели. Я думал, что мы перевернемся в этот ров, в воду, а я не умею плавать. Но все обошлось, водитель потихоньку сумел выехать.
Иван Ефимович жил в служебной трехкомнатной квартире, занимающей половину одноэтажного дома, на другой половине жила другая семья. Вместе с ним жили его жена Анна Алексеевна, дочь Люся и моя крестная, родная сестра моей мамы, тетя Тоня, которую Иван Ефимович по доброте душевной пустил жить в свою квартиру. Бабушка осмотрела эти три комнаты и осталась довольна тем, как живет сын. Потом подошла к огромному зеркалу, которое стояло в одной из комнат, и сказала: «четвертую я посмотрю завтра, сегодня уже сил нет». Люся была года на три старше меня и ми с ней быстро подружились, всюду бегали вместе. Крестная работала в пекарне и приходила домой только вечером. Мы с ней как-то ходили по магазинам, и я увидел что-то интересное, круглое в красной оболочке. Я попросить это что-то купить мне попробовать, но крестная сказала, что это голландский сыр, я его есть не буду. Домой мы с бабушкой вернулись без происшествий.