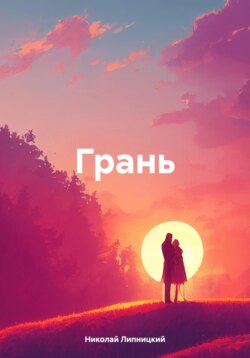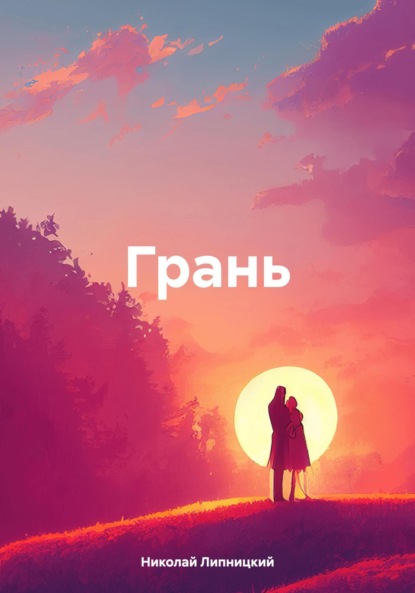Глава 1
После той аварии, когда меня, буквально, вырезали из расплющенной всмятку машины, я неделю провалялся в коме. А, дальше, два месяца, сначала, на вытяжке, а, потом, восстанавливал свой, как говорили в больнице, опорно-двигательный аппарат, в том числе, и в кабинете физиотерапии. В норму, конечно, привели, если не считать порванных сухожилий, нарушенной суставной сумки и чего-то ещё там с нервными окончаниями. Сказали, что лучше уже не будет. Наконец, меня выписали, и я, опираясь на трость и безбожно хромая, вышел из больницы, дождался автобуса и поехал в свою холостяцкую квартиру.
Долечить – не долечили а, скорее, избавились от меня. Переломы срослись? Срослись. Ходить можешь? С палочкой, но, могу. Тогда, чего лежишь, место занимаешь? Лучше, уже, не будет. Иди домой и оформляй инвалидность. Издержки бесплатной медицины. Была бы латная, лечили бы меня, пока без штанов не оставили. Зато, долго и с качественным сервисом. Толкаясь в переполненном салоне и задыхаясь от густого перегара, которым благоухал помятый мужичок рядом со мной, я с тоской вспоминал свою бедную «Мазду», которая, уже, восстановлению не подлежала. Еле дотерпел до своей остановки.
Дома всё оставалось так же, как и в тот день, когда я закрыл дверь и поехал к друзьям на дачу в предвкушении весёлой компании под гитару и шашлыки. Разве, только, пыли много. Ну, так, не мудрено за два месяца-то. Родных – никого. Некому за порядком смотреть в моё отсутствие. Значит, отдых откладывается. Не буду же я сидеть в этой грязи. Выздоравливающему чистота нужна. И, вообще, чистота – залог здоровья. Первым делом, выгреб из холодильника все испортившиеся продукты, вынес на помойку и, вернувшись, затеял генеральную уборку. С больной ногой, конечно, управляться было непросто, но гигиена требовала. Звонок в дверь так и застал меня в закатанных до колен спортивных штанах и со шваброй в руке.
Чертыхнувшись, я отставил швабру в сторону и, прихватив палочку, заковылял к выходу. Ещё и замок заел. Когда я, наконец, справился с дверью и открыл её, то увидел на пороге сухонькую женщину преклонных лет, почти старуху, с крючковатым носом, цепкими глазами и лёгкими тёмными усиками над верхней губой. Седая прядь выбилась из-под косынки и лезла на глаза. Женщина бесцеремонно отодвинула меня в сторону и прошла в квартиру.
– Простите, вы к кому? – только и сумел я выдавить из себя, растерявшись от такой наглости.
– К тебе, племянничек, – бросила она старую хозяйственную сумку из потрескавшегося кожзама на пол и уселась на стул. – К кому же ещё?
– Племянничек? – что-то, я ничего не понимаю. – Не помню, чтобы у меня была тётя.
– Ты Матвей Белогуров? Сын Степана?
– Да.
– А я – тётка Зойка, сестра твоего отца – покойника.
– Папа никогда не говорил, что у него есть родственники. Он же детдомовским был.
– Правильно. Детдомовским. Но, родня была у него. И он знал об этом.
– Почему, же, при живой родне его в детдом спровадили?
– Это отдельная история. Потом расскажу, при случае. А, сейчас, собирайся. Поедем.
– Куда?
– Лечиться, племянничек. Хворь из тебя будем выбивать.
– Какую хворь?
– А, вот эту, – кивнула тётка на палочку. – Или, всю жизнь хромать собираешься?
– Что вы мне голову морочите? – неожиданно разозлился я. – Врачи мне сказали, что хромота навсегда. Буду инвалидность оформлять.
– Тоже мне, инвалид нашёлся! – фыркнула тётка Зойка. – Много твои врачи знают?
– Ну, наверное, побольше, вашего.
– Хватит болтать! Собирай вещи, и поедем ко мне.
– Куда?
– В деревню.
– Бред какой-то.
Тем не менее, уступая тёткиному напору, я собрал вещи в спортивную сумку. Хотя, почему бы и нет? Ногу мне, конечно, никто не восстановит. Так и буду всю жизнь хромать. Но, отдохнуть на пленере, с парным молочком, домашним хлебом, походом по грибы и рыбалкой на бережку, не помешает. Пока копался в шкафу, прикидывая, что мне может понадобиться в сельской местности, тётка уже гремела чем-то на кухне. Вскоре оттуда потянуло запахом яичницы, и у меня заурчало в желудке. Вспомнилось, что время обеденное, а я в больнице отказался от надоевшей каши и съел на завтрак только хлеб с кусочком масла.
– Собрался? – выглянула из кухни тётка. – Идём, пообедаешь и в путь. До вечера нам домой нужно попасть.
– И, чего было торопиться, тогда? – проворчал я, усаживаясь за стол. – Переночевали бы, а завтра, с утречка бы, и махнули.
– А дом? А хозяйство? Нешто бросать всё это, аж, на сутки? Всё бы вам, городским, время тянуть! Разленились в городе на всём готовом! А, в деревне, племянничек, не поработаешь ручками, и не поешь.
– Рожь заколосилась и корова не доенная?
– Хоть бы и так!
Чувствуя нетерпение тётки, я подвинул к себе тарелку с яичницей, густо осыпанной измельчённым зелёным луком, и принялся за еду. На удивление, это немудрёное блюдо оказалась необычайно вкусным, и я умял яичницу за обе щёки, даже, не заметив. Тётка поставила передо мной чашку с чаем, выхватила опустевшую тарелку и, пока я пил, успела сноровисто вымыть всю посуду.
Уже на автовокзале, пока ждали отправления автобуса, я присмотрелся к тётке Зойке и, наконец, стал улавливать фамильное сходство со своим отцом. До этого, как-то, некогда было. То такси ловили, то в кассе в очереди толкались, то платформу искали, с которой должен был отправляться наш рейс. Линия губ, хоть и жёстче, но, как у отца. Так же пожимает их, когда задумывается. И глаза отцовские, только, колючие, цепкие. У отца взгляд был мягче. Наконец, объявили посадку, и мы полезли в салон.
В таких автобусах путешествовать мне ещё не доводилось. Ободранный дерматин сидений, крошащийся пластик, вырванное кусками резиновое покрытие пола, корзины и баулы в проходе и духота, густо сдобренная запахом навоза, человеческого пота и псины. Я, как-то, больше привык к комфорту междугородних лайнеров с кондиционером и вай-файем. Там, и ход плавнее, и сервис, и народ получше.
Скрипучий чахоточный автобус вёз нас по дороге, покрытой разбитым асфальтом. На остановках, кто-то выходил, кто-то заходил, суетливо рассаживаясь на свободные места. Пассажиры громко разговаривали друг с другом, пытаясь перекричать шум мотора, скулил щенок у кого-то в переноске, истошно орал кот у толстенной бабищи в объёмистой сумке, а из корзины одного мужичка доносился гусиный гогот. У меня, даже, голова разболелась от шума. Вышли на остановке возле деревушки со смешным названием Белокурьиха, домов на тридцать и с маленьким магазином у самой дороги.
Тётка Зойка забежала в магазин, купила пакет гречки и, взяв меня за руку, словно маленького, свернула в ближайший переулок. Я хотел, было, возмутиться и напомнить, что мне не тринадцать лет, но, посмотрев на суровое выражение её лица, решил промолчать. Да и, честно говоря, немного не по себе было. Ещё и деревенские дети, усевшись на штабеле брёвен у одного из заборов, уставились на меня, словно на какую-то диковинную зверюшку. Тётка подошла к покосившейся калитке с облупившейся бурой краской и, толкнув её, завела меня во двор. Под навесом лошадь меланхолично жевала сено, а возле поленницы на колоде для рубки дров сидел бородатый мужчина и смолил вонючую папиросу.
– Быстро ты, Зоя, туды-сюды обернулась.
– Так, что тянуть-то? Племяша забрала и назад. Чаи там распивать, что ли?
– Могла бы, и переночевать в городе.
– Чего это я в городе не видела? Шум да вонь одна. Да и хозяйство. Ты-то, как себя чувствуешь? Как спина?
– Ничего. Дай тебе Бог здоровья. Как начал растираться твоей мазью, так и забыл про свой радикулит.
– Вот и хорошо. Заканчиваться будет, я ещё дам.
– Может, зайдёте в дом? Я, сейчас, самовар поставлю.
– Некогда, Степан. Домой поедем.
– Ну, как знаешь.
Тётка вывела из-под навеса лошадь и запрягла её в телегу. Мужик сделал затяжку, окутавшись сизым облаком, цвиркнул в сторону жёлтой слюной и пошёл открывать ворота. Зоя подождала, когда я усядусь, сразу утонув в пахучем сене, села сама и, звонко причмокнув губами, тронула вожжи. Лошадь понуро опустила голову и потащила телегу со двора. Мимо, рыча мотором, промчался мотоциклист. Мальчишки стайкой сорвались с брёвен и помчались куда-то вдоль по улице, галдя, словно галчата. Где-то протяжно замычала корова, а на соседний забор, шумно трепеща крыльями, взлетел петух и принялся кукарекать, гордо выпятив радужно переливающуюся грудку. Я смотрел на всё это и остро чувствовал, что совершенно чужой здесь.
А, потом, мы ещё ехали минут сорок по лесной дороге. Пегая кобыла, тащившая телегу, постоянно обмахивалась хвостом, распугивая тучи мошкары, и ёкала селезёнкой. Я смотрел на кривые деревья с чахлой листвой, наполовину утонувшие в буйной зелёной траве, на чавкающую землю, на мошкару и чёрных ворон, с карканьем носившихся над головами, и думал о том, что вряд ли мне будет тут так же хорошо, как в своей квартирке. Кажется, я поторопился, согласившись на эту глупую затею.
Наконец, приехали. Не так я представлял себе отдых в деревне. Совсем не так. Бревенчатая изба, вросшая почти по самые окна в землю, небольшой огородик с чахлой растительностью, склизкая ото мха деревянная лодка у мостков в десяти метрах от крыльца и вездесущие вороны на покосившихся кольях ограды из жердей. В щелястом сарае блеяла коза, и несколько тощих кур в компании облезлого петуха бродили по двору, отыскивая что-то в чахлой траве. И всё это охвачено полукругом тёмного мрачного хвойного леса, словно теснящего усадьбу к реке. Тётка завела кобылу под навес, распрягла и, забрав из телеги мою спортивную сумку, повела меня в дом. Пройдя через небольшие сени с каким-то сельскохозяйственным инвентарём и вещами, развешенными по стенам, я вошёл в единственную комнату и огляделся.
Под потолком и на стенах сушились пучки каких-то трав, от чего в доме стоял стойкий и сильный запах разнотравья. В самом центре, занимая добрую часть помещения, возвышалась закопченная печь, у которой находился большой деревянный сундук, окованный жестью. У окна справа стоял стол, вдоль которого тянулись обычные лавки. На нём, на жестяном подносе, сверкал никелированным боком самовар, накрытая полотенчиком, стопка щербатых чашек, молочник и сахарница.
Прямо, напротив печи, притулился к бревенчатой стене старинный буфет с посудой, небольшой кухонный столик, на табуретке одиноко скучал эмалированный таз, и рядом – жестяной умывальник, а за печкой, наполовину скрытая ситцевой занавеской, стояла железная панцирная кровать с никелированными шарами на спинках, накрытая пёстрым лоскутным одеялом, со стопкой подушек поверху. Тётка Марья поставила мою сумку возле этой кровати и развела руками.
– Вот, тут ты и будешь спать, – объявила она мне.
– А вы? – удивился я.
– А я на печи. Мне, старой, там, даже, лучше. Кости греть буду.
– Не знаю, – я обвёл глазами помещение, и ещё раз сильно пожалел, что сюда приехал.
– Ну и ладно. Я, сейчас, приготовлю что-нибудь поесть. А ты, пока, пойди, во дворе погуляй. Только, к реке не ходи. Вечером неспокойно тут.
Было бы, ещё, где гулять! Вокруг лес, рядом река. И это называется деревня? Хутор какой-то, если я в хуторах, хоть, чего-то смыслю. А как понять, что тут неспокойно? Хулиганы в такой глуши, вряд ли, водятся. Зверьё, что ли? Я присел на бревно, лежащее вдоль забора, и достал из кармана сотку. Ну, да. Как я и думал, интернета тут нет и в помине. И, не только интернета. Сеть отсутствовала, вообще. И, чем заняться?
Перехватив свою палочку поудобнее, принялся, воображая, что это рыцарский меч, косить ею растущую у дома крапиву. Крапива сопротивления не оказала, и это занятие быстро надоело. Попытался попасть комком сухой земли по вороне, но не попал, и ворона, укоризненно каркнув, полетела в сторону леса. Вспомнилось, что у берега была лодка. Правда, тётка наказывала не соваться близко к реке, но, я, же не полезу в воду! Мало ли какие омуты в этой глухомани?
Я вышел за ограду и, опираясь на палочку, спустился по тропинке к реке. В лодке, на деревянной скамье, сгорбившись, сидел старик. Древний, весь какой-то замшелый, с косматой неряшливой бородой и драном треухе на лохматой голове, он, не отрываясь, смотрел на ленивое течение, плавно колыхающее широкие разлапистые листья кувшинок и, кажется, разговаривал сам с собой. Рядом стояла корзинка, доверху наполненная яркими, словно только с картинки, красными, в белых точках, мухоморами.
– Дедушка! – окликнул его я. – А, ты, чего тут?
– Я-то? – повернул голову старик. – Да, вот, сижу тут, отдыхаю.
– Меня Матвеем зовут.
– Матвей? Хорошее имя. Тёплое. А ты меня Дедом зови. Так, все меня кличут.
– Вы из деревни пришли?
– Нет, что ты! Я деревню не люблю. Там люди. Я, тут, неподалёку живу.
– А, зачем вам мухоморов столько? Их же кушать нельзя.
– Нельзя. Только, мне можно. Я люблю мухоморчики. А ты, откуда тут, такой красивый?
– Меня тётка привезла. Вот, покалечился в аварии. Говорит, что вылечит.
– Зоя, что ли?
– Она.
– Она вылечит. Не знал, что у неё родные есть, – дед повёл носом и хитро улыбнулся в бороду. – Иди, Матвей, в дом. Сейчас, тебя Зоя звать к столу будет.
– А вы, откуда, знаете?
– Уж, знаю. Иди.
Я повернулся к дому и, действительно, увидел тётку, только вышедшую на крыльцо.
– Пошли кушать! – крикнула она. – Как раз, картоха поспела.
Идти вверх было труднее, чем вниз. Тяжело опираясь на трость, я поднялся по тропинке и зашёл в дом. Кушать хотелось, а умопомрачительный запах из чугунка манил и заставлял что-то утробно урчать в животе.
– Ты, чего к речке ходил? – ворчала Марья, выкладывая на тарелку три янтарные, исходящие паром картофелины, присыпанные мелко нарезанным укропом. – Я, же, сказала тебе, что туда нельзя.
– Там дедушка в лодке сидел. Я с ним познакомился.
– Что за дедушка? – насторожилась тётка.
– Обычный, старый. У него, ещё, корзина, полная мухоморов была.
– Дед заходил, значит? И, чего он в людскую личину рядился? Что ему понадобилось?
– Не знаю, – развёл руками Вася.
– Это я не тебе. Ты, ешь, давай. Вон, масличко клади. Своё, домашнее. Огурчики, вот. Сальце. А на меня внимания не обращай. Это, я сама с собой. Постоянно одна, вот и появилась такая привычка.
Кушать хотелось, поэтому, было, как-то, не до разговоров. Я, по примеру тётки, осторожно взял в руку обжигающе горячую рассыпчатую картофелину, посыпал её солью, вилкой положил сверху, моментально потёкший, кусочек масла и откусил. Вкуснотища! Дома я, такого, даже, не пробовал.
– Ты с хлебом, давай, – проворчала тётка. – Что за еда без хлеба? Одной картошкой сыт не будешь. Знаешь, как про неё в народе говорят? Картошка из дома уведёт, а обратно не приведёт.
– Как это?
– А так. Ежели, только картоху одну поесть, то, вроде, сыт. А, вскоре, опять голодным будешь. Без хлеба она ненадолго накормит.
Я потянулся к берестяной хлебнице и взял крупно отрезанный ломоть. Хлеб был слегка подсохший и крошился.
– Ничего, – заметила тётка. – Завтра с утречка свежий спеку. Наверное, домашний и не ел никогда. А ты, молочком запивай. Молочко хорошее, козье, натуральное.
– А, чая нет?
– Некогда сегодня самовар разводить. Припозднились мы с дороги. Завтра будет тебе и чай, и шаньги, и калачи с маком.
Я сделал глоток из высокой глиняной кружки. Вкус у молока был необычным, но, в целом, понравился. Хотя, я слышал, что козье молоко отличается от коровьего. Но, это дело привычки. Люди, которые привыкают, чаще именно из-под козы молоко предпочитают.
– Тётка, а этот дедушка – кто?
– Никто! Ходит тут, иногда. Не бери в голову. Ну, поел?
– Поел.
– Посиди, тогда, тут, в сторонке. Я посуду помою и постелю тебе.
– Так, рано ещё, – я кивнул в сторону окна, где только начинались сумерки.
– В деревне засветло ложатся и встают с петухами. Это, тебе, не город.
Тётка сноровисто собрала использованную посуду в тазик, залила её горячей водой из чугунка, разбавила холодной из ведра и принялась греметь в нём вилками. Я уселся на сундук и задумался. Мысли были совсем невесёлыми. Дома, всё-таки, было лучше. Город, интернет, друзья в чате. Початиться бы, сейчас. Как там Единорог, Бизон, Фея? Новостей, наверное, куча набралось. Я, опять, достал из кармана сотку, но сеть так и не появилась.
– Зря ты телефон сюда взял, – Зоя подошла к кровати и принялась её расстилать. – Тут, никакой связи нет. Только с почты. А она – в деревне. Всё, ложись спать.
Я покорно разделся, сложил свои вещи на лавочке и улёгся. Перина оказалась мягкой и удобной. Сморило меня быстро. Сказался хлопотный день, дорога и резкая смена образа жизни. Да и впечатлений за день – выше крыши. Я привык к более размеренной жизни.
Сон был неспокойный, путанный. Сначала, я пробирался по болоту, оскальзываясь на кочках и отмахиваясь от мошкары, а, потом, убегал от какого-то косматого существа по берегу реки. Вдали маячила лодка, которую я с вечера видел у берега, а в ней сидел давешний дедушка и ловил рыбу удочкой. В момент, когда косматое существо настигло меня и протянуло ко мне свои костлявые руки с кривыми когтями, я, словно выныривая из глубины, проснулся и сел в постели. В комнате было темно, и, только, тоненький серпик луны слегка освещал помещение.
Пытаясь унять, всё ещё колотящееся в груди от страха, сердце, я слез с кровати и выглянул из-за занавески. На печи было пусто. Скорее, по наитию, чем, что-то соображая, я натянул на босу ногу кроссовки и, как был в одних трусах, так и вышел на крыльцо. Ночная сырость взбодрила. Я поёжился и, уже, хотел вернуться в дом, когда со стороны реки, вдруг, услышал голоса. Крадучись, словно делаю что-то плохое, подобрался к ограде и посмотрел вниз. На причале у лодки беседовали двое. Влажный воздух хорошо передавал звуки на расстоянии. Я узнал их по голосам, потому что в темноте разглядеть что-то было трудно.
– То, что с племяшом несчастье приключилось, я сразу почувствовала, – монотонно вещала тётка Зойка. – У нас это, сам знаешь, в крови.
– Да, – дед натужно кашлянул. – Это не люди, которые от природы оторвались и корней своих не помнят.
– Вот, только, сразу выехать не получилось. Мохнатый, снова, шалить начал. Пока успокоила, пока грань утрясла, времени много прошло.
– Зачем ты его сюда притащила? Не место человеку в приграничье. Не страж он. Трудно ему будет.
– Если ему, сейчас, ногу не залечить, на всю жизнь колченогим останется. Жалко. Кровинушка, как-никак.
– Он, прежде всего, человек. А человеку в приграничье тяжело. Даже, опасно.
– Ты-то, чего выперся? Хорошо, ещё, личину людскую надеть догадался.
– Видел, как парень на улицу вышел, а Мокрец в последнее время не в настроении. Вдруг бы утащил.
– Знаю я, что Мокрец не в духе. Только, я наказала племяннику к реке не спускаться.
– А он спустился.
– Не увидел бы тебя, не спустился бы.
– Ох, тяжело ему тут будет.
– Я постараюсь оградить его от нечисти.
– Как? Они людей не любят. Отвезла бы ты его назад в город.
– Нет. Сначала, на ноги поставлю.
Я, из разговора, так ничего и не понял. Зато, продрог от сырости, и мне опять захотелось в тёплую постель под пуховое одеяло. Я вернулся в дом, взобрался на кровать, накрылся с головой и, пригревшись, снова уснул. Не слышал, даже, как Зоя, зайдя, постояла надо мной, вздохнула и полезла к себе на печку.
Когда, утром, я проснулся, по дому витал аромат свежей сдобы, на столе исходил паром самовар, а тётка Зойка с раскрасневшимся от огня лицом суетилась у печи.
– Проснулся? – оглянулась она, когда я вышел из-за занавески. – Долго вы, городские, спать любите.
– Так, утром же, спится лучше всего!
– Утром самое время для дел. Граница между светом и тьмой. Много чего успеть можно.
– Какая ещё граница?
– Не бери в голову, это я, так, о своём. Ну? Давай, умывайся. Я блинчиков напекла.
В умывальнике, вопреки моим ожиданиям, вода была тёплой. Я морально, уже, приготовился к колодезной, студёной. Тётка позаботилась. То-то ворчит, возясь у печи, что-то про изнеженных городских. А сама холодную воду с горячей до нужной кондиции разбавила, чтобы племяннику было приятнее умываться.
– Садись быстрее, – подогнала меня тётка. – Блинчики стынут.
Я посмотрел на гору янтарных блинов, исходящую паром, стоящие рядом блюдца с мёдом, сметаной и черничным вареньем, и сглотнул слюну. Зоя налила чай и поставила передо мной.
– Завтракай, и тобой займёмся.
– В смысле?
– Ногу твою будем в порядок приводить.
– Не понимаю, – я покосился на свою конечность. – Что тут ещё сделать можно? По-моему, лучше уже не будет.
– Ты, племянничек, не зарекайся, – тётка перетирала какие-то коренья в ступке и одним глазом посматривала на чугунок, томящийся в печке. – Ну? Поел?
– Да, – я отодвинул от себя блюдо с уполовиненной стопкой блинов и сыто выдохнул. – Нельзя так много кушать с утра. Так, скоро, в дверь не буду пролазить.
– Хватит болтать. Садись на сундук.
Я вышел из-за стола и присел на плоской крышке. Было жестковато. Ещё и уголок жестяной полосы, которой, крест-накрест была оббита поверхность, больно впился в ягодицу.
– Что ёрзаешь? – тётка, притащила деревянную бадью и поставила её на пол передо мной.
– Подложить бы что-нибудь.
– Привык у себя в городе к креслам, да диванам, – она подала мне маленькое детское одеяльце, сложенное вчетверо. – На, вот, подстели.
А так гораздо лучше. Пока я мостился, тётка ухватом достала из печи чугунок и вылила из него в бадью кипящую бурую жидкость.
– Это, что, мне туда ногу совать надо? – с опаской покосился я на исходящую паром посудину.
– Не бойся, не сварю тебя, – она высыпала туда из ступки порошок, от чего жидкость снова забурлила, пошла крупными пузырями и успокоилась. – Чай, не Баба Яга. Припарки делать будем.
– Припарки? Что за глупость? Мне ногу по частям собирали. Как смогли, так и собрали. А тут – припарки! Думаете, помогут?
– Сам увидишь. Ну-ка, заголи ногу!
Пока я снимал штанину, тётка достала кусок холщовой тряпицы, сложила её в два раза, потом, окунула её в бадью, отжала и обернула ею моё бедро. Стало горячо, и я зашипел сквозь зубы.
– Терпи, – прикрикнула на меня тётя. – Нужно терпеть.
– А, подождать, пока остынет, нельзя?
– Нет. Должно быть горячее.
Вроде, жечь стало поменьше, зато, откуда-то изнутри, кажется, в самом тазобедренном суставе, начала зарождаться ноющая тянущая боль. Минут через пять тётка сняла с ноги тряпицу, опять смочила её в жидкости и снова наложила на бедро. Пытка продолжалась около часа. Когда жидкость в бадье начинала остывать, она доставала деревянной лопатой из печи раскалённый докрасна кирпич и бросала его туда. Жидкость снова начинала бурлить крупными пузырями.
– И нравится вам так издеваться? – промычал я сквозь стиснутые зубы.
– Лечиться никогда не бывает приятно. И, хватит мне выкать. Мы – люди простые. Не у вас в городе.
– Да, что вы, то есть, ты, всё: городские, да городские? Чем мы тебе насолили так?
– Порченные вы там все.
– Чем же?
– Город людей портит. Все эти ваши удобства развращают человека.
– Как может развратить человека, например, тёплый туалет? Или, пылесос со стиральной машинкой? И, чем автобус хуже телеги?
– Не понимаешь? Человек должен трудиться. И должен быть рядом с природой. А вы в своих городах отгородились за каменными стенами и переложили свой труд на механизмы. А, когда тело не работает, и мозги размягчаются. Да и душа мельчает. Правильные мысли уходят, а вместо них один блуд на уме появляется. Все эти ваши дискотеки, да рестораны. Тьфу! Поэтому, вас природа и напрягает. Вы душу свою бездушной каменюке продали и себя вдали от города чужими чувствуете. Думаешь, я не вижу, как тебе здесь неуютно?
Честно говоря, я не считал, что достижения цивилизации мне как-то вредят, а природой я вполне себе наслаждаюсь, когда с друзьями выезжаю на маёвку. Но, решил больше не спорить.
– Слушай, – перевёл я тему. – А, почему отец никогда не рассказывал о родственниках?
– Не хотел. Он, вообще, не желал с нами ничего общего иметь.
– Странно.
– Ничего странного. Он с рождения был, словно отрезанный ломоть. Тяготило его наше родство.
– Как-то непонятно ты говоришь, тётя Зоя. Так же не бывает.
– Бывает. Ты, потом поймёшь, может быть. Да и, надо это тебе?
Наконец, пытки закончились. Тётка туго запеленала моё бедро чистой сухой тряпицей и велела прилечь и не напрягать ногу в течение часа.
На обед была уха и жареная рыба. Я смотрел на карасей, покрытых поджаристой золотистой корочкой, и давился от набежавшей слюны.
– Ого! Откуда рыба?
– Сосед с утра пораньше на мостках рыбачил. Вот и поделился.
– Добрый сосед.
– Обычный.
– Это, Дед, что ли?
– Какой дед?
– Ну, с мухоморами, который.
– Нет. Не он. Дед к себе ушёл ещё вечером.
– Да? А с кем ты, тогда, ночью разговаривала?
– Ни с кем. Спала я.
– Но, я же, вас видел. Ночью поднялся, а тебя нет на печи. Вот я и вышел на улицу. Вы возле лодки говорили. Мокреца какого-то упоминали, приграничников, каких-то. Или, пограничников? Но, до границы отсюда далеко.
– Тебе, наверное, приснилось всё это, – она посмотрела на меня таким искренним взглядом, что я усомнился.
Действительно, с чего я решил, что всё, что я видел, было на самом деле? Странные разговоры, имена непонятные… Да и сама обстановка была какая-то ирреальная. Дымка, ещё, эта. Вчера, много чего произошло, от моей выписки из больницы до приезда сюда. Наверное, я, устав за весь день, так перенервничал, что мне всякая ерунда сниться стала. Кошмар, ведь, был? Почему бы не предположить, что и дальше я не проснулся и слышал этот разговор только во сне?
– То есть, ты хочешь сказать, что не было ничего?
– Конечно! Кто же по нашим местам среди ночи шататься будет? Ночью спать надобно.
– И, что тут такого, в этих ваших местах, что ночью гулять нельзя? В городе, я, ещё, пойму. Там, какой, только, шушеры по тёмным подворотням не встретишь. А тут – глухомань.
– Ии, милый! Разве, только, шушера опасна? В темноте можно и в яму угодить, и с крутого берега в воду оступиться. Да, мало ли? Не ходют у нас по ночам.
Я внимательно посмотрел на тётку. Взгляд честный-честный. С таким, обычно, и врут напропалую. Что-то мне это не нравится. Или, это моя паранойя разыгралась? Так, вроде, я параноиком никогда не был. Или, уже пора становиться?
– Места у нас, вишь, дикие, – добавила Зойка. – Не ровён час, и зверь, какой, из лесу забредёт.
– Ага, – хмыкнул я. – Заяц, например.
– А ты не шуткуй. С лесом нельзя шутковать. Он не любит этого.
– И, чего я сюда припёрся? – мне, вдруг, пронзительно захотелось домой. – Сидел бы дома, телек бы смотрел. Или, в интернете чатился. Что я забыл тут? Ни с людьми пообщаться, ни погулять. Достопримечательностей, разве, река с лодкой. Так, я на эту картину и в Центральном парке на городском пруду насмотрюсь. Было бы желание.
– А я тебя сюда не на игрища привезла. Забыл, что нога у тебя больная?
– Забудешь, тут, – я потёр бедро. – И охота тебе было с ней возиться? Я, вроде, и привык уже. А, тут, опять мучиться.
Нога, действительно, болела тупой ноющей болью, словно старая рана, которую ненароком разбередили.
– Мученик нашёлся! – фыркнула тётка. – Доедай. Потом, опять, припарки делать будем.
– Опять?!
– Ты хочешь от своей палки избавиться?
– Хочу.
– Вот и делай то, что я говорю. Ишь, неженка! Видел бы, что с Митрофаном было, когда его косолапый поломал.
– Сильно поломал?
– Сильно. Тот, лежьмя лежал, и кричал от боли благим матом. И, ничего. Сейчас бегает, что молодой. Даром, что семьдесят этой зимой стукнет.
– И, что, тоже припарками, как меня лечили?
– И припарками тоже. Тут, к каждому свой подход.
– Даже, странно, что ты со своими талантами ещё не в городе.
– А, что мне там делать?
– Ну, как, что? Бизнес, знаешь, какой можно на лечении сделать! Тут, шарлатаны всякие деньги лопатой гребут, а ты можешь лежачих на ноги ставить!
– Тьфу на тебя! Что такое говоришь? Деньги за доброе дело брать! И, как, только, язык повернулся? Поел? Пересаживайся на сундук!
В этот раз процедура наложения припарок была уже знакомой, хоть и не менее болезненной. Да и бедро не на шутку разболелось после всего этого лечения.
– А всё ли ты мне правильно делаешь? – с сомнением посмотрел я на тётку. – Что-то мне не легче, а, ещё хуже становится. Не отсохнет нога-то?
– Не бойся, племянничек, не отсохнет. А, то, что болит, значит, пошёл процесс-то. Правильное лечение завсегда через боль идёт. Думаешь, организму легко всё утерянное, да порушенное восстанавливать? Да, ещё в ускоренном темпе.
– Как это, в ускоренном?
– По-хорошему, тебя месяц нужно тут пользовать. Чтобы всё шло постепенно, плавно, без рывков. Так, разве ты усидишь месяц? Я же вижу, что суток не прошло, а ты киснешь уже. Так, глядишь, совсем завянешь. Поэтому, быстро тебя на ноги поставлю, и езжай в свой город.
– Быстро?
– Да. А, что ты удивляешься?
– Примочками?
– Не только. Банник к вечеру баньку истопит. Пропарит тебя с травкой своей. А на ночь мазь наложу. Дед, как раз, должен принести. На поганках с барсучьим жиром. Увидишь сам, как поможет. Ляг, полежи. Пусть нога отдохнёт.
Больше опираясь на палку, чем наступая на больную ногу, я доковылял до кровати и упал на перину. Боль усиливалась и, наконец, стала нестерпимой. Даже, стон сквозь плотно сжатые челюсти прорвался, как ни сдерживался.
– А ну-ка, глотни, – появилась из-за занавески тётка.
Она протянула мне кружку с белесой жидкостью, пахнущей чем-то непонятным и слегка резким. Я пригубил. Напиток был терпкий и слегка сладковатый.
– Что это?
– Настой на маковом молочке. Сейчас, легче станет.
Боль, действительно, стала меньше. Глаза сами собой закрылись, и я провалился в сон. Снилось что-то хорошее, но, когда я проснулся, ничего не мог вспомнить. Осталось, только, ощущение уюта и тепла. Как послевкусие после парного молока.
– Проснулся? – появилась тётка. – Вставай. Там тебя Банник уже заждался.
– Какой банник?
– Какой-какой? Обыкновенный. Банник и Банник. Иди ужо. Банька за домом. По дорожке пройдёшь – не заблудишься.
Идти было больно. Так, наверное, мне не было, даже, сразу после аварии. Хотя, наверное, я, просто, не помню. Неделя в коме, как-никак. Вообще, странно здесь всё. Я же сам видел, сколько мы ехали от ближайшей деревни. Вроде, тут тишина должна быть. А, выходит, наоборот, слишком людно. То Дед, то рыбак таинственный, который нас рыбкой угостил, то банник этот. Вообще, насколько я знаю из художественной литературы и военных фильмов, банник – это принадлежность для артиллерийских орудий. Приспособа, то ли для того, чтобы ствол пушки чистить, то ли, чтобы снаряд в ствол посылать. Но, однозначно, он из себя представляет что-то вроде длинной палки. А тут – человек.
Еле доковылял до кособокой баньки, над крышей которой вился дымок. За щелястой дверью предбанника меня встретил маленький мужичок, не выше полутора метров ростом, чрезвычайно косматый, с растрёпанной бородой, волосатой грудью и в семейных сатиновых трусах до колен.