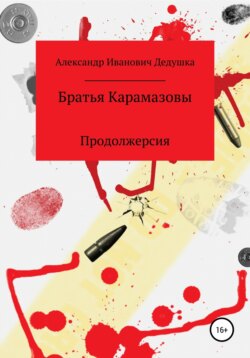
000
ОтложитьЧитал
Иерусалим, иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!
се, оставляется вам дом ваш пуст.
Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 37-38
Мир устанет от мук, захлебнется в крови,
Утомится безумной борьбой –
И поднимет к любви, к беззаветной любви,
Очи, полные скорбной мольбой!..
С.Я. Надсон
От автора
Вот мы и подобрались ко второму нашему роману, который я обещал читателям заранее, говоря им о том, что этот роман и является, то есть будет, главным. И опять я не могу обойтись без маленького предисловия, которое мне кажется необходимым, особенно, когда его задумываешь и пишешь, но, правда, часто излишним, когда уже написал. Боюсь, что и в этом случае получится то же самое. Но все-таки не откажу себе в удовольствии (лучше сказать – в необходимости) привести несколько вступительных слов.
Во-первых, сразу хочу извиниться перед читателями за то, что первый роман получился таким длинным. Я ведь и сам, когда задумывал его, не полагал, что он получится таковым, но когда уже сел за написание, то увлекся и, как говорится, понесло. Знаете, как иногда бывает? Садишься за стол без особенного аппетита, но попробовал то, попробовал это, разлакомился, вошел во вкус – и уже трудно остановиться. Потом, когда сидишь с набитым желудком и несварением в нем, начинаешь себя корить: зачем, дескать, так объелся, ведь хотел только немного попробовать. Но все эти укоры и самосожаления похожи заляпанные за тем же столом салфетки – утерся ими, скомкал и выбросил – больше они ни на что не годятся и несварение не ликвидируют.
В свое оправдание еще скажу, что дело для меня оказалось новым, неизведанным, никогда я прежде не пускался в столь пространные описания, да еще и столь малознакомых мне учреждений и процессов, кои в них происходят. Я имею в виду нашу суды, судебную систему, предварительное следствие и проч., и проч… Признаю, что пересолил и неимоверно затянул все свои описания и всякие в них подробности. Как высказался один очень строгий критик одного очень толстого журнала, что «автор, похоже, задался целью, чтобы читатели смогли после прочтения его романа сдать курс по основам юриспруденции». Право же, и в мыслях не было. Но в мыслях не было, а получилось на деле, а я-то всего лишь хотел, чтобы читатель лучше представлял все описываемые мною подробности, как говорится – «в живую». Мне и самому многое показалось интересным, тем более что я как-то в нашей романической беллетристике еще не встречал подробного описания судебных процессов, прений, и т.п., и т.д. Мне казалось, что и читателям все это покажется если не интересным, как и мне, то, во всяком случае, не лишним, ибо кому помешает в жизни та же юридическая осведомленность и подкованность? Но пересолил, пересолил, признаю. Впредь постараюсь быть более кратким.
Хотя вот написал и сразу усомнился. А усомнился потому, что мысленно представил себе перспективу предстоящего к написанию романа, и увидел там столько новых картин и столько новых «учреждений», что, боюсь, меня снова может увлечь моя старая писательская страсть – писать как можно подробнее, чтобы «как вживую». Так что если снова случится что-то подобное – уж не судите строго. Хотя я уже и заранее надеюсь на читательскую снисходительность. Ибо тот, кто читает эти строки, уж наверно осилил наш первый роман, то есть, несмотря на все его недостатки и длинноты, нашел в себе силы дойти до его конца. Поэтому, имея такую закалку, и приспособившись к моей манере, я уж надеюсь, что у него хватит сил одолеть и второе наше повествование.
Обвиняли меня критики и даже отчасти читатели (хотя надо сказать, что больше критики, чем читатели) – что роман получился таким длинным, так как я «насовал» туда слишком много персонажей и разных сюжетных линий. Одна читательница, видимо, хорошая хозяйка, привела даже такое, хоть и огорчительное для меня, но очень точное сравнение, что мой роман оказался похожим на борщ не очень опытной поварихи, которая, желая сделать его повкуснее, наложит туда «всякой всячины», надеясь, что и будет «повкуснее», и варит потом долго-долго, думая, что и вкус как-то сам собой и установится. А вот это как раз и не всегда выходит, ибо вкус борща зависит не от времени варения и количества ингредиентов, а от искусства их сочетания и последовательности положения в тот же самый борщ. Принимаю и это и впредь постараюсь уже так не разбрасываться, а вести повествование ближе к моему главному герою.
Кстати, несколько слов и о нем. Вы, конечно, уже сложили свое собственное впечатление о главном моем герое (да и о любимейшем моем герое – хотя и не дело автора признаваться в любви к тем, кого он описывает, но я все-таки это сделаю, глядишь, строгий критик простит мне какие-то будущие недочеты в описании, особенно, если опять буду увлекаться). Имеется в виду Алексей Федорович Карамазов. Все-таки я слукавил, говоря в предисловии к первому роману, что мой главный герой – человек ни чем особо не замечательный. Человек он в высшей степени интересный и замечательный, но только в особом роде. Я опять в затруднении, ибо, боюсь, что начну сам себе противоречить. Пушкин говорил, что он «даль» своего «свободного романа» от начала «не ясно различал» и не мог представить, что его Татьяна выскочит замуж. (Кажется, он так и выразился – «выскочит замуж».) Но в том-то и дело, что его Татьяны и Онегины – это плоды его могучей творческой фантазии, и он все-таки, думаю, до известной степени мог с ними делать все, что ему угодно, все, что ни пожелает его художническая прихоть. А у меня – дело другое. У меня – живые люди, которых я описываю, но с которыми – как это ни удивительно приходится признать! – происходит нечто подобное. Или – нет, нечто совсем противоположное. Чем больше я в них вглядываюсь и пытаюсь понять, тем больше они мне кажутся не живыми людьми, а настоящими литературными типами и воистину художественными персонажами. И то, что они сделали в настоящей жизни –замечу, в их собственной наиреальнейшей жизни! – для меня все больше походит на воплощение какого-то неведомого (может быть, реально существующего, но в иных мирах) художественного романа.
Вот и с Алексеем Федоровичем тоже происходит что-то подобное. Хотя, скорее всего, это происходит только в моей душе, с которой он сроднился настолько, что я уже сейчас, еще только приступая к моему главному произведению о нем самом, потихоньку начинаю томиться предстоящей неизбежной разлукой, хотя и не знаю, когда она произойдет. В одном я все-таки оказался прав – и когда описывал события тринадцатилетней давности в судьбе моего героя, и события его настоящей жизни – о чем читателям еще предстоит узнать. А именно. Он действительно воплощает в себе, как я говорил, «сердцевину целого», что-то сущностное и главное, что, может быть, только нарождается у нас сейчас в России, что-то такое, что определит ее судьбу, может быть, на десятилетия вперед. А может и на века – я поистине теряюсь тут в этих временных своих предположениях.
Ну, а раз теряюсь, то пора оставить наше, кажется, опять не очень уместное вступление и переходить к началу, а точнее, продолжению, нашего повествования.
Ч А С Т Ь П Е Р В А Я
Книга первая
И с п р а в л е н и е с у д е б н о й о ш и б к и
I
Долгая кассация
Прежде чем мы перейдем к описанию нашего героя уже в настоящее время, никак невозможно не познакомить читателя, хотя бы вкратце, с событиями, которые случились за эти истекшие тринадцать лет. Тем более что многие из этих событий сами по себе вполне заслуживали бы пристального внимания романиста и описателя, и только по недостатку времени и обещания, которое я уже сделал – быть по возможности более кратким, чем в первом нашем повествовании – постараюсь дать только самое главное из того, что читателю необходимо узнать. Иначе опять же – увы, многое окажется непонятным.
От времени, которое завершилось судом и осуждением на каторгу Дмитрия Федоровича Карамазова, когда мысленно возвращаешься в него, до сих пор остается ощущение какой-то бестолковщины и сумбура. Хорошо помню впечатление почти мучительной «невозможности» всего случившегося. Наша либеральная публика и все иже им сочувствующие были так уверены в оправдательном приговоре, так загипнотизированы именем Фетюковича, «знаменитейшего петербургского адвоката», что долгое время словно отказывались «верить глазам своим», точнее, «ушам», через которые мы все и выслушали этот потрясший нас обвинительный приговор. Была даже такая уверенность у преимущественно женской части общества, что это был «заговор», что все было «инсценировано» и «срежиссировано» заранее, а суд – это был не более чем «фарс» или хорошо отрепетированная «пиеса». И хотя никаких доказательств постановки этой «пиесы» представлено не было, да и быть не могло – так как большинство из «зрителей» этой «пиесы», присутствовало на всех актах ее постановки, и уж могли убедиться в непредустановленности всего происшедшего в зале суда – все это мало кого успокоило и убедило. Разговоры о «несправедливости» долго сотрясали все более или менее приличные гостиные нашего Скотопригоньевска и – где там! – далеко перехлестнулись за границы нашего городка – в губернию, дошли и до двух наших столиц.
Первыми, на ком отразилась эта почти всеобщая уверенность в «несправедливости», была бедная коллегия присяжных. Многие наши дамы чуть не переписали себе весь список присяжных заседателей, разузнали их адреса, и некоторые даже не погнушались нанести, как они их назвали, «визиты справедливости». Правда, немногие из тех, кто на это решились, потом не пожалели об этом. Ибо мужички и здесь, как мы уже об этом упоминали, «за себя постояли». Одной такой даме в простой крестьянской избе, говорят, оборвали роскошнейший хвост ее платья, который она, гнушаясь окружающей грязи, держала в руках, на манер римской тоги. Другой наш купец так ничтоже сумняшеся просто выставил незадачливую посетительницу за дверь – буквально вынес на руках визжавшую, думаю, более от страха, чем от обиды, поборницу справедливости. Так постепенно все эти визиты и преследования присяжных сошли на нет, хотя и добавили огоньку в обличительные разговорные «костры», долго не затухавшие в связи с этим «шумным» делом в гостиных у образованной публики. Все о «тупости и неразвитости наших низших сословий». Причем, интересно, что если раньше недовольство в основном проявляла женская половина нашего общества, со временем – то ли под влиянием своих неугомонных половин, то ли потому, что до мужчин истина всегда «туго доходит» – и наша мужская часть «благородного общества» стала все резче выражать свое недовольство. Дело доходило даже до прямых сцен. Нашему прокурору Ипполиту Кирилловичу так однажды прямо заявил один либеральный чиновник (о нем еще речь впереди), что он «лакейски послужил делу реакции». Доставалось пару раз и председателю суда – что-то похожее на «фронду» от нашей образованной публики – его пару раз не приняли, когда он наносил свои обычные визиты.
Однако дальше произошло малообъяснимое. Казалось бы, на такой обличительной волне нужно добиваться пересмотра дела и отмены приговора, но случилось нечто совсем обратное ожидаемому. Волны возмущения ещё долго ходили по поверхности Скотопригоньевской либеральной публики, но ни во что конкретно, что реально могло помочь «невинно пострадавшему» Митеньке Карамазову, это ни вылилось. Странно, но даже было ощущение, что многие в глубине души вполне довольны таким исходом и такой «несправедливостью», ибо она давала повод выплеснуть недовольство «существующими порядками», а если бы вдруг по мановению чьей-то волшебной палочки, всё изменилось, и Дмитрий Федорович был бы немедленно оправдан, уверен, многие были бы недовольны. Куда девать тогда «благородное негодование» к «прогнившему режиму»? Судьба живого человека за всеми этими страстями, кажется, никого не волновала.
Но это все было бы ладно: все-таки публика есть публика – какой с нее спрос? Сложнее объяснить поведение лиц, кто по долгу службы должны были бы взять исправление, как было признано позже, «судебной ошибки». Наш прославленный и так неожиданно «разбитый» Фетюкович, вместо того, чтобы дождаться всех формальностей и подать апелляцию, на следующий же день укатил обратно в свои столицы – обиделся «как строптивая барыня», говаривали у нас. И когда его там нашла Катерина Ивановна и «уговорила»-таки начать кассационный процесс, время, отпущенное на подачу обжалования, уже было упущено. Я не зря взял слово «уговорила» в кавычки. Мне рассказывали, что она буквально «укусила» строптивого адвоката – да-да, впилась ему в палец – и только после этого он согласился снова вернуться к процессу. У меня, правда, есть все основания сомневаться в этой истории, хотя я ее и слышал от разных и не связанных между собою лиц. В самом деле, ну с чего бы это Катерине Ивановне с ее воспитанием и манерами опускаться до такого странного поведения – вести себя как капризной истерической девчонке? Просто не могу себе представить ее в этой унизительной и глупой роли, даже несмотря на всё то, что мы о ней знаем из нашего первого повествования. Но не будем ничего утверждать однозначно – действительно, все может быть, особенно когда мы говорим о таких неоднозначных сильных натурах и характерах.
Ведь собственно только благодаря ей – ее настойчивости и колоссальным усилиям – дело Митеньки, наконец, пошло на лад, было обжаловано и, в конце концов, пересмотрено. И ее вины в том, что это не произошло сразу, нет никакой. Почти месяц у нее на руках между жизнью и смертью находился больной Иван Федорович Карамазов – тут уж не до убежавшего в столицы Фетюковича. А только он стал более менее выздоравливать и перестал балансировать между жизнью и смертью – новая напасть. Дмитрия как раз начали готовить к отправлению по этапу. Катерина Ивановна вся вложилась в подготовку его побега, что было, как вы сами понимаете, очень и очень непросто. Пользуясь советами полубольного Ивана, она несколько раз ездила по предстоящему Дмитрию этапу, доехала до самого Омска и там уже смогла наладить необходимые и вполне конспиративные связи. А когда Митеньку уже в начале лета отправили-таки вместе с первой партией прибывших из Санкт-Петербурга каторжников, отправилась и она вместе с ним по этапу. Где-то уже в дороге нагнал их и полностью выздоровевший Иван, которому нужно было зачем-то обязательно побывать в нашей Невской столице, а потом и в первопрестольной. И только, когда неожиданным и абсолютно невероятным и непредвиденным способом побег Митеньки сорвался (об этом рассказ в свое время), Катерина Ивановна, переехав вместе с Иваном в Петербург, нашла Фетюковича и стала добиваться оправдания Митеньки легальными способами.
Думается, на Фетюковича повлиял не только и не столько укус Катерины Ивановны (если таковой и имел место быть), но и соответствующее денежное обеспечение, а может быть, и то и другое – как и разгоревшееся, наконец, желание «реванша» и восстановления своей попранной репутации. Но время для подачи обжалования, обговоренное законом, было упущено, поэтому для возобновления дела ему пришлось искать весомые формальные основания. Первое, за что он зацепился, это одна юридическая неувязка, по недосмотру вкравшаяся в судебное заседание. Врачи Варвинский и Герценштубе согласно Уставу уголовного судопроизводства не могли быть опрошены и в качестве экспертов, и в качестве свидетелей. Тогда, в суматохе суда, на это никто не обратил внимание, да и самому Фетюковичу это вряд ли бросилось в глаза, но теперь – а он все-таки был неплохим юристом – это обстоятельство выглядело весьма весомым поводом к обжалованию приговора. Но не все оказалось просто. Фетюкович не стал подавать официальный запрос, решил сначала проконсультироваться – и правильно сделал. Так как в «высших сферах» ему намекнули, что его инициатива по облегчению участи Дмитрия Карамазова, об обстоятельствах неудавшегося побега которого, разумеется, уже стало известно, никак не будет воспринята благосклонно. И что, ежели он желает покойного продолжения своей карьеры, то инициативы такого рода лучше оставить, так как всегда можно найти возможность усложнить жизнь даже и такому «свободному» адвокату, каким он является… – и проч., и проч. В общем, аргументы оказались весьма убедительными для Фетюковича, чтобы он отказался от своего намерения по пересмотру дела Митеньки. Он долго тянул с ответом Катерине Ивановне, но, в конце концов, был вынужден ей признаться во всех этих «неблагоприятных обстоятельствах». Однако это не остановило последнюю, напротив, вызвало новую волну её «яростной активности». В это время Катерина Ивановна, несмотря на то, что уже стала женой Ивана, часто навещала Дмитрия Карамазова в Омском остроге, а порой надолго останавливалась в Омске, наладив какие-то непонятные связи с тамошним обществом.
Итак, она снова приезжает в Петербург, находит Фетюковича и снова настаивает на пересмотре дела. Какие аргументы она применила на этот раз, доподлинно неизвестно, но Фетюкович согласился еще раз «попытать счастья», и на этот раз повел дело так, что оно завершилось неожиданным успехом. Он решил действовать «от обратного». Раз уж желание облегчить участь Дмитрия Карамазова никак не вызвало сочувствия в «высших сферах», то противное намерение, возможно, будет иметь большие шансы на успех – так он предположил и не прогадал. Да и вторая юридическая неувязка, за которую он зацепился, выглядела куда более весомо. (Я опять извиняюсь перед читателями за погружение их в юридические тонкости – обещал же этого не делать. Но вкратце все-таки сказать об этом надо – уж простите и на этот раз.) Так вот. Оказывается, Дмитрий Карамазов, который обвинялся в убийстве отца и был признан виновным по всем пунктам, по действовавшему Уголовному законодательству должен был быть приговорен к пожизненной каторге. Каторга на срок могла быть лишь в случае, если бы выяснились по ходу дела и были учтены судом какие-либо смягчающие вину подсудимого обстоятельства. Но таковых обстоятельств не было, а значит, приговор был заведомо в виду своей непредусмотренной законом мягкости неправомерен. И на этот раз Фетюкович попал, что называется «в струю». Когда он еще раз проконсультировался по этому поводу: мол, намеревается исправить вопиющую «юридическую несправедливость», дескать, дискредитирующую все судопроизводство в России, тут – хоть и удивились такой странной «прокурорской» прыти знаменитого адвоката – но пошли ему навстречу. Фетюкович подал официальный запрос, дело было кассировано и передано на повторное рассмотрение.
Бедный Дмитрий Федорович к этому времени уже три года, как звенел кандалами в Омском остроге.
II
завещание федора Павловича
Но прежде чем мы перейдем к рассмотрению этого процесса, изобиловавшего весьма неожиданными и пикантными подробностями, следует сказать еще об одном деле, что произвело много шума в нашем Скотопригоньевске и которое к рассматриваемому нами делу имеет, хоть и не совсем прямое, но все-таки важное отношение. Я имею в виду завещание покойного Федора Павловича и то, как оно было исполнено.
Надо сказать, что похоронили Федора Павловича как-то почти до неприличия поспешно и словно бы чего-то стыдясь. Впрочем, как и положено, три дня перед погребением были выдержаны, но все равно осталось впечатление, как выразился один очевидец, «чего-то грязновато-стыдливого», впечатление, от которого хотелось поскорее отделаться. Особенно это проявилось на панихиде уже после похорон, где приглашенные гости упились почти до неприличия. Среди этих гостей оказалось много совсем уж непонятной и даже действительно прямо неприличной публики, ибо сумбур был в самой организации похорон, которыми занимались то ли Алексей Федорович, то ли Катерина Ивановна, то ли даже еще кто-то – а у семи нянек дитя, ведь, как известно, без глазу. Эти непонятные гости не знали, как себя вести и что, собственно говорить. Ибо все помнили известный принцип: о мертвом или ничего или только хорошее, но что сказать хорошего о «таком человеке» никто не находил. Впрочем, запомнилась речь Ильинского батюшки, отца Вячеслава, который специально приехал на похороны из Мокрого, что, мол, Федор Павлович пожаловал ему на новую ризу, и в доказательство этого он раздвинул полы своей уже, впрочем, далеко не новой ризы и зачем-то даже потряс ею с таким видом, что сейчас из нее что-то должно как бы и высыпаться. Что должно высыпаться – было непонятно, да и рассчитывал ли на этот эффект сам батюшка – тоже, но впечатление почему-то получилось именно такое, и какое-то даже болезненное, так как после этого гости с еще большим остервенением накинулись на водку и закуски, словно от досады заедая и запивая то, что нельзя было высказать.
Как известно, Иван Федорович на сами похороны не успел, но именно с его приездом и началась «катавасия», связанная с завещанием старика Карамазова. В суматохе похорон о существовании этого завещания никто не подумал – да и не до этого было. Кроме того завещание хранилось в той самой «шкатунке» Федора Павловича, о которой упомянул Смердяков в последнем разговоре с Иваном (читатель должен это помнить), но от нее никто не удосужился поискать ключа. Смердяков, как мы помним, был уверен, что никакого завещания не существует, но он ошибался – некоторые дела Федор Павлович все-таки умел делать и без посредства Смердякова. А ключ от этой самой «шкатунки», оказывается, хранился в старом халате Федора Павловича (убили его в новом, что он одел, ежели вы помните, специально для Грушеньки), халате, на который никто не обратил внимание и который валялся на стуле рядом с его кроватью вплоть до приезда Ивана. Именно Иван Федорович нашел этот халат, а в нем ключ и отпер заветную «шкатунку», где среди некоторой суммы денег (небольшой впрочем – что-то около нескольких сотен, ибо старик хранил главные свои суммы в банке) нашлось и завещание. Иван Федорович, ознакомившись с ним, специально пригласил на его оглашение кроме родственников – нотариуса, старшего чиновника паспортного стола господина Сайталова, еще несколько человек, среди которых совсем уж неожиданным оказалось приглашение духовных лиц – игумена монастыря, а также отца Паисия и отца Иосифа, монастырского библиотекаря.
Не читали – веселились, прочитали – прослезились, право же, эффект прочтения был равен эффекту взорванной бочки пороху. Там среди нагромождений слащавой словесной витиеватости, ибо Федору Павловичу зачем-то вздумалось имитировать слог средневековых летописей и житий, в сухом остатке значилось, что 100-тысячное свое наследство он повелевает распределить следующим образом: половину, то есть 50 тысяч, отдать Ивану, как кровному наследнику, а вторую половину он завещает нашему монастырю. Более никто в завещании не упоминался. Что ж – с Дмитрием Федоровичем, кажется, понятно, а с Алексеем Федоровичем – видимо, старик рассчитывал, что его младший сын станет монахом, а монаху, известно, какое наследство! Собственно, он тем не менее его сделал – завещав 50 тысяч монастырю, это как бы и Алексею Федоровичу тоже. Об этом и было написано, но очень витиевато и закручено – что-то: «благообразнейшему и боголюбивейшему сыну моему многолюбезному Алексею, облачающемуся в ангельский образ еще при жизни этой мерзейшей, деньги эти чтобы не послужили во соблазн и сатанинское уклонение, но чтобы он яко негасимая свечка пред око Божие горел пламенем любви к отцу своему чадолюбивому и не преставал возносить молитвы за его многогрешную душу…» и проч., и проч. Дом, кстати, тоже доставался Ивану Федоровичу.
Но это было все ладно – собственно, старик как в воду глядел, что обойденному наследством Дмитрию Федоровичу, оно и не будет полагаться никоим образом в виду его каторжного состояния. Удивительно было другое – что и вызвало столько сумбура и несогласия – то, что Федор Павлович выдвинул в своем завещании «непременные» условия, только в случае соблюдения которых упомянутые 50 тысяч и перейдут к монастырю. А именно – он должен быть похоронен на монастырском кладбище, то есть в самом монастыре, внутри его ограды, а во-вторых – на его могиле должны постоянно гореть «неугасимая лампада» и читаться «неусыпаемая псалтырь». Остается только гадать, откуда он набрался таких слов (понимал ли он их точный смысл – тоже вопрос), но самое главное – это все было серьезно или нет? Неужели старый развратник действительно решил глубоко озаботиться посмертным состоянием своей души? Или просто неисправимый шут решил насмеяться над верой и монастырем и после смерти, как это делал при жизни? Чтобы уже, так сказать, и в посмертном состоянии своем, досаждать монахам своим постоянным присутствием в их жизни и издеваться над ними уже, как говорится, «до скончания века»?
Я не присутствовал при чтении завещания, но, как мне рассказали, отец Паисий даже вышел «в великоем гневе» из комнаты, где оно читалось. Дело, действительно, представлялось неслыханным. Наше монастырское кладбище – это, правда, было что-то в своем роде умилительное и священное. Оно было небольшим, начиналось сразу за главным собором, отделялось от него небольшой оградкой и тянулось вплоть до монастырской стены. Летом, утопавшее в зелени, оно и зимой представляло собой торжественное и благодатное зрелище, где по небольшим аллейкам, заботливо расчищенным монахами, любили прогуливаться самые благочестивые наши горожане и приезжие в ожидании литургии, всенощной или аудиенции у игумена. Среди скромных могилок рядовых монахов было несколько могил и знаменитых в прошлом архиереев. Могила одного из них – владыки Иеремии – с большим мраморным надгробием особенно почиталась, так как именно он еще в прошлом веке способствовал расцвету монастыря, когда он стал известным не только в нашей губернии, но и далеко за ее пределами. Да, здесь было несколько мирских захоронений, но они были сделаны еще в прошлом веке, когда монастырь только развивался и, кажется, не существовало строгого запрета на такие захоронения мирских людей внутри монастыря. Во-вторых, это действительно были не только подлинные благотворители, но и глубоко верующие люди, в чьей высокой и подлинной нравственности не было и тени сомнения. Один из них – екатерининский генерал, сражавшийся под знаменами Румянцева и Суворова, после отставки проживавший неподалеку в своем имении и оставшись бездетным, пожертвовавший все свое имущество монастырю. Другой – знаменитый архитектор, по плану которого и был выстроен еще в прошлом веке главный монастырский собор. Видимо, Федор Павлович знал об этих захоронениях заранее, поэтому, имея такой повод, и решился на эту, как бы поточнее выразиться, посмертную наглость.
Но каково!?.. Говорят, если отец Паисий вышел из комнаты, то отец игумен вместе с отцом Иосифом просто рассмеялись. Они не могли поверить, что это все серьезно – но напрасно, напрасно, судя по тем событиям, которые потом стали развиваться вокруг этой истории. Весть о завещании Федора Павловича мгновенно разнеслась по городу. Вот уж было кривотолков, возмущения, смеха, даже кощунственного хохота, но самое главное – какого-то глумливого ожидания. Все как будто были уверены, что должна случиться какая-то, как выражались, «очередная мерзость», но вместо того, чтобы что-то предпринять, чтобы она не случилась, с несомненным тайным злорадством и сладострастием стали ожидать ее. И если бы она не случилась, то, пожалуй, были бы очень недовольны. Интересно, как к этому завещанию отнеслись в самой карамазовской семье, точнее, в той части, что от нее осталось – а именно между двумя родными братьями. Алеша словно был оглушен и придавлен всем тем, что услышал – он не проронил ни слова и во все последующее время, когда события стали раскручиваться и развиваться, только становился мрачнее и мрачнее. А вот Иван Федорович – и это было даже удивительным – проявил невиданную настойчивость в том, чтобы завещание не только было исполнено, но исполнено самым тщательным и буквальным образом, выступив в роли «гаранта» его исполнения и угрожая даже судебными преследованиями, если оно не исполнится. В самом монастыре, когда весть о завещании Федора Павловича дошла и туда, поднялся чуть ли не бунт. Абсолютное большинство монахов оказалось резко против подобного захоронения, и еще больше против «неугасимой лампады» и «неусыпаемой псалтыри». Последняя почему-то особенно всех возмутила. Больше всех неистовствовал Ферапонт, наш знаменитый впоследствии, да уже и в то время все более почитаемый отшельник и изгнатель бесовских духов.
– Блудницу вавилонскую под стены!?.. Пить мерзости ее блудодеяния!?.. Могилой сей загугнявится землица монастырская!.. Отхожее место будоти! Будоти!.. – то и дело вопил он не своим голосом, потрясая посохом, и действительно внушая ужас одним своим видом и громовыми интонациями. – Мерзость запущения!.. Мерзость запущения!..
Но если эти эскапады и могли кого испугать, но только не Ивана. Тот приступил, как он это называл, к «методической осаде». Во-первых, написал в епархиальное управление жалобу на «самоуправство» нашего монастырского начальства. Затем выступил с разгромной статьей в наших губернских ведомостях. Эта газета у нас в полном соответствии с «требованиями времени» имела либеральное направление, хотя и тут не обошлось без значительного денежного вспоможения. Статья называлась «Должны ли монахи молиться за грешников?», само ее содержание было посвящено доказательству этого провозглашенного тезиса и своим резким тоном она произвела немало шуму. Мало того, Ивану Федоровичу удалось склонить на свою сторону часть нашего городского начальства, и даже городской глава, чтобы уж совсем не выглядеть ретроградом, стал в частных разговорах склоняться на «карамазовскую сторону». Кроме этого, даже в столичной либеральной печати (говорили, что к этому руку приложил уже известный читателям Ракитин) разгорелась дискуссия о «лицемерии» монашеского сословия. В конце концов, дело завершилось приездом в наш монастырь самого преосвященного – владыки Захарии, нашего главного губернского архиерея. К этому времени «бунт» в монастыре достиг таких размеров, что часть монахов собралась покинуть его стены и уже подала об этом прошение владыке.
Владыка Захария уже более десяти лет руководил нашей епархией. Это был очень крупный, но и очень болезненный человек, не проживший и пары лет после этих событий. Он целую неделю жил в монастыре, то и дело принимая делегации «заинтересованных сторон», среди которых вместе с Иваном он принял как-то и бывшего слугу Федора Павловича Григория. Тот уже в который раз твердо и однозначно, как это делал и при его жизни, стал на сторону убитого барина, повторяя неоднократно загадочную, твердую, словно отлитую из свинца фразу, на которые он был мастак:



