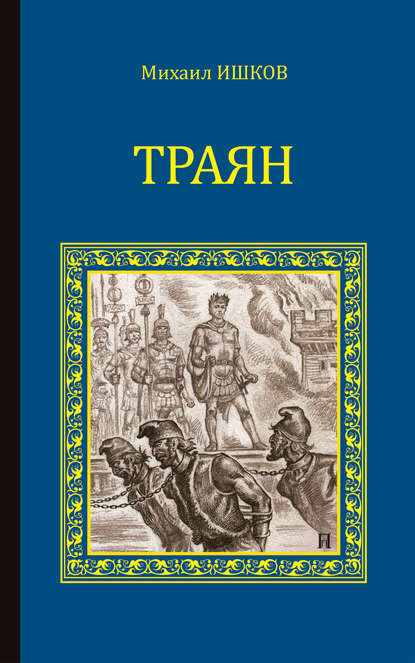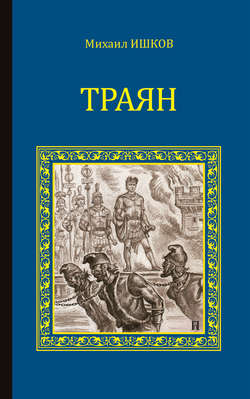
000
ОтложитьЧитал
Глава 3
Плиний как в воду смотрел – 18 сентября 96 года император Цезарь Домициан Август был зарезан в собственных комнатах. Спальник Парфений остановил императора, когда тот собрался в баню, – доложил, что его хочет видеть какой-то человек, у которого есть сообщение чрезвычайной важности. Этим человеком оказался управляющий Домициллы Стефан, в тот момент находившийся под судом за растрату.
Во избежание подозрений он притворился, что у него болит рука, и несколько дней подряд обматывал ее шерстяной повязкой. К назначенному часу он спрятал под нею особым способом изготовленный кинжал. Увидев императора, Стефан подал ему записку и заявил, что это список предателей, намеревающихся убить «божественного цезаря». Пока Домициан просматривал список, Стефан ударил его кинжалом в пах. Говорят, Домициан отчаянно боролся за жизнь, но присутствовавшие заговорщики и кое-кто из гладиаторов, сумевших проникнуть во дворец, добили его ударами меча.
В числе участников заговора называли жену императора Домицию Лонгину, префектов претория Норбана и Петрония!
Услышав о гибели тирана, сенаторы сбежались в курию, принялись вопить от радости. Потребовали лестницы, чтобы тут же сорвать со стен щиты и изображения ненавистного Домициана. Одновременно единодушным поднятием рук и торжествующими воплями постановили стереть все надписи, разбить скульптуры и уничтожить всякую память о злодее. Потом единогласно отдали голоса за пожилого, с трудом удерживающего себя в руках Кокцея Нерву, тем самым оплодотворив слух, что не только участвовавшие в убийстве знали о заговоре. Вот когда Ларцию открылась правда, касавшаяся потайного ядрышка, ловко упрятанного в непроницаемую косточку из нелепых советов, которыми одарили его Фронтин и Руф.
Услышав о гибели деспота, Ларций со всех ног помчался на форум. В тот день народу на площади собралось видимо-невидимо. Также бессчетно здесь было и золотых статуй, воздвигнутых прежним цезарем. Домициан испытывал какую-то болезненную склонность к собственному возвеличиванию. Рим был переполнен его изваяниями, отлитыми из драгоценного металла. Бронза его не устраивала, по-видимому, по причине своего плебейства.
Вбежав на форум, Ларций задержался возле одной из таких статуй. Изображение было огромное, в четыре человеческих роста, золота на него пошло не сосчитать. Всем хватит. Сначала толпа грозила умерщвленному тирану кулаками, швыряла в изображение камни, затем могучей струей плеснула народная ярость. Горожане набросили на шею статуи веревки и дружно повалили золотого истукана наземь. Правая рука прежнего цезаря, ранее на постаменте вскинутая в приветственном жесте, теперь казалась жалкой, устремленной вверх. То ли взывала к небу, то ли молила богов о защите – пусть грянет гром, молния ударит в святотатцев. А может, просила милосердия? Кто ее, руку, разберет. О каком помиловании могла идти речь, когда дело касалось такого отпетого злодея, каким был Домициан. После недолгой паузы, во время которой собравшиеся оторопело разглядывали лежавшее на спине изображение поверженного императора, толпа с радостными криками набросилась на груду золота. Кто-то из наиболее дерзких плебеев под рев толпы принялся отламывать низвергнутому тирану ступню, другой, достав самнитский кинжал, пытался отделить нос. Затем на статую набросились все, кто оказался поблизости. То же самое происходило и с другими статуями Домициана, находившимися на площади. Не удержался и Ларций. Пробившись вперед, он гневно вцепился в правую руку лежавшего на спине гиганта. Еще несколько мгновений назад эта рука благообразно вздымалась над площадью. Четыре пальца чуть расставлены, а большой отведен в сторону, так что все они сложились в характерном для мертвой хватки жесте. Создавалось впечатление, будь у римского народа одна шея, император не прочь был бы вцепиться в нее. А может, тиран уверовал, что уже вцепился и держит город мертвой хваткой?
Опасное заблуждение.
Выше локтя какой-то зверского вида мастеровой в кожаном фартуке, накинутом на голое тело, принялся зубилом и молотком отделять руку. Ему помогали такого же зверского вида чернобородые, ведущие себя нагло сообщники. Ларцию тоже нестерпимо захотелось взять что-нибудь на память. Что-нибудь ценное, увесистое. Возместить потери! Он и сам не заметил, как с помощью крюка и маленького кинжала принялся отделять от кисти большой палец. Трудился яростно, пока его не отпихнул один из тех, кто отрубал руку. Ларций тут же бросился в драку.
Между тем на площади уже полилась кровь. В схватке принимали участие рабы, вольноотпущенники, свободные граждане, в толпе мелькнула и широкая красная полоса на сенаторской тоге. Важный, рассвирепевший от жажды справедливости сенатор – нижняя челюсть у него заметно подрагивала – указывал своим рабам, уже вооруженными молотками и зубилами, как половчее отделить голову злодея. Первого нападавшего Ларций сумел отпихнуть. Тогда на него пошли стеной. Впереди выступал негодяй с совершенно омерзительной рожей – шрам через всю левую щеку, на лбу рубцы. Уж не из беглых? Подобная рана – явный признак того, что негодяй пытался замаскировать выжженное на лбу рабское клеймо. И эта тварь посмела поднять руку на римского всадника! Ларций испытал необыкновенный, будоражащий прилив негодования. Он закричал так, что вокруг него собралась толпа. Негодяй сплюнул и замешкался. Этих мгновений Ларцию хватило, чтобы добыть долгожданной трофей – указательный палец вздетой к небу руки.
Конечно, невелика награда, с полфунта. Это не отрубленная к тому моменту голова и не левая нога, которую с радостными воплями уже потащили в ближайшую подворотню, даже не рука, доставшаяся чернобородому мастеровому, но радости этот небольшой сувенир или, если угодно, трофей доставил немало.
В следующую минуту кто-то разгоряченный победой или, наоборот, посчитавший себя обиженным во время дележки крикнул, что на Этрусской улице полным-полно сторонников бывшего императора. Они засели в ювелирных, торгующих роскошными тканями, а также драгоценной посудой лавках и ждут момента, когда можно будет вновь восстановить тиранию.
Не тут-то было! Трезвые головы в сенате сумели настоять, чтобы новый император немедленно отдал приказ навести порядок на форуме. Преторианцы неожиданно уперлись, однако очень скоро внезапно сменили упрямство на чрезвычайную исполнительность. Центурионы бегом расставили караулы у сохранившихся драгоценных останков прежнего императора и еще неопрокинутых статуй. С наступлением темноты все эти предметы были доставлены в военный лагерь у Номентанской дороги, где гвардейцы разделили золото поровну.
Несколько дней Лонг ходил радостный, то и дело любовался на выдранный с «мясом» золотой палец, согревался надеждой: теперь новый принцепс разберется с его делом, даст острастку Регулу.
Однако радовался недолго. Шли дни, но в городе ничего не менялось. Скоро надежда угасла, подступила безысходность. Притушил надежду все тот же Регул, которому новый принцепс поручил надзирать за сбором отходов в Риме. Должность была исключительно хлебная, уважаемая. Прежнее недоумение проснулось в душе: в столицу начали возвращаться обиженные Домицианом изгнанники (вернулась и Гратилла, всю ночь проплакавшая с матерью у них в доме), в то же время доносчики как безбоязненно расхаживали по улицам, так и расхаживают.
В те дни его пытался поддержать Кореллий Руф – пригласил в свой дом, чтобы проститься. В записке говорилось, что Мировой Логос услышал его просьбу – тиран пал. Теперь он со спокойной совестью может уйти из жизни. Когда Ларций зашел к дядюшке в спальню, тот с гордостью сообщил:
– Третий день ничего не ем, – затем радостно добавил: – Уже скоро.
Ларций не нашел, что ответить. Сидел в растерянности возле узкого, простенького ложа с загнутой спинкой в изголовье и с удивлением, смешанным со страхом, разглядывал старика. Когда он только вошел к Руфам, жена Кореллия встретила его в атриуме и, глотая слезы, страстно принялась упрашивать гостя отговорить мужа от пагубного намерения. Призналась: «…нас он не слушает, на все мои просьбы, просьбы сестер, дочерей, маленького внука отвечает: пустое. Говорит, пора отдохнуть».
Наконец, сообразив, что молчание неприлично затянулось, Ларций, вспомнив о просьбе жены, предложил:
– Может, дядюшка, лучше повременить?
– Это тебя, – старик кивком, с трудом двинув головой и поморщившись от боли, указал на дверь, – они научили?
Ларций тоже кивком подтвердил его догадку.
Кореллий улыбнулся:
– Вчера внучок принес мне кусочек репы. Говорит: отведай, дедушка. Потом с любопытством посмотрел на меня – глазенки черненькие – и спрашивает: «Дедушка, ты совсем уходишь? Тебя больше не будет?» Совсем ухожу, малыш. Больше меня не будет. Будешь меня вспоминать? Буду, отвечает, очень буду. И заплакал: не уходи, говорит, дедушка. Я ему: ничего не поделаешь, Гай. Хватит.
Он улыбнулся, потом спросил:
– Как твои дела, Ларций? Все переживаешь, ночами не спишь? Пытаешь природу, за что тебя так? Выше голову, префект. Как видишь, все в нашей власти. Даже смерть. Что же, всю жизнь следовать заветам Зенона, прислушиваться к Эпиктету, а теперь раскиснуть? Проявить трусость? Неразумно без цели мучиться, неразумно забыть о долге, а тот, кто неразумен, безумец. Неужели на старости лет я добровольно запишусь в сумасшедшие. Нет, нет и нет. Умирать не страшно, когда знаешь, что тиран пал и ты приложил к этому руку. Я исполнил долг, того же и тебе желаю. Выше голову, Ларций. Приходи на похороны.
– Обязательно! – страстно выговорил Ларций и обеими руками сжал костлявую руку старика, лежавшую поверх одеяла.
Когда подошел к двери, его остановил возглас старика:
– Знаешь, сынок, а репки хочется. Солененькой, с оливковым маслом…
– Принести?
– Нет, сынок, сам полакомься. Репа – она очень полезна для молодого организма, – голос его упал до шепота. – Слышишь, сынок, права была супруга Тразеи, когда вонзила кинжал в сердце. Умирать не больно.
Кореллий Руф еще четыре дня ожидал смерти. После похорон Ларций опять всю ночь промаялся.
Героизма, разумного, трезвого выбора в решении старика Руфа было хоть отбавляй, однако опять же таилась в его поступке и некоторая недоговоренность, смутившая Ларция. Руф почувствовал себя свободным – это хорошо. Но разве это выход для него, отставного префекта?
Споткнувшись об эту мысль, Ларций некоторое время с недоумением прикидывал: вот он, Ларций, Корнелий Лонг, тоже старается избежать порочных страстей, старается не впасть в безысходность. Однако мучения все же испытывает. За объяснением обратился к своему личному рабу Эвтерму. Тот был большой дока по части умения жить. Эвтерм растолковал, что безысходность – это скорбь от размышлений, неотвязных и напряженных, а мучение – страх перед неясным. Зная причины, легче избавиться от этих пороков, но будет ли разумно в его, Ларция, положении пойти и повеситься, он сказать не может? С одной стороны, конечно, это достойный выход. Если ты ощущаешь себя свободным человеком, будь готов быть свободным во всем. С другой – не трусость ли бросить родителей на произвол судьбы, причинить им страшное горе? Пример Кореллия убедителен, однако другой мудрец, Агриппин, заявил: сам себе трудностей не создаю. Так и не найдя ответа, Ларций спросил: стоики утверждают, что наша душа – частичка, сколок, искорка мировой души или все пронизывающей, одухотворяющей природу пневмы. В таком случае эта самая пневма тоже должна испытывать страдания? Выходит, ей тоже неспокойно? Тогда о каком бесстрастии, снисходительном отношении к ударам судьбы может идти речь? Эвтерма ответил откровенно:
– Не знаю, господин. Я слыхал, что в провинции Иудея сто лет назад объявился некий безумец, утверждавший, что он – сын Божий и явился на землю смертью смерть одолеть. Что, мол, он и есть страдающая мировая душа, и те, кто поверит ему, придут к нему, получат надежду на спасение.
Ларций недоверчиво прищурился.
– Где, говоришь, проживал этот мудрец? В провинции Иудея? В этой Иерусалиме, которую сравнял с землей император Тит?
– Точно так, господин.
Ларций вздохнул.
– Варварское племя, а туда же! О мировой душе заговорили, – он подумал немного и с некоторым сожалением, справившись с подступившей к горлу безысходностью, добавил: – О сострадании-и-и…
В те дни, когда Нерва прятался в Палатинском дворце, случались у римлян и веселые минутки. Например, потешный водевиль сочинил своей смертью Веллей Блез, на которого даже после смерти Домициана продолжал давить Регул. Веллей, чувствуя приближение смерти, пообещал наглецу оставить ему в наследство свой знаменитый парк за Тибром, однако в оглашенном завещании не было ни слова ни о парке, ни о Регуле. Узнав, какую шутку сыграл с ним богач, сумевший провести самого пронырливого сенатора, которого знал Рим, Регул пришел в ярость, но успокоился тем, что купил у наследников Блеза этот парк и выбросил оттуда все, что напоминало о прежнем хозяине.
Прошел месяц, другой, но дело Лонгов так и не стронулось с мертвой точки. Новый принцепс в ответ на запрос Ларция ответил, что сейчас не время «сводить счеты и тем самым расшатывать устои государства». Затем провозгласил: «Требование момента в том, чтобы в Риме царили согласие и радость по случаю установления справедливости и торжества законов». «Мелкие дрязги, – добавил новый принцепс, – пора отставить в сторону». Этот ответ, по меньшей мере странный, если не издевательский, вконец расстроил Ларция.
Он решил поговорить с Плинием. Судя по предыдущей встрече, Плиний много знал и был вхож в круг близких Нерве сенаторов.
Сначала старый друг отвечал скупо и осторожно. Намекнул, что дело Лонгов, к счастью, пока не привело к убийственному для их семьи результату. То есть можешь и потерпеть… Другие пострадали куда чувствительнее, чем «ты, мой друг», и отдать долг этим убиенным, вернуть сосланных, вернуть честь лишенным ее – задача более насущная, чем помощь еще не успевшим пострадать и только ожидавшим своей участи согражданам, «как бы горько это ни звучало для тебя».
Действительно, звучало горько, но еще горше стало на душе, когда Плиний признался: Нерва висит на волоске. Преторианцы уже в открытую грозят принцепсу смертью, требуют, чтобы тот немедленно выплатил им наградные, объявил Домициана «божественным» и сократил срок службы до десяти лет.
Ларций рот открыл от изумления:
– Как до десяти? С шестнадцати до десяти?
– Точно.
– Выходит, в армии будут служить двадцать, а в гвардии десять? Кто же тогда будет воевать? Чем нам закрыть границы?
– Об этом я должен спросить тебя, опытного префекта, но не спрошу, потому что ответ ясен. Попытка Нервы усидеть на двух стульях – и нашим, и вашим – провалилась. Старик одновременно возвращает из изгнания несчастных и прощает доносчиков. Он называет это политикой национального примирения. Но если бы это была политика! Это всего лишь попытка удержаться у власти – попытка беззубая, трусливая, гибельная для государства. Нерва никак не может совладать со страхом, который поселился в нем во времена Домициана. Денежные поступления из провинций резко сократились, а кое-кто из наместников словно забыл о существовании столицы. Видно, решили воспользоваться моментом. Выплату жалованья легионам в начале года мы еще выдюжим, после чего государственное казначейство можно будет закрывать. Денег в казне нет и не предвидится, так что подкупать солдатню будет нечем. Сенат назначил комиссию из пяти человек для подготовки рекомендаций по снижению общественных расходов. В воинских лагерях на Данувии неспокойно, там со дня на день может вспыхнуть мятеж. Большие сомнения вызывает верность наместника Сирии Красса Лицинциана, родственника Гая Кальпурния Красса. Под его командой четыре легиона, судя по донесениям верных людей, он то и дело вспоминает, что является родственником Пизона, наследника Гальбы.
– Это тот, которого Гальба избрал себе в соправители, после чего Пизон не прожил и года?
– Рад, Ларций, что ты хорошо знаком с римской историей, потому что наступают времена, о которых не хочется вспоминать, тем более жить.
– Ты имеешь в виду гражданскую войну, которая случилась полвека назад?
– Да.
– Не понимаю, зачем ты мне это рассказываешь?
– Чтобы ты был готов ко всему.
– Неужели нет выхода?
– Опытные люди посоветовали Нерве взять себе соправителя. Они настаивают на кандидатуре Кальпурния Красса. Я решительно воспротивился. В этом случае гражданская война неизбежна, ведь все мы прекрасно знаем, что представляет из себя Красс. Напыщенный петух, который сначала делает, потом думает.
– Кого же ты предлагаешь?
– Наместника Верхней Германии Траяна. И не только я, но и Фронтин, и те, кто в настоящее время способен мужественно взглянуть правде в глаза. Нас много.
– Но он родом из провинции?
– Это хорошо или плохо, Ларций?
Лонг смутился.
– Не знаю… – наконец выговорил он.
– И я не знаю, а всех остальных претендентов знаю и могу сказать, что каждый из них с легкостью проделает путь Домициана, а то и Калигулы. Поэтому я за Траяна. Удивительно, но бедствия порой благотворно действуют на смертных! Многие словно прозрели и начинают внимать доводам разума. Когда я спрашиваю достойных и уважаемых людей – какой принцепс нам нужен? – все едины в том, что пора рискнуть. Обратиться к свежей крови. Однако каждый старается выдвинуть свои условия, этих требований уже не сосчитать…
– Это естественно, Секунд.
– Хорошо, давай сыграем с тобой в ту же игру? Выдвигай требования, которым должен соответствовать будущий правитель.
– Во-первых, ему должна доверять армия.
– Согласен.
– Во-вторых, иметь опыт управления государством
– Нет возражений.
Ларций заинтересовался. Он продолжил уже с некоторым воодушевлением:
– Претендент должен быть достаточно молод, иметь голову на плечах, отличаться добродетелями. Быть щедрым, великодушным, дальновидным, не отличаться злопамятностью, уметь выслушивать других… Секунд, я могу перечислять до утра, только что толку от подобного реестра. Таких людей не бывает.
– Точно. Но из всякого правила есть исключения. Траян – одно из них. Он разумен, умерен, справедлив и мужествен.
– Я слышал о нем много хорошего, – согласился Ларций, – но что будут стоить эти достоинства, когда власть окажется в его руках?
– Ты прав, но как нам быть в тот момент, когда Риму грозит гражданская война, когда подняли голову даки. Об этом не сообщают в Городских ведомостях, но Децебал уже попросту оккупировал правый берег Данувия. Наш берег, Ларций! Его люди снуют по великой реке, обирают купцов, при каждом удобном случае беспрепятственно высаживаются на берег, грабят обе Мезии. В Риме положение не лучше. Ночью без вооруженной стражи лучше на улицу не выходить, а в некоторых кварталах и днем опасно появляться. У нас по-прежнему торжествуют регулы и сацердаты. Преторианцы смеют грозить правителю мечом. Не лучше ли хотя бы раз в жизни довериться разуму и предпочесть очевидные достоинства малоизвестного претендента мелким порокам известных? В конце концов, чем мы отличаемся от животных?
– Расчет верный, – кивнул Ларций, – но как много неизвестного остается за расчетом! Я готов рискнуть, иначе мне никогда не избавиться от Регула.
Ларций как в воду глядел. На следующий день в его доме появился вольноотпущенник Регула – длинный, мрачный, грубоватый, с лошадиным лицом Порфирий. Напомнил о завещании. В отличие от улыбчивого толстяка Павлина, этот выражался прямо:
– Зря, Ларций, рассчитываешь на нового принцепса. Нерва стар и немощен, армия против него, так что давай раскошеливайся. Мой хозяин обвиняет твоих родителей не в оскорблении конкретного цезаря, а в пособничестве врагам отечества. Это обвинение еще никто и никогда не оставлял без внимания.
На этот раз Ларций обошелся без пощечин, однако затем до утра простоял у окна.
Какая надежда на Траяна? Кто он, Траян? Папаша звезд с неба не хватал, все что выслужил, заработал горбом и беспрекословным повиновением. Сынок весь в отца. Тоже звезд с неба не хватает, а если бы и хватал, в человеческих ли силах снять заклятье с Рима? Дано ли смертному навести порядок в этой клоаке, от которой отступились боги? Способен ли обычный, из плоти и крови, человек помочь подданным, тоже скроенным из плоти и крови, хотя бы на мгновение почувствовать себя гражданами, нужными государству людьми?
Существует ли такой человек?!
Глава 4
Эдикт об усыновлении и возведении в соправители императорский гонец вручил Марку Ульпию Траяну вечером, когда тот вернулся с охоты. Весь день травили медведя. Тот как раз собирался залечь на зиму, да не тут-то было. Траян разохотил его подраться. Медведь, правда, попался молодой, охотник из племени треверов объяснил, что зверю только три года. Еще ни веса, ни дикости набрать не успел.
Когда зверь встал на задние лапы и двинулся в сторону наместника – голова на четверть человеческого роста повыше Траяновой, – Марк выхватил нож, шагнул ближе. Мелькнула мысль, что мишка уже и не наберет ни того, ни другого. Теперь, выходит, лесной житель рычал не на простого вояку, пусть даже в ранге наместника, а поднял лапу на самого императора! Тут же родилась мгновенная фантазия – медведь подходит ближе, вдруг склоняется перед ним и ревет по-своему, по-звериному: «Аве, цезарь! Аве, великий!..»
Но этот выверт, сцена из сказки, которыми в младенчестве баловала его чернокожая нянька Сельма, представился потом, в спальне. В первую минуту после возвращения, когда въехали во двор провинциального претория, вся охотничья компания с изумлением уставилась на местного квестора. Старик выскочил из двухэтажного административного здания, подобрал полы тоги и зайцем – по грязи! – бросился к наместнику.
Друзья-приятели придержали коней – никто не ожидал подобной прыти от отличавшегося редкой спесивостью чиновника. Квестор всегда вел себя чрезвычайно величаво, к месту и не к месту поминал, что родом из Рима. Он был абсолютно уверен, что все хорошее, что есть в мире, может происходить только из великого города.
Между тем квестор, добежав до коня Траяна, в буйном порыве прижался лицом к ноге Марка. Тут уж все окружающие потеряли дар речи. Между тем старик воскликнул:
– Божественный! – и зарыдал.
Траян так и остался сидеть на коне. Наконец, справившись с секундным замешательством, освободил ногу из объятий римлянина и поинтересовался:
– Хорошо, божественный. Что дальше?
Квестор звучно сглотнул, прокашлялся и почти шепотом сообщил:
– Гонец из Рима.
– Ну, гонец. Дальше?..
– У него эдикт несравненного Нервы. Он усыновил тебя, Марк. Ты – император! Ты – цезарь, Марк. Ты – соправитель нашего мудрейшего Кокцея.
– Не врешь? – недоверчиво спросил Траян.
– Как можно, великий! – изумился и даже чуть испугался квестор. – Разве эдиктами шутят?!
Траян, чуть отъехав в сторону от залившегося слезами чиновника, соскочил с коня. Марк был высок и некрасив – подбородок маловат и невыразителен. Ни слова не говоря, широким шагом направился в преторий – едва сдерживал себя, чтобы не побежать вприпрыжку, как квестор. Наконец одолел несколько десятков шагов до ступеней, ведущих в неказистое двухэтажное здание. Там, в темном коридоре, прибавил ход, ворвался в парадный зал. Здесь его поджидал уставший до изнеможения всадник с преторианскими значками. Молоденький флажконосец, сопровождавший императорского гонца, прислонился к колонне и откровенно посапывал. Услышав шум распахиваемых дверей, частый топот, флажконосец встрепенулся, вытянулся и вслед за императорским гонцом вскинул руку.
Оба в один голос рявкнули:
– Аве, цезарь! Аве, великий!..
Только теперь Траян поверил. Когда гонец передал ему перстень с голубоватым, увесистым бриллиантом, подарком Нервы, он убедился: это не сказка, не опала, не бред какой-то! Невозможное, о котором он и помыслить страшился, свершилось!
Конечно, весь последний год Марк сознавал, куда утягивал его ход событий. Уже с полгода обладавшие влиянием сенаторы то и дело навещали задрипанный Колон (Кёльн). Кое-кто из гостей оправдывал свой приезд исключительно хозяйственными интересами – многие вдруг воспылали страстным желанием прикупить здесь земли и настроить виллы. Все нарадоваться не могли пейзажами дикой Германии – эта часть земли была совсем недавно отхвачена Домицианом у племени хаттов. Даже такой уважаемый человек, как Секст Фронтин, причиной поездки назвал желание подарить молодому наместнику свой труд, посвященный всяческим военным хитростям, которые применяли славные полководцы древности.
Когда же популярный полководец попросил наместника дать оценку его труду, Марк опешил!
Потом задумался.
Все гости дружно и многословно пересказывали последние столичные новости, сетовали на незавидное положение, в каком оказался страдающий от страха Нерва. Преторианцы бунтуют, требуют наказать убийц «славного» Домициана. Цезарь фактически находится под домашним арестом в собственном дворце! Однажды подставив шею под мечи преторианцев и не сумев спасти своих друзей, Норбана и Секунду, он совсем потерял присутствие духа. Более того, император был вынужден публично объявить благодарность убийцам за «спасение государства».
Ночами сенаторы вели откровенные разговоры о гибельном положении, в каком оказался Рим. Как о чем-то страшно секретном, рассказывали о небывалом дефиците государственной казны, истощенной постройками и зрелищами, которые устраивал Домициан. Повышение жалованья военным, раздача донативов (денежных подарков) по случаю мнимых военных успехов не только развратили армию, но и окончательно подорвали финансовое положение империи. Римская граница, в сущности, оказалась открытой, пути для нападения варваров свободны. Резко уменьшилось поступление налогов. Гости жаловались, что негодяи, видя такую неподготовленность Кокцея к власти, распоясались вовсю. Воровство и своеволие, которое после смерти державшего их в жесткой узде Домициана начали позволять себе легаты и проконсулы в провинциях, превзошли всякие пределы. Разоткровенничавшись, делились слухами, ходившими по Риму, – безответственные люди, например, утверждали, что аристократ Гай Кальпурний Красс имеет намерение силой захватить власть в стране. Он уже отправил в Далмацию уйму денег на подкуп солдат, но, главное, сумел договориться с наместниками Сирии, Каппадокии и Вифинии, под рукой у которых было до шести легионов. Сообщали о подозрительном шевелении в Парфии и Дакии – цари даков и парфян якобы снюхались между собой. Если да, то при нынешних обстоятельствах это была серьезная угроза самому существованию государства. Гости делились мнением о том, какие меры необходимо предпринять, чтобы выправить положение. Твердили о твердой руке, способной наконец покончить с безобразиями, творившимися в столице, приструнить гвардию, справиться с разнузданностью дрянных людишек.
Конечно, это были слова, только слова. Цену словам Траян знал: прежний император, Домициан, приучил, что всякий словоохотливый, тем более доброжелательный, посетитель вполне может оказаться первостатейным доносчиком. Нынешнего императора, Кокцея Нерву, Марк видал только издали. Слушая гостей, Марк невольно задавался вопросом: неужели стареющий и трусоватый Кокцей, чтобы удержаться у власти, пошел по пути Домициана? Сам отвечал: непохоже. Друзья в Риме сообщали, что часть сенаторов навестила не только его, но побывала и в Далмации, Сирии, Каппадокии, Вифинии.
Когда тот же Фронтин поинтересовался, каким видит Траян дальнейший ход событий в государстве и как он смотрит на взаимоотношения сената и принцепса, Марк сказал себе: вот он, момент истины! Вот ради чего эти важные, надменные римляне помчались в такую даль. Тут же, опять же про себя, добавил: стоп. Он запретил себе даже мечтать о самой возможности приблизиться к власти, получить в руки полномочия, позволившие бы ему самому решать судьбу Рима. Насчет взаимоотношений цезаря и сената ответил, что видит их как крепкий союз, основанный на четком разделении обязанностей. Образцом для него служит порядок, установленный Октавианом Августом, император, он же принцепс или цезарь, всего лишь первый в сенате и в государстве гражданин. Власть цезаря не подлежит сомнению, однако в его обязанности входит также уважительное отношение к сенату и его членам.
А если, спросил Фронтин, кому-то придет в голову обвинить кого-либо из членов сената в оскорблении величества или в подготовке заговора, как ты поступишь?
Предложу организовать внутрисенатскую комиссию. Когда она закончит работу, ознакомлюсь с окончательными выводами, однако суд должен проводить сенат.
Фронтин одобрительно кивнул.
Когда консуляр уехал, Траян чуть отпустил натянувшие душу вожжи и оценил свои перспективы. Ну префект претория, ну друг цезаря, ну полководец, которому Нерва поручит войну с Парфией, – это понятно и охотно. Примерять же заранее пурпурную тогу августа, надеяться на то, чтобы взять в руки императорский жезл, взять орла, – это был смертельно опасный перехлест. В подобной дерзости было что-то фантастически немыслимое, невозможное для рожденного в Испании провинциала.
Вот почему, когда гонцы вскинули руки и гаркнули, так нестерпимо и радостно ожгло. Тут же в зал ввалилась толпа, принялись поздравлять, кто-то из наиболее искушенных принялся целовать руки. Траян, не в состоянии вымолвить ни слова, брезгливо отдернул их, глянул грозно. От рук отстали, однако начали громогласно скандировать:
– Аве, цезарь! Аве, великий!..
Так и громыхали, пока чернокожий Лузий Квиет, его начальник конницы, не хлопнул новоявленного императора по плечу:
– Теперь, Марк, ты тоже стал божественным! Видать, крепко напугали преторианцы старика Нерву, что он решил поискать у тебя защиты.
Квиета поддержал – но куда тише и рассудительнее – Луций Лициний Сура, ближайший друг Марка, весь этот год находившийся в Колоне и постоянно обращавший мысли Марка к искусству управления государством, а также весельчак и «неунываха», «неисправимый жирнюга» и «паннонский кабан», как звали его приятели, Гней Помпей Лонгин.
– И не только Нерва! – поддержал мавра Лонгин. – Но и сенат, оба высших сословия, а также плебс. Скажи что-нибудь, Марк, не стой столбом.
Новый император улыбнулся, затем вскинул обе руки и в мгновенно наступившей тишине исторически провозгласил:
– Завтра войсковой сбор, жертвоприношения, раздача наградных. Сейчас спать.
– А по стаканчику, Марк? – предложил «паннонский кабан».
– Завтра, дружище. Все завтра.
Всю ночь Траян промаялся на ложе. Приходила жена, обняла его. Он попросил оставить его одного, прогнал и личного раба Зосиму.
Тот начал возражать, однако Траян порадовал пожилого грека:
- Девятое Термидора
- Яд Борджиа
- Двенадцатый год
- Аскольдова могила
- Темные воды Тибра
- Нерон
- Глаголют стяги
- Императрицы (сборник)
- Марк Аврелий
- Степан Разин
- Окровавленный трон
- Великий раскол
- Юный император
- Мирович
- Два императора
- Екатерина Медичи
- Ассасины
- Месть Аскольда
- Падение Царьграда
- Наследница трех клинков
- Камень власти
- Коммод
- Семирамида
- Рижский редут
- Береговая стража
- Она и Аллан (сборник)
- Штурм Корфу
- Царь Гильгамеш
- Фридрих Барбаросса
- Двести тысяч золотом
- Костры Фламандии
- Цитадель тамплиеров
- Шепот Черных песков
- Александр Первый
- Капитан Наполеон (сборник)
- Княжна Тараканова (сборник)
- Кольцо императрицы (сборник)
- Опасный замок (сборник)
- Петр и Алексей
- Волхвы (сборник)
- Граф Мирабо
- Последние дни Помпеи
- Принцесса Баальбека
- Саламбо (сборник)
- Два брата, или Москва в 1812 году
- Смерть Богов (Юлиан Отступник)
- Французский дворянин
- Нерон (сборник)
- Проклятие тамплиеров (сборник)
- Воля судьбы (сборник)
- Воскресшие боги (Леонардо да Винчи)
- Шестая жена короля Генриха VIII
- Битва за Рим
- Борьба за трон (сборник)
- Господин Великий Новгород (сборник)
- Любовь и корона
- Загадка песков
- Траян. Золотой рассвет
- Капер Его Величества
- Кудесник (сборник)
- Черная стрела (сборник)
- Жанна д'Арк
- Тайны французской революции
- Веспасиан. Трибун Рима
- Русский Ришелье
- Обреченный царевич
- Золотой корсар
- Андрей Рублёв, инок
- Гостиница тринадцати повешенных
- Бал жертв
- Железный Хромец
- Мавры при Филиппе III
- Боги войны
- Гугеноты
- В расцвете рыцарства (сборник)
- Пагуба (сборник)
- Императрица семи холмов
- На острие меча
- Капитан гренадерской роты
- Личный враг Бонапарта
- Ниндзя в тени креста
- Ковчег Могущества
- Воевода Дикого поля
- Замок Орла
- Без права на награду
- Барбаросса
- Беглые в Новороссии (сборник)
- Капитан Темпеста (сборник)
- Маргарита Бургундская
- Роялистская заговорщица
- Лев Святого Марка. Варфоломеевская ночь (сборник)
- Тайны Нельской башни
- Русь на Мурмане