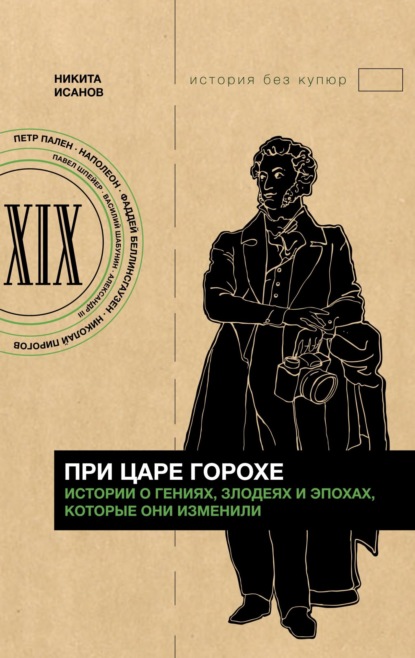При царе Горохе. Истории о гениях, злодеях и эпохах, которые они изменили
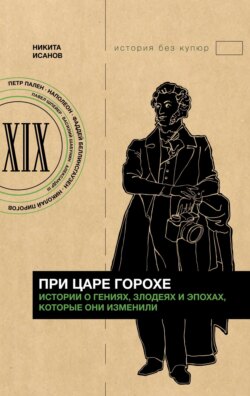
000
ОтложитьЧитал
После остановки в Сиднее к русским мореплавателям на грязной лодке прибыло семейство туземцев. Они объяснялись на ломаном английском и кланялись очень низко. Беллинсгаузен велел угостить их грогом и сухарями. Видя такую щедрость, посетители стали выпрашивать себе табак, одежду, денег, но Фаддей Фаддеевич объявил им, что все это они получат тогда, когда доставят на русские суда рыбу, птиц, кенгуру и других животных, на что те ответили «есть, есть». Там же на берегу, где пришвартовались корабли, наши мореходцы начали обустраивать себе обсерваторию, а рядом две палатки: одну для караульных, другую для бани. Матросы были в восторге: после стольких дней можно спокойно на берегу помыться. Ну счастье же! Остановка в Сиднее перед дальнейшим плаванием была нужна не только кораблям, которые нуждались в ремонте, но и некоторым матросам, заболевшим цингой. Но что самое интересное, так это то, что за это время поправились и свиньи с баранами, у которых за 130 с лишним дней плавания распухли и посинели ноги и десны, да так, что даже жевать не могли. В теплом австралийском климате они выздоровели, набрали вес, да так хорошо, что их даже привязывать не стали, чтобы не убежали.

Карта маршрутов экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева
8 мая путешествие продолжилось. И 28 мая суда бросили якорь у берега Новой Зеландии. К морякам навстречу двинулись две лодки. В одной, Беллинсгаузен пишет, было 23 человека, в другой – 16. Прямо делегация целая. Один человек встал в лодке и начал что-то говорить, размахивая руками. Никто ничего не понимал. Беллинсгаузен смекнул и показал то, что поняли сразу все. Он достал белый платок и начал им манить к себе приплывших островитян. Далее Фаддей Фаддеевич подозвал к себе того самого старика, который вначале говорил что-то и махал руками, и заметил, что тот просто дрожит от страха. Решили разрядить обстановку. Беллинсгаузен сразу подарил ему бисеру, зеркало и ножик. Потом объяснил, что желает получить гийку[17]. Старик сразу понял его, рассмеялся, стал повторять товарищам: «гийка, гийка». И туземцы показали, что готовы принести желаемое.
Несмотря на то что экспедиции удалось установить с островитянами тесный контакт, капитан наш приказал не расслабляться и всегда носить при себе заряженные ружья. Тот самый старик, с которым беседовал Беллинсгаузен, оказался, видимо, вождем и был принят спустя несколько дней на корабле «Восток» и даже приглашен к офицерскому обеду. Тот, сидя за обедом, всю сервировку перебирал руками, но не начинал есть – видимо, смущался, так как не понимал, что и как правильно нужно делать. Это был его первый опыт есть вилкой. В знак закрепления дружбы Фаддей Фаддеевич подарил старику отполированный топор. Тот ему так обрадовался, что даже не смог усидеть за столом. Вылетел на палубу и, показывая топор землякам, кричал «токи, токи[18]» и вовсю обнимал Беллинсгаузена. Туземцы настолько приняли русских моряков, что приезжали регулярно и помогали им ремонтировать суда. Моряки их постоянно угощали обедами, те после обеда пели и плясали. Перед отплытием из Новой Зеландии туземцы принесли морякам несколько больших корзин только что вырытой картошки. Принесли дикой капусты, сельдерея. Из этого моряки наварили целый чан щей. Моряки, помимо того, что ремонтировались и отдыхали на острове, собирали и важные исследовательские данные. Так, например, Беллинсгаузен как-то раз спросил у старика, вождя племени, с которым уже постоянно обедал, ест ли он человеческое мясо, на что тот ответил, что очень охотно. Так было подтверждено то, о чем много раз говорили предыдущие мореплаватели: что новозеландцы – людоеды. Далее был остров Опаро, находящийся севернее Новой Зеландии, сейчас он называется Рапа-Ити. Там моряки оказались в конце июня 1820 года. Их также на лодке встречали местные островитяне. Беллинсгаузен их даже на шлюп пустил. Впрочем, пока здоровался с их старшиной, другие туземцы пытались что-то стащить, вот все равно что. Один даже успел схватить спинку стула и бросился с ней в воду. Но часовой тут же прицелился в него ружьем, и он возвратил украденное. Когда со шлюпа «Мирный» выпалили из пушки[19], дикари и вовсе в ужасе повыбрасывались с корабля прям в воду. Кстати, дикари вообще почти не пользовались трапом, не только эти, вообще никакие островитяне. Они просто сигали в воду прям с палубы и все тут.
Вообще, опарцы, в отличие от многих тех, с кем приходилось на различных островах сталкиваться русской экспедиции, были самые пронырливые. Они постоянно пытались что-то стащить. На «Мирном» был такой случай. Улучив минуту, когда все матросы заняты, опарец схватил один корабельный инструмент и бросился с ним в воду. За ним побросались и остальные, кроме старейшины. Лазарев заметив пропажу. Велел задержать старика и знаками объяснил дикарям, что не выпустит их вождя, пока те не вернут украденную вещь. Туземцы через этого самого старика сообщили, что на лодке нет ничего украденного. Но Лазарев продолжал угрожать. Островитяне начали показательно шарить в лодке, вытаскивая то поломанную корзину, то куски камыша, ну то есть как бы и нет у них того, что ищут русские моряки. Далее Лазарев велел матросам прицелиться. Дикари перепугались, громко закричали и отдали морякам украденный инструмент.
Плавание продолжалось. Моряки подходили на кратковременные остановки к разным островам. Там тоже были постоянные встречи путешественников с местными дикарями. Кто-то был настроен положительно, кто-то более враждебно. Тех, кто не боялся исследователей, наши моряки обязательно одаривали какими-нибудь подарками. Одного дикаря и вовсе нарядили в красный гусарский мундир и на шею повесили медаль. Были и те дикари, которые прибывали с соседних берегов в лодках и с пиками, явно планируя напасть. Но их сразу успокаивали парочкой выстрелов рассыпающихся в воздухе ракет – те разворачивались и уплывали быстрее, чем приплывали. Вообще, эта экспедиция по тропической части Тихого океана была ценна не только общением с другими народами и вещицами, которые удавалось обменять (их затем моряки привезли в музеи Российской империи), а в первую очередь открытиями, которые сделал Беллинсгаузен. Он открыл и описал целый архипелаг островов, многие из которых были вовсе неизвестны Куку. Эти острова Фаддей Фаддеевич называл в честь русских деятелей: графа Аракчеева, адмирала Крузенштерна, графа Милорадовича и многих других.

Вид острова Отаити с мыса Венуса. Павел Михайлов. Иллюстрация из «Атласа к путешествию капитана Беллинсгаузена»
Далее был остров Отаити, сейчас называется Таити. Один из крупнейших островов Полинезии. Туда наши исследователи зашли 22 июля 1820 года. Запаслись водой, свежей провизией, проверили хронометры и уже 27 июля снова вышли в море. 9 сентября «Восток», а 10 сентября и «Мирный» вернулись в Сидней. Здесь морякам предстояло основательно подготовить корабли для нового выхода в полярные воды. Экспедиция по тропикам закончилась, и нужно было еще раз вернуться на исследование вод у берегов шестого континента. Из Австралии исследователи взяли с собой множество разных птиц, клетки с которыми каждый день выносили на палубу как на прогулку. Были и какаду, которые говорили по-английски, и королевские, и синегорские попугаи. Всего взяли с собой 84 птицы. Был на шлюпе ручной кенгуру. По мере движения к полюсу холода морякам пришлось одеваться, а птиц закрывать в теплых внутренних помещениях. 18 и 19 ноября 1820 года шлюпы вновь подошли к острову Маккуори. Он сильно южнее Новой Зеландии. Там уже холоднее. После этого острова шлюпы взяли курс на юг, то есть всегда, когда моряки брали курс на юг, это означало – в сторону самой Антарктиды. Двигаться было сложно. Сильный снег, ветер. Однако движение не прекращалось, и 10 января 1821 года моряки достигли крайней южной точки своего плавания и в этот же день открыли остров, который был назван в честь Петра I. Но подойти к нему не удалось. 17 января исследователи открыли Землю Александра I.
30 января Беллинсгаузен принимает решение повернуть в Россию. «Восток» становился совсем непригоден для дальнейшего плавания. К этому времени русская экспедиция сделала все, что требовалось. Поэтому это решение Беллинсгаузен принял со спокойным сердцем.
27 февраля два шлюпа снова зашли в Рио-де-Жанейро. Здесь закупили провизию, поправили суда, что заняло аж два месяца. В конце апреля «Восток» и «Мирный» смогли наконец выйти из Бразилии. 18 июня шлюпы прибыли в Лиссабон. В 8 утра 28 июня моряки пошли дальше. До дома оставался месяц, который так предательски долго тянулся. 20 июля шлюпы вступили в Балтийское море и 24 июля пришли в Кронштадт.
Лазарев по итогам плавания был возведен в звание капитана 2 ранга, Беллинсгаузен в звание капитана 1 ранга, а через 2 месяца в капитан-командоры. Ему после плавания сам император Александр I на аудиенции стул предлагал, говоря: «Вы вернулись из далекого путешествия и, вероятно, устали, садитесь, капитан».
Великая русская экспедиция продолжалась 751 день, из которых 224 дня суда стояли на якоре и 527 дней ходили под парусами. Открыли 29 островов. А суммарное расстояние составило больше 92 тысяч километров.
Глава 4
Золотая лихорадка в Сибири. Русский Клондайк
Легенда: жил в окрестностях реки Берикуль крестьянин – не то ссыльный, не то старообрядец. Звали его Егор Лесной. Жил в избе вместе со своей воспитанницей на берегу озера. Время от времени отправлялся в глухую горную тайгу, откуда возвращался с золотом. В избе у крестьянина висела икона, щедро украшенная драгоценным металлом. Больше Егор Лесной золота в доме не хранил, боялся, что украдут, поэтому закапывал все в землю не то рядом с домом, не то в тайге, чтобы точно никто не нашел. Никому он не рассказывал своего секрета, даже воспитаннице своей. Тайна была только его. В 1826 году появились в сибирской тайге купцы – дядька с племянником, Андрей Попов и Федот Попов. Узнали они о том самом крестьянине да послали к нему своих помощников, дабы выведать секрет, где золото он берет, но секретов своих он им не рассказал. Тогда было собрался Андрей Попов сам ехать к нему на Берикуль, поговорить да предложить что-нибудь за тайну его драгоценную, да вот только не успел Попов. Приехал и увидел, что Егора Лесного задушил кто-то. Воспитанница рассказала, что знала. Так Поповы золото добывать начали.
Сегодня доподлинно неизвестно, был ли крестьянин Егор Лесной или его не было вовсе. Легенд самых разных ходило очень много. Но что точно не выдумка, так это купцы Поповы, которые в 1826 году получили право поиска золотоносных месторождений, а в 1827 году открыли золотой прииск, считающийся первым в Сибири. Думается мне, что Поповы, оказавшись в бескрайней сибирской тайге, навряд ли сами без чьей-то помощи смогли найти первое золотоносное месторождение. Возможно, они нашли его по наводке того же самого Егора Лесного. Так начиналась золотая лихорадка в Сибири в XIX веке. Много всего будет впереди, одних золотые прииски вознесут до небес, других разорят в пух и прах.
В мае 1812 года Сенат издал указ «О предоставлении права всем Российским подданным отыскивать и разрабатывать золотые и серебряные руды с платежом в казну подати». По сути, указ положил начало золотой промышленности в Российской империи. Еще за несколько лет до этого никто и предположить не мог, что в Сибири находится так много золота, но даже когда начали разрабатывать, об этом и не догадывались. Первыми, кто поехал на разведку в Сибирь, были те самые дядька и племянник Поповы. Они сразу получили разрешение. Кстати сказать, разрешение изначально могли получить дворяне, почетные граждане или купцы, которые в свою очередь нанимали на работы простых людей – крестьян, работавших на этих приисках. А вот с выходом «Устава частной золотопромышленности» в 1870 году к разработке новых месторождений и добыче могли быть допущены уже абсолютно все сословия. Ну, кроме разве что совсем малоимущих, потому что им нечем было платить, скажем так, немаленький горный налог. Но мы возвращаемся в 20-е годы XIX века.
Так вот, поехали купцы Поповы на поиски золота и в августе 1828 года уже сделали заявки на 11 найденных ими приисков. Прииски Поповых находились на реке Кии в восточной части тогдашней Томской губернии. К золотодобытчикам еще успеем вернуться, сейчас хочу рассказать, что из себя представляла Восточная Сибирь накануне золотой лихорадки, когда там еще была тишь да гладь.
Изначально на всех золотопромышленников смотрели не как на торговых деятелей, рискнувших всем и отправившихся на столь затратное дело, а как на азартных игроков. Местное население, зная, что живет, можно сказать, на золоте, считало золотопромышленность вредным делом, которое плохо влияет на нравственность, и вообще не видело в золоте ничего толкового и основательного. Именно поэтому до 20-х годов никто это золото из земли и не доставал. Однако еще раз оговорюсь, не все так думали, но подобное мнение было очень и очень распространено среди простого народа. И это мнение людей строилось на довольно прочном фундаменте. Аргументы в пользу зловредности добычи золота следующие: якобы с развитием золотопромышленности в Сибири стали больше пьянствовать и буйствовать, земледелие пришло в упадок, так как все крестьяне ушли на прииски, а это влечет за собой истощение хлебных запасов, и голод, который, по мнению местных жителей, угрожает Восточной Сибири и рано или поздно проявит себя, а подвезти хлеб не предоставится возможным, так как на лошадях такой объем не привезешь, а про железные дороги и вовсе еще не слышали. Ну, какое-то рациональное зерно в этом есть. Золотодобыча на край-то все-таки повлияла. Поскольку, если довериться данным статистики, то до золотодобычи в Сибири все было дешево. Пуд[20] муки стоил всего 5 копеек, кучера можно было нанять на годовую работу всего за 6–10 рублей ассигнациями[21]; говорят, что в дозолотопромышленное время можно было выйти на базар с одним рублем и закупиться припасами на неделю, а теперь же, когда в Сибири расцвела добыча золота, на базаре и 10 рублей мало. Подорожало все. Цены были нелепые и даже выше петербургских. Ну и пьянствовать действительно стали больше. Но только не потому, что с добычей золота народ стал развратен, нет, а потому, что пропивать было раньше нечего. А теперь любой крестьянин, работая у какого-нибудь купца на приисках, получал хороший аванс и, понятное дело, больше половины, если не все, пропивал.

Добыча золотосодержащего песка на реке Берёзовке. Сергей Прокудин-Горский
Простой люд, который работал на приисках, пьянствовал, конечно, невероятно. И ладно бы просто пьянствовали, так они же и вели себя при этом, как будто их аванс не 50 или 100 рублей, а раз в 100 так больше. Притом дурили их колоссально. Они требовали «вина, что господа пьют», которого им не давали даже нюхать, а вместо этого за 7–8 рублей продавали бутылку редкостной бурды. Еще раз, за 7–8 рублей, представляете? Они пропивали за месяц все, что зарабатывали на приисках за полгода, а когда деньги кончались, пропивали все с себя: полушубок, сапоги, шапку, рубашку. В общем, все, что в кабаке принимали, то и пропивали. Потом, отойдя от попойки, являлись в золотопромышленную контору, брали задаток рублей так в 100 или чуть побольше, новую одежду, и снова бежали и все пропивали. Ну, это, само собой, все происходило в зимнее время, пока работы на приисках закрыты, – они обычно открывались с марта месяца, когда лед на реках вскрывался и немного сходил снег в тайге, чтобы можно было работать дальше. Но ведь вся эта пьяная свистопляска сопровождалась еще и беспримерной глупостью, которую творили рабочие. Вот, например: в городе Енисейске один рабочий, купив кусок шелковой материи, велел постелить ее поперек грязной улицы, чтобы перейти по материи, которую он купил за заоблачную цену, как по мосту, дабы не испачкать свои и без того уже грязные сапоги. Просто вслушайтесь: шелковую материю постелить на грязь! Потом он отдал материю и в довесок свои последние 10 рублей двум товарищам, которые вели его под руки по этому шелковому мосту. Другой же рабочий развлекался иначе. Он пришел на станцию пешком, нанял девок, запряг их в сани и велел тащить его. Но что особенно веселит в этой истории – это была середина сентября, и бедные девки тащили «богатея» по голой земле, представляете, сани скрежетали, а тащить им было велено до соседней деревни аж 15 верст.
А один частный пристав и вовсе вспоминал такую историю:
«– Иду, – говорит – и вдруг останавливает меня рабочий.
Тот его спрашивает:
– Что тебе?
А рабочий отвечает:
– Ты, ваше благородие али высокоблагородие, бог тебя знает, как там тебя величать, не лайся. И сует, – говорит пристав, – мне в руку пятидесятирублевую купюру.
Я ему:
– Что ты, братец! За что? Ты ни в чем не попался.
А рабочий, как по мне, так сказал просто блестящую фразу:
– Ничего, – говорит, – не попался сегодня, так все одно попадусь завтра, да уж дать будет нечего. Все пропью».
Но то были рабочие, еще хлеще зажигали в межсезонье и сами золотопромышленники, бухгалтера, управляющие и прочие. Те, конечно, как рабочие, публику не веселили, отдыхали в основном незаметно. Собирались у кого-нибудь в доме (если это можно было назвать домом, скорее уже домашний трактир) и допивались там до беспамятства. У одного золотопромышленника за три месяца выпили шампанского на 87 тысяч рублей. Ну, и еще одно любимое развлечение золотых богатеев – это игра в карты. Весной и летом рабочим играть некогда, нужно работать, да притом очень активно, а вот осенью и зимой делать было нечего. Поэтому карточные партии шли одна за другой, не останавливаясь. Играли дни и ночи, так как просто убивали время, ибо заняться в Сибири было просто нечем.
Объявился как-то в тех местах почтмейстер один, да больно остроумный, зло как-то выразился насчет одного золотопромышленника. Последний, желая наказать остряка, приказал каждую ночь отправлять на свой счет пустые конверты. Только почтмейстер в постель спать – так его тут же вызывают в контору. Говорят, еле прощение вымолил. А другой промышленник, как-то пойдя гулять после завтрака[22], сильно пошатываясь, носом наткнулся на стену. Он рассердился, купил этот дом и велел его сломать, чтобы в другой раз не натыкаться на него.
Ну и еще один самый интересный, как по мне, пример того, как развлекались золотопромышленники в Сибири. Один чиновник обратился к золотопромышленнику и говорит:
«Как же вам, Григорий Кузьмич, не стыдно? Живете вы в городе, и вдруг в этом самом городе, где вы так сказать, имеете местопребывание, нет вовсе пожарного инструмента».
Золотопромышленник действительно призадумался. Решил ситуацию исправить. Купил за свой счет пожарные инструменты, из своих конюхов сделал пожарную команду. Но вот незадача: пожаров в городе как не было, так и нет, а ему уж больно хотелось посмотреть, как его молодцы с огнем справляются. Ждал он, ждал, не дождался. Приказал зажечь какой-то дом, а затем отправил свою команду тушить этот пожар.
Если говорить серьезно, то, конечно, Сибирь за короткое время сильно преобразилась. Вместе с добытчиками золота в край пришли и отличные дороги, и выросли города, которые до этого в Сибири были очень малочисленные. И большущие финансовые средства. И конное войско, которое было хорошо обучено и пополнялось в основном за счет местных жителей. Золотопромышленность как бы уничтожила расстояние, которое ранее отделяло Восточную и Западную Сибирь от таких развитых городов, как Петербург, Москва, Лондон, Париж. И все это благодаря золотопромышленности, и в первую очередь тем людям, которые это золото добывали.
Возвращаемся к купцам Поповым, в 1828 году зарегистрировавшим за собой 11 приисков и положившим начало развитию золотодобычи в Сибири. Чтобы доказать вам, что добыча золота стоила немалых денег, только на разведку мест и поиски золота Поповы потратили около 2 миллионов рублей, и это принесло свои плоды. В 1829 году они уже смогли добыть почти 25 килограммов золота, в 1830-м году уже 75 килограммов, а в 1835 году их прииски приносили 260 килограммов золота за сезон. Золото Поповы постепенно находили в разных уголках Енисейской губернии, и в Красноярском округе, и в Минусинском, в Ачинске. В начале 1830-х Поповы, пожалуй, были одними из самых богатых золотопромышленников в Сибири, они владели более чем 120 приисками. И если в 30-х годах XIX века золотодобычей в Сибири занимались чуть более 200 человек, то уже в 40-х годах число частных добытчиков золота увеличилось более чем в 10 раз. Их было более 2000 человек, представляете – сколько это приносило денег?
Для того, чтобы вы представили себе весь процесс, расскажу, каким образом начиналась добыча золота в Сибири в то время. В начале зимы, когда снег еще не очень глубокий, протаптывают дорогу по льду речек. Потом везут на прииски муку, мясо и прочие припасы, инструменты различные. На приисках выстраивался склад для хранения всей провизии. Далее, уже в марте, на прииск приходят рабочие: сотня, полторы, две. Им дают несколько дней отдохнуть. И затем начинается строительство. В эти несколько дней они не то чтобы прям отдыхают, скорее занимаются хозяйственными делами. Например, подшивают себе одежды. И начинают строить избушки, где они будут жить. Кладут в избах печи из каменных плит. Все происходит очень быстро. Затем рабочие приступают к строительству хозяйского дома, где будут на время работы размещаться управляющий и другие конторщики, строят больницу, хлебопекарню, амбары, кузницу. В общем, создают все необходимое для существования в глухой тайге. Дальше проводят водосточную канаву, обнажают золотоносный пласт.
Потом начинается лето (я напомню: на прииск рабочие приходят в марте специально для того, чтобы успеть построить жизненно важные хозяйственные постройки). Вместе с приходом лета начинается работа. Называется она «промывка». Рабочие моют песок и таким образом ищут золото. Искали золото в Сибири не только в реках, но и в земле, копая лопатами глубокие ямы, поднимали породу, а когда доходили до пласта земли, где может быть золото, породу выкладывали в отдельные кучи и уже в дальнейшем промывали ее. Но иногда добытчикам, если верить легендам, попадались большие куски золота, которые лежали на дне не очень глубоких рек, особенно там, где массовая добыча еще не началась. Масштабы добычи золота были впечатляющими. И золотопромышленники, наверное, просто теряя счет деньгам, становились банкротами самым нелепым образом. Так, например, красноярский золотопромышленник Никита Федорович Мясников, как говорят, изготавливал себе визитные карточки из чистого золота. Стоимость одной визитки была более 5 рублей, а это немалые деньги. Напомню, что в дозолотопромышленный период в Сибири можно было на 1 рубль закупиться на базаре продуктами на всю неделю. Получается – на стоимость одной визитки можно было неплохо протянуть где-то пять недель.
Также широко известен был купец из Канска Гаврила Машаров. Машаров открыл более ста россыпей золота и стал в 30-х годах одним из самых богатых людей в тайге. Решил он медаль из чистого золота себе организовать. Не то пять килограммов, не то девять она весила. Это не важно. Важно то, что отнес он кусок золота кузнецу и велел на этой медали выгравировать надпись: «Гаврила Машаров – император всея тайги». Но носить эту презентабельную вещь Машаров ну никак не мог. Тяжелая она больно. Шея уставала. Правда, другие господа золотопромышленники его императором тайги что-то не признали, а вот прозвище «таежный Наполеон» он получил. Но информация в разных источниках немного скачет. То ли действительно были эта медаль и прозвище «таежный Наполеон», то ли не было. Но мне кажется, что прозвище очень подходит Машарову, так как ходил он по тайге, не тратя ни минуты, и искал новые прииски. Открыл их больше ста. Легенды, конечно, о Машарове ходили знатные. Говорят, фартовый мужик был. Удача сама находила Гаврилу Машарова. Идет он, копнет два-три раза лопатой землю, а вся земля в золоте. Или лошадь Гаврилы не очень прочный лед в начале зимы копытом проломит, Машаров глянет в пролом, а там под быстрой водой на дне самородок, как яичный желток светится. Ну легенды легендами, но то, что Машаров был одним из богатейших первых золотопромышленников в Сибири, – это чистая правда. А вот легенды проверить сегодня уже никак невозможно.

Промывка золота в Восточной Сибири.
Гравюра Карла Петера Мазера
Первые золотопромышленники – люди, безусловно, бесстрашные. Ходить по тайге, искать россыпи золота – дело небезопасное. Вообще ходить по тайге рискованно, а еще и золото искать нужно. Вот Машаров, как, впрочем, и Поповы, и многие другие, чьи имена история сохранила, старались выведать у местного населения, где может находиться золото, чтобы попусту по тайге не мотаться. Но не только золотопромышленникам было сложно, хотя их риски, мне кажется, вполне объяснимы. Та прибыль, которую они получали со своих приисков, перекрывает любые издержки в виде опасного путешествия по тайге и огромных затрат на разведывание россыпей. А вот кому действительно приходилось несладко, так это рабочим, работавшим на хозяев приисков. Условия труда были ужасные. Например – еда, та, которая была прописана по контракту (а с рабочими заключались контракты), и та еда, которая существовала на деле, сильно отличались. Ели рабочие часто одну солонину, притом не первого качества. Свежий хлеб выдавался только по праздникам, в обычные же дни выдавались лишь сухари. Из-за такого питания на золотых приисках в Сибири нередко вспыхивали тиф, цинга. Медицина на приисках как таковая отсутствовала. Как-то на приисках работал один поляк, называвший себя доктором только потому, что знал несколько слов на латыни и умел читать. Другой был хоть и опытным врачом, да только постоянно пьяным, весь спирт выпивал.
Санитарные условия также были далеки от хороших. Больные рабочие часто лежали в тех же бараках, что и здоровые. Бараки представляли собой тесные помещения, сколоченные из простых досок, холодные и сырые. За проступок рабочим назначались телесные наказания, рабочий день длился 15 часов, а зарплата оставляла желать лучшего. Крестьяне, которые работали на этих приисках в качестве сезонных рабочих, после такого содержания на следующий год даже не приходили на работы. Поэтому в редких случаях, когда рабочие не хотели сами идти работать на прииски, наниматель все делал обманом. Шел в дом к какому-нибудь рабочему, брал с собой вино, угощал, может добавлял чего, белены какой-нибудь, рабочий хмелел, тот вел его к писарю и заключал договор о найме. Рабочий, протрезвев наутро, понимал, что делать нечего, придется опять гнуть спину.
Ну и в конце – вот вам еще одна легенда о Машарове. Говорят, денег у него было столько, что девать некуда. Задумал он себе посреди тайги дом построить со стеклянными галереями, крытыми ходами, оранжереей с ананасами. А рядом с домом Гаврила хотел церковь семиглавую поставить, и мост через речку, которую, как говорят, можно пройти и ног не намочить. В общем, работа закипела. А работа была дорогая. Недешевое удовольствие – рабочих в тайгу привезти и строительные материалы. Сказано – сделано. Да только деньги у Машарова, как стройка завершилась, кончились, и соперники его пришли за долги все у него отнимать. А самого Машарова заперли в его же доме, поставив ведро воды и бросив ему каравай хлеба. Тот пытался подкоп сделать, чтобы выбраться из заточения, да пока копал – захворал. Так и умер в роскошном доме с крытыми галереями да оранжереей с ананасами. Верна ли легенда или нет, не знаю. Нигде подтверждения ей нет. Но вот эта история еще раз доказывает, что золотопромышленники в Сибири, вдали от больших и развитых городов, от скуки с ума сходили, не знали, как себя развлечь, что, как мы знаем, действительно было правдой.
Золота в Сибири добывали в то время очень много. С 1819 по 1861 год было добыто 582 тонны на сумму более 470 миллионов рублей. Ни один из остальных золотопромышленных районов Российской империи не знал столь мощного потока золота, который возник и непрерывно нарастал в Восточной Сибири. И кажется, что все эти люди, рабочие и золотопромышленники, жили совсем недавно, трудились на приисках, и, вероятно, каждый о чем-то мечтал, но уже столько лет прошло. А кто-то и вовсе скажет: «это было при царе Горохе».
- Один день в Древнем мире. Записки путешественника во времени
- Современная Древняя Греция. Античная и советская история
- Рюриковичи. История династии для бумеров и зумеров
- Плохие девочки, которые изменили мир
- Жизнь от сохи. Быт и традиции русских крестьян
- Эпоха Регентства. Любовные интриги при британском дворе
- При царе Горохе. Истории о гениях, злодеях и эпохах, которые они изменили
- Последний Иван на престоле. Рождение, жизнь и смерть под властью женщин