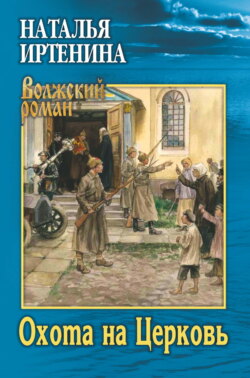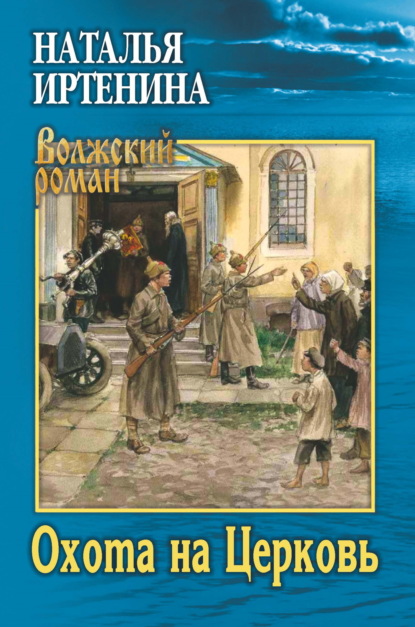Волжский роман

© Иртенина Н., 2024
© ООО «Издательство «Вече», 2024
Пролог
Июнь 1937 г., райотдел НКВД г. Мурома
– Продолжим, гражданин поп Аристархов. – Сержант госбезопасности раскрыл пухлое следственное дело. – Показания свидетелей полностью изобличают вас в контрреволюционной деятельности. Вы систематически проводили в церкви антисоветскую агитацию, используя религию как предрассудок. В своих проповедях вы протаскивали враждебные советскому государству монархические идеи. Восхваляли древних царей Константина и Давида с целью дать понять верующим, что были такие цари, которые якобы хорошо относились к народу. Признаете это?
– Да, в самом деле, в связи с церковными праздниками я упоминал этих царей, рассказывал об их деяниях, – согласился священник. – Но об их отношении к народу ничего не говорил. Я повторяю: никакой антисоветской агитации в моих проповедях не было и не могло быть.
– Вы зря пытаетесь увернуться от прямых доказательств. Следствие установило, что вы вели активную работу по срыву мероприятий партии и правительства. Препятствовали проведению антирелигиозных мероприятий в селе, назначая на то же самое время службы в церкви.
– Простите, но тут все ровно наоборот, – удивился отец Алексей. – Антирелигиозные мероприятия почему-то всегда назначают одновременно с важными праздничными богослужениями, которые невозможно перенести.
– Почему-то? Вы не понимаете почему? – Чекист продемонстрировал легкую иронию, но тотчас снова нахмурил брови. – Следствие предлагает вам сознаться, что вы, прикрываясь религией, выражали среди окружающих недовольство советской властью. Клеветали на ее экономическую политику, будто в стране голод и нищее население. Порочили идейное воспитание детей в школе и колхозный строй. Вы признаете это антисоветской агитацией?
– Нет. Клеветой я советскую власть никогда не порочил. Но недовольство действительно иногда высказывал. Говорил о наступившей для народа тяжелой жизни, о чрезмерных налогах, о том, что храмы закрывают без согласия верующих.
– С кем еще из враждебно настроенного к советской власти духовенства вы поддерживали связь? Кто из ваших знакомых церковников разделяет ваши взгляды?
Вопрос заставил священника задуматься, тщательно подбирая слова для ответа.
– Таких знакомых, чтобы были враждебно настроены к власти, у меня нет. А постоянную связь я поддерживал только с моим непосредственным церковным начальством.
– Назовите имена.
– Они, должно быть, вам известны, – пожал плечами отец Алексей.
– В чем вы сами себя считаете виновным перед советской властью? – неожиданно спросил сержант.
Молодой, чуть за двадцать, он с откровенным любопытством уставился на священника, сочтя свой вопрос достаточно хитрым и каверзным, чтобы заставить обвиняемого юлить, оправдываться – и тем самым неопровержимо уличить.
– А я обязательно должен быть виновным перед советской властью?
Ответ разочаровал чекиста. Подследственный, словно матерый волк, почуяв западню, прыгнул в сторону.
– Да. Если бы вы были невиновны перед советской властью, то не попали бы к нам сюда. Честными советскими гражданами, преданными делу коммунистической партии, органы госбезопасности не занимаются. Так почему вы здесь? Скажите сами, за что вас арестовали.
– Это уж вам видней, гражданин следователь.
Легкая печальная усмешка тронула губы священника.
Двумя месяцами ранее, г. Муром
Очередь у колонки лязгала котелками и флягами, набирая ледяную воду. Пассажиры поезда дальнего следования нетерпеливо покрикивали на передних, решительно отталкивали нахалов, с полной посудиной лезших под струю еще и умыться. Нервно оглядывались на состав у перрона, вздрагивающий всеми вагонами и сердито шипящий паром. Дубовая дверь вокзала под сенью с арками скрипела и грохала, выпуская добытчиков, разжившихся кипятком, обладателей заветного билета, мужичков, напрасно бегавших в пустой с утра станционный буфет.
У длинного здания вокзала, напоминавшего то ли путевой царский дворец, то ли древнюю крепостицу с башнями, то ли сказочный теремок, работал газетный киоск. Лейтенант с красными петлицами на воротнике гимнастерки, в синей фуражке с краповым околышем набрал ворох свежей прессы: «Правду», «Известия», «Приокскую правду», «Горьковскую коммуну», «Муромского рабочего». От пересчитывания сдачи его отвлекли свист и улюлюканье шпаны, проникшей на перрон:
– Паки и паки разорвали попа собаки!.. Ату! Ату его! Цапни!.. Гони!..
Внимательным взглядом чекист проводил длиннополого, с мешком за спиной и корзинами в руках, согнувшегося от тяжести церковника. На шпану тот не оборачивался, знай себе чесал поперек перрона. На скором ходу исхитрялся нисколько не путаться в подоле рясы. Пущенный мальчишками камень попал в мешок, второй задел длинные волосы. «Наглый поп в рясе. Еще небось и с крестом», – неприязненно подумал лейтенант. Но креста под обтертой до дыр телогрейкой видно не было. Надо бы проверить, что у него в мешке и корзинах, продолжал размышлять чекист, шагая к поезду. Минуты до отправления истекали, а в редеющей толпе на перроне не заметно было ни синей милицейской формы, ни дежурных вокзального поста НКВД.
Рядовой Качалин бросил папиросный бычок под вагон и доложил обстановку: все спокойно, охраняемое лицо из купе не выходило, посторонние вблизи не шлялись. Лейтенант взмахнул по ступеням спального вагона первой категории. Миновал пустой закут проводника и тут почуял неладное. Ткнув газетной пачкой в грудь Качалину, он рванул к третьему купе.
Дверь была открыта. Охраняемый объект из ЦК[1] сидел на сером в синюю полоску диване, широко расставив толстые ляжки. Увидев его напряженную позу и застывшее, как посмертная маска, отечное лицо, лейтенант выдохнул. Ничего угрожающего ситуация не представляла.
– Дяденька, дай хлебца-то, с голоду помираю, – еще продолжал канючить шпаненок в замурзанном пиджаке со взрослого плеча, но голос его становился все неувереннее. – Мамка в деревне из коры муку трет. Сестренки опухшие с голоду лежат, хлебца просят…
Шпанец жалостно шмыгнул носом, потер свободной рукой чумазую физиономию, старательно выдавливая слезу. Он то беспокойно косился на ставшего в двери лейтенанта и дергал рукой, которую крепко сжимали пальцы цекиста. То озирался на купейный столик, где лежали на тарелках бутерброды из белого хлеба с розовой ветчиной и красной рыбой, стояла бутылка минеральной воды «Ессентуки» и непочатый армянский коньяк, выглядывали из коробки пирожные эклеры.
– Смотри, лейтенант, какого троцкиста поймал, – без тени шутки кивнул охраняемый. Он перехватил беспризорника за ухо, и тот заскулил – толстые пальцы сжались клещами. – Тебя кто подослал, паршивец? – Цекист тряхнул свою добычу, отчего из глаз пацана брызнули неподдельные слезы. – Песню мне спел, как плохо им в Советской стране живется. Убери… – Он с силой толкнул мальчишку под ноги госбезопаснику. – В милицию сдай!
– Отпустите, дяденьки, меня мамка дома ждет… – заныл уличный ловкач, неведомо как и с неизвестными целями проникший в охраняемый спецвагон.
Лейтенант туго стиснул его тощую шею и поволок к тамбуру. Бросил на ходу младшему: «Качалин, ротозей, ответишь! Проверь окна!» Ровно посередине вагон был разделен наглухо запертой дверью, отгораживавшей четыре купе первой категории от пассажиров второго класса. Проникнуть с той стороны никто не мог. Вероятно, у малолетнего бандита был сообщник, который подсадил его в окно либо отвлек внимание Качалина.
– Да что я сделал-то, дяденька… Хлебца попросил, у вас же вон сколько всего.
– В НКВД расскажешь, зачем сюда залез и кто подучил тебя врать про голод в СССР. – В голосе чекиста звучал надтреснутый металл. – Родители – кулаки?
– Да я сам, дяденька! Пустите меня, я больше не буду, мамку с батькой жалко…
– К стенке твоего батьку за антисоветскую агитацию малолетних. Тебя в колонию.
– Так уже, дяденька. Батька с голоду помер, мамка повесилась.
На секунду лейтенант ослабил внимание и стальную хватку. Шпанец вывернул шею и как-то жгуче искоса глянул на него. Спустя миг мальчишка вырвался из захвата и куснул со всей дури чекистское запястье. Выкатываясь кубарем из вагона, проорал:
– Сука! Сам ты брешешь.
– Ах ты, гаденыш кулацкий!..
Чекист спрыгнул на перрон, но догнать диверсанта уже не успевал. Паровоз издал последний гудок, вагоны дернуло. Поезд отправлялся. Лейтенант яростно потер укушенное запястье и вскочил на подножку вагона. Объявившийся проводник с тщательной вежливостью притиснулся к стенке тамбура, пропуская его.
Пассажир в третьем купе отошел от окна. Он видел, как убежал шпанец и с каким непроницаемо каменным выражением лейтенант смотрел тому вслед. Сцена цекисту не понравилась. Тяжело опустившись на диван, он открыл коньяк, плеснул на четверть стакана и выпил махом, как водку.
– Провокаторы. Проверять вздумали. Думают на дешевке взять. Меня!..
В купе вернулся безопасник, молча положил на диван газеты.
– Садись, служба, – жестом благодушного хозяина предложил цекист. – Выпьешь?
– Не положено, товарищ Кремнёв.
– Ты не менжуйся, лейтенант. Служба не волк, не убежит. До Москвы шесть часов, успеешь поспать. Тебя как звать?
– Лейтенант Цыбин.
Цекист подвинул другой стакан и налил коньяк до половины. Отказ не предусматривался. Безопасник шагнул к столику, сделал пару глотков. Выдохнул. Взглядом спросил дозволения закусить, получил разрешение. Сел на край дивана, ближе к двери. Но службу не оставил – держал спину прямо, как в стойке «смирно». Только фуражку положил рядом. Неторопливо допил коньяк.
Потекли расспросы про жену, детей. Цыбин отвечал скупо, словно жадничал делиться семейными делами.
– Жена-то хорошая баба? Как у тебя с ней? – Цекист уточнил вопрос жестом возле толстых ляжек. – Если у бабы там горячо, за ней глаз нужен. Ты на службу, а она к комсомольцу…
– Почему к комсомольцу? – с интонацией жестянки спросил Цыбин.
– Чтобы языком не трепал: комсомольский билет было б жалко. – Кремнёв усмехнулся. – Да ты-то, лейтенант, любому язык развяжешь. Вы мастера… Каких волков в овечьих шкурах на чистую воду выводите. Они у вас как щенки обделавшиеся становятся.
Он вынул из кармана бежевого, мешковато сидевшего пиджака плитку шоколада «Миньон».
– Дочке отдай. Бери-бери. Не обеднею. Люблю детишек радовать. Для кого мы стараемся, социализм строим, коммунизм по всему миру приближаем, если не для них. И от волков их уберечь обязаны, от троцкистско-фашистских гиен. А те хитры, как змеи. Зверье! Поди отличи такого от честного советского человека, если они даже в органах…
В неловкой паузе оба подумали об одном и том же. О недавнем, две недели тому, аресте бывшего главы НКВД, генерального комиссара государственной безопасности Генриха Ягоды, о чем в газетах не сообщалось, однако все, кто причастен к ведомству и высшим партийным кругам, знали. Но цекист в тот момент, когда поезд дальнего следования грохотал по рельсам Горьковской области, знал больше, чем его молчаливый собеседник. Не только об арестах людей из окружения Ягоды, о самоубийствах его доверенных лиц, вроде энтузиаста Погребинского, начальника горьковских чекистов. Еще о том, что Ягоде и его присным от расстрела не отвертеться, так же как тем партийным мастодонтам, чьи головы поймали пулю прошлой осенью и нынешней зимой. Верхушка левой троцкистско-зиновьевской оппозиции задавлена и без всякой жалости уничтожена. Теперь очередь за правым партийным уклоном, троцкистско-бухаринским… в котором коготь Ягоды прочно увяз. А значит, и всех прочих безопасников ждет хорошая перетряска. Кто знает, в каком круге ада может оказаться лейтенант Цыбин, если сделает неверный шаг.
Бутылка коньяка пустела. Цекист пил мало, все больше подливал службе.
– Ты, лейтенант, в Новосибирске слышал про газетчика, который написал письмо в Политбюро, самому товарищу Сталину? Про вымерших на острове, на Оби… Будто бы несколько тысяч высланных сгинули там от голода. В каком году это было?.. В тридцать третьем? Думаешь, честный человек этот газетчик? Жизни людские пожалел?
Захмелевший Цыбин, сжав челюсти, молчал.
– Во-от! – Цекист поднял палец. – Понимаешь. Тебе положено. Я бы этого газетчика – за ребра и на лагерные нары. За подрыв авторитета партии и лично товарища Сталина. За клевету на советский строй. Это как – несколько тыщ вымерло ни за понюшку табаку? Либо то враги, а не люди, и их не жалко, либо никто не вымирал, живут и трудятся, как положено советским гражданам, сыты и довольны. Так и скажи там у вас, лейтенант. Что товарищ Кремнёв – кремень!
Он вытянул из пачки газет «Правду». Первая полоса кричала заголовками, взятыми из мартовского доклада Сталина на Пленуме ЦК: «Ликвидировать политическую беспечность, благодушие, близорукость», «Методы выкорчевывания и разгрома современного троцкизма», «Диверсионно-вредительская и шпионско-террористическая работа врагов рабочего класса».
Все это было давно выучено назубок. Перевернув газету, цекист уткнулся в столь же кричащую рекламу на последней полосе. Парфюмерия и косметика «ТЭЖЭ», первоклассные деликатесы столичной сети «Гастроном», бисквиты, торты с кремом и фруктами кондитерской фабрики «Большевик» и прочая мелкобуржуазная роскошь, призванная воспитать в советских гражданах культуру потребления и хороший вкус.
Лейтенант Цыбин дремал под стук колес, расслабленно откинув голову на спинку дивана.
* * *
Беспризорник Федька, вырвавшись из одних свинцовых рук, немедленно попал в другие. Идущий навстречу человек в рабочей куртке и картузе ловко выдернул его за шиворот прямо из потока ветра, который нес мальчишку точно на крыльях.
– Пусти! – зарычал Федька, изготовясь кусаться и лягаться. Но человек держал руку на отлете, и зубами до нее было не дотянуться.
– Пущу, когда скажешь, от кого удираешь.
Федька узнал голос и перестал извиваться.
– А, это ты. – Зыркнул исподлобья, хлюпнул носом. – Ни от кого. На значок БГТО[2] тренируюсь.
– Ясно. Показывай добычу.
Николай Морозов, шофер муромского туберкулезного диспансера и внештатный сотрудник городской газеты, в свой двадцать один год имел твердые, устоявшиеся взгляды на жизнь. Взгляды эти подразумевали неравнодушное отношение к происходящему вокруг, отчего Морозов никогда не оставался в стороне, если рядом проносился поток событий. Порой это свойство втравливало его в рискованные истории, но изменять самому себе ради сохранения ровной и безопасной линии жизни он не считал нужным.
– Сам заныкать хочешь? – буркнул Федька. – Я только еду беру.
– Лиха беда начало. По уху за что схлопотал?
– Откуда знаешь? – Шпанец потер ухо.
– Алое, как кумач на Красной площади.
– Жадный буржуй попался, – прошипел Федька. – У самого полный стол жратвы и целый вагон на одного с энкавэдэшной охраной.
– Ну-ка пойдем отсюда. – Морозов оглянулся по сторонам.
– Да этот боров с красными петлицами не успел легавых позвать, – верно истолковал его мысль беспризорник. – А я успел! – с гордостью прибавил он, выуживая из кармана пиджака раздавленный эклер. Часть белого сливочного крема осталась на изнанке кармана.
Федька быстро запихнул пирожное в рот. Жмурясь, прожевал.
– Вкусно! – промычал он блаженно, слизнул остатки крема с ладони и вытер ее о грязные штаны. – Жирно живут советские буржуи.
– Ну, по эксам ты мастер, – подтвердил Морозов, шагая вдоль торца вокзального теремка.
– Чего?
– Экспроприацию ловко провел, говорю. Считай, повезло, легко отделался. В другой раз тебя бандитом запишут и в колонию для малолетних определят.
Они обогнули здание, вышли к привокзальной площади. Тут Федька встал, точно споткнулся на ровном месте. В пяти метрах от них топтался человек в чекистской форме, озирал окрестности. Еще трое сгрудились сбоку от центрального входа. Один отколупывал прилепленную к стене бумагу. Из здания вокзала вышли два милиционера в сопровождении рядового внутренних войск НКВД с винтовкой. Между ними утирал платком лысину невысокий круглый человек – начальник вокзала. Рядом отдыхала чекистская кобыла, запряженная в телегу. Если не считать служивых, площадь была пуста.
Сержант, что стоял ближе, подошел к Морозову и Федьке, потребовал документ. Николай предъявил. На вопрос, для чего он тут, объяснил, что ждет поезд из Арзамаса, на котором должны приехать два ящика медикаментов для тубдиспансера. Показал на свою полуторку под голыми березами.
– Это со мной. – Морозов перехватил взгляд чекиста, с подозрением смотревшего на Федьку. – Родственник.
Сержант потерял к ним интерес. Морозов взял шпанца за плечо и увел подальше, к одинокой лавке на краю площади.
– Я бы и сам выкрутился, – с независимым видом объявил Федька. – Впервой мне, что ли.
– Не видел, кто это приклеил? – Николай думал о своем.
– А чего там?
– Да видишь ли, подпольщики в городе завелись. С советской властью борются. Листовки против Сталина развешивают.
– Я не в деле, – замотал головой Федька. – На кой ляд оно мне… Это она со мной борется.
– Знаю, что не ты. Где б ты школьную тетрадь взял и чернила. А тех, кто клеил, не видел ночью?
– Я ночью не тут. У меня берлога в другом месте. Я только к шестичасовому поезду прихожу.
– Ну ладно, гангстер. Не передумал насчет моего предложения? Я все еще могу устроить тебе жилье.
– В деревне? – Мальчишка скривил губы. – Чего я там не видел? Жратвы-то там нет.
– А в городе к монашкам пойдешь жить? Их тут много, пустят. Моя сестра с ними договорится.
– Еще чего! – Федька соскочил с лавки и быстро пошел прочь. – Покедова!
– Погоди. Есть небось хочешь? Я груз оформлю, по пути заеду домой. Нинка тебя накормит.
– Да не, у меня дела. – Беспризорник запихнул руки в карманы штанов и болтающейся походкой отпетой шпаны направился к железнодорожному поселку.
Часть I
Бунтари
1
Апрель 1937 г., с. Карабаново, недалеко от Мурома
Весенний день в разгаре, а ситцевые занавески на окнах плотно задернуты. С улицы никто не подглядит, что в избе отпевают покойницу, не разнесет слух на все село. Была бы умершая богомольной старушкой, прожившей жизнь в религиозных предрассудках и церковном дурмане, как у советской власти зовется вера Христова, никому бы и в мысли не пришло следить, что там отец Алексей делает в доме усопшей: отпевает или, может, чаи из самовара гоняет да родных ее утешает на свой поповский манер. Но покойная была женщина молодая, тридцати лет на свете не прожила, заведовала колхозной избой-читальней. А самое главное – мужем ее был директор карабановской семиклассной школы Дерябин Сергей Петрович, человек образованный, неверующий и, как водится у директоров, партийный.
От него-то, убитого горем мужа, и задернули занавески. Да от назойливых сельсоветчиков и комсомольцев, которые своих мертвых погребают со скоморошьим ритуалом. Прознают про отпевание – прибегут, со страшными криками уволокут гроб прямо из-под кадила, только б не дать совершиться честному церковному чину. Отец Алексей поправил на груди широкую белую епитрахиль и пошел вокруг стола с гробом, мерно взмахивая кадильницей. Затянул негромко привычное:
– Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков…
Фимиам прозрачными струями поплыл по горнице. Подпевали две старухи в черных платках – мать усопшей и дальняя родственница. Более никого в доме не было.
– Со духи праведных скончавшихся душу рабы Твоей, Спасе, упокой, сохраняя ю во блаженной жизни, яже у Тебе, Человеколюбче…
Хлопнула дверь в сенях, и по этому резкому, будто злому, звуку отец Алексей тотчас понял, что явились ожидаемые неприятности. Вдовец ли директор, который должен быть в школе, как-то прознал, или в сельсовет все же донесли, теперь неважно. Докончить начатое вряд ли дадут.
– Эт-та што за черт?.. – громыхнул сиплым надсаженным голосом председатель колхоза Лежепеков, встав на пороге полутемной, с горящими свечами, комнаты. Он грозно обвел ярым взором одного за другим – священника и старух. – Вредительство? – И сам же себе ответил: – Поповское вредительство над советским человеком! Над упокойной женой директора школы товарища Дерябина. Кто позволил?!
– А вам, товарищ Лежепеков, какое дело до этого? – невозмутимо поинтересовался отец Алексей.
– Я тут власть! – Председатель колхоза мощно дохнул негодованием, в котором священнику послышались нотки перегара. – А ты, поп, вредитель!
Обвинение отца Алексея не обескуражило. Лежепеков был помешан на выявлении в своем колхозе вредителей, которые все время срывали план хлебозаготовок и строительства новой жизни в селе. Когда дело касалось простых колхозников, свои обвинения Лежепеков обычно подкреплял кулачной расправой, на которую был скор. Однако поговаривали, что и доносами в органы на тех, кому кулаки его не опасны, председатель не брезгует.
– Тогда вам должно быть известно, что Церковь отделена от государства и советская власть не препятствует совершению церковных треб верующими. Убирайтесь!
– Ты… – Лежепеков выкатил глаза и наставил на священника палец. – Мне?! На моей территории?.. Я тебе давал разрешение на поповские обряды, а? Или подлец Рукосуев дал тебе разрешение?..
– Какая такая твоя территория? – Старуха-родственница резво обошла стол с гробом и сердито надвинулась на председателя. – Бесстыжие твои глаза, Яков Терентьич! Иди свою жену учи, как в колхозе работать. А то она у тебя скоро с печи перестанет слезать, только и знает, как нарядами щеголять перед колхозной голью… Иди, иди, ирод, не гневи Бога…
Вытянутый палец Лежепекова вместе с рукой вдруг затрясся и сместился в сторону. Взор стал еще более выпученным. По лицу, красному от гнева, разлился внезапный испуг.
– Эта… эта… чего она?
Отец Алексей быстро обернулся. В гробу сидела усопшая, держась руками за обитые тканью стенки. Болезненным, страдающим взором она смотрела на священника. Ее мать, охнув, перекрестилась и, как подкошенная, осела на лавку.
– Что это вы делаете, батюшка? – чуть хриплым голосом произнесла ожившая покойница.
– Я… – Отец Алексей откашлялся, собираясь с мыслями. То, что еще десять минут назад женщина была неоспоримо мертва, не вызывало никаких сомнений. Колхозный фельдшер накануне выписал справку о смерти. Теперь столь же несомненным и очевидным было возвращение умершей с того света. – Я пришел соборовать вас, Анна Григорьевна. Ваша болезнь…
– Нет, тут что-то не то. – Женщина стала неловко выбираться из гроба. – Вы сюда для другого пришли, батюшка.
Плача, с протянутыми руками к ней двинулась мать, помогла сесть на стол, затем встать на ноги. Вторая старуха, ругавшая Лежепекова, заголосив «Батюшки-светы…», выметнулась со страху из избы. Председатель колхоза, подбирая и тут же роняя нижнюю челюсть, опять уставился на священника.
– Ты… поп… Ну ты… отец… Фокус-покус… – Мозг Лежепекова напряженно работал, пытаясь найти нечто определенное и незыблемое, за что можно было бы зацепиться и ухватиться в этой невозможной ситуации, когда мир вокруг и твердь под ногами расползались клочьями религиозного дурмана. В конце концов он выдал единственное, что закрепилось в его уме со времен церковно-приходской школы: – И-зы-ди!..
Сам же, исполняя свой наказ, на деревянных ногах, притихший и осоловевший, Лежепеков вышел во двор.
Отец Алексей, опомнясь, возгласил начало благодарственного молебна. Мать воскресшей сунула ей в руку горящую свечу с бумажной юбочкой, усадила на лавку. Сама встала рядом и тонким старушечьим голосом, ошеломленно-радостная, подпевала:
– Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!..
Отец Алексей сосредоточенно вел молебен, не давая набухающим, как весенние почки, мыслям и произносимым словам разлетаться в разные стороны. Соединяя их в одно, воспаряющее ввысь, в небеса, целое – умную молитву, сердечное благодарение, хвалебное изумление пред явленным чудом.
– Что здесь происходит?! – Вопрос растерянного, запыхавшегося человека в перекосившемся, криво застегнутом пиджаке не застал священника врасплох.
– Вот ваша жена.
Взяв мужчину за локоть, отец Алексей подвел его, размягченного душой и ослабевшего плотью, к женщине. Дерябин с глухим стуком упал перед ней на колени и обнял за ноги.
– Аня!..
Не стесняясь чужим присутствием, он затрясся в сухом плаче. Исхудавшие руки женщины прерывистым птичьим движением гладили его по спине.
* * *
В соседней избе за крепким забором с резными воротами выпивали и закусывали двое. На столе было небогато: водка и соленые огурцы. Похвастать съестным обилием в такое время мало кто мог, если не выбился в начальство. Андрей Кузьмич Артамонов, работник плотницко-столярной артели, мужик башковитый и образованный, с четырьмя классами училища за душой, средь бела дня обычно не пил, разве лишь по большим праздникам. Но повод прилучился самый располагающий: редкий гость в доме, а кроме того, выходной день, и потому Андрей Кузьмич не скупился на балагурство, подкрепленное стопкой-другой-третьей. Веселым человеком он был от природы, а жесткая рука советской власти в колючей рукавице лишь закалила его неунывающее жизнелюбие, сделав непробиваемым.
У печи на табурете были сложены две пары изношенных до дряхлости ботинок с оторванными подметками. По вечерам Артамонов подрабатывал починкой обуви.
– Образцы сии тяжкой народной жизни, – кивнул он на башмаки, – взять бы да выбросить. Иного не заслуживают. Да как их выкинешь, если другой обувки в нашей Советской стране не найти? В газете, допустим, пишут: стахановец Иванов делает на фабрике «Скороход» две тыщи пар обуви. Где же они, эти две тыщи? Никто не знает. В магазинах нету! Ни калош, ни валенок, не говорю о парусиновых туфлях. Нашему брату мужику в лаптях ходить. А рабочему классу в чем догонять и перегонять Америку? Босиком догонять легче! Это мы уже смекнули и с расспросами, как да почему, к советской власти не лезем. Ученые мы теперь. Потому как расспросы, сомнения и подозрения в наше время – предмет обоюдный. Я до артели служил учетчиком в рабочем снабжении. Воровство сплошное, а поди заикнись про это хоть в стенгазете. На тебя же его и оформят. У вас на складе гортопа дрова крали?
– Не знаю.
Степан Петрович Зимин в родное село вернулся с месяц назад. До этого шесть лет провел в ссылке и в лагере, освободился прошлой осенью. Зиму прожил в городе, потому что своего дома в селе у Степана Петровича больше не было. Отняли, когда посадили его с женой и детьми на пустую телегу, а потом увезли на поезде в казахские пески. Колхоз не ужился с Зиминым, колхозу было нужно его имущество.
– Правильно, что ушел оттуда. Сторожить – не для тебя. Сторожу наган полагается, а тебе наган как бывшему кулаку выдавать нельзя, а то еще пойдешь с ним свергать советскую власть. А ворованные дрова все равно на тебя повесят.
– Начать хочу все сначала, – в который раз повторил Зимин, угрюмо сжимая в широкой заскорузлой ладони пустую стопку. – Чтобы дом был, жена, детишки… Свое хозяйство.
– Свое хозяйство… – Артамонов разлил еще по чуть-чуть. – Мог бы и я сейчас на песках тужить, как ты. Нас под раскулачивание через год после вашего стали подводить. Кое-что из имущества и скотины уже прибрали, свели со двора. Ну, тут моя Мария и взбеленилась. Пошла в сельсовет, обложила там всех истинно пролетарской матерной бранью, чем и доказала свою преданность советскому строю. Потребовала, чтоб ее записали в колхоз, и желание ее немедля исполнили. Теперь с дочкой, с Варварой, почти стахановки в колхозном коровнике, палочки в тетрадке у бригадира зарабатывают, трудодни копят, как раньше денежки. Пришлось, конечно, отдать в общее пользование еще буренку и бычка. Зато теперь я, упертый единоличник, за ними как за каменной стеной! Жить можно.
– Варвара-то скоро придет?
Артамонов будто не услышал вопроса.
– По новой Конституции, оно конечно, все тебе, Степан, можно. И за власть голосовать, и должность какую-никакую иметь. Да только все одно клеймо лишенцев и чуждых элементов нам с тобой не смыть. Как бы ты себя красной краской ни малевал, как бы ни перековывался. Мы до скончания живота для советской власти испачканные своим классовым происхождением. Давеча в артельной конторе товарищ Фурсов сделал заявление. Сталинская Конституция, говорит, она как картина на стене, висит – и ладно, помещение украшает. А думать и решать власть на местах будет, как прежде, руководствуясь классовым революционным чутьем. Кого приподнять, кому пинка под зад дать. Классовый подход в нашем социалистическом коллективном хозяйстве нынче такой: кто работает, тот не ест, а кто не работает, тот хорошо кушает. Но я, Степан Петрович, не жалуюсь. Смотрю на все это как на природное явление и исторический курьез. Знавали и мы лучшие времена, а жизнь – она, как африканская зебра, полосатая… Ты слыхал, как у нас мужики про войну говорят?
– Нет.
Хозяин дома наклонился над столом и понизил голос:
– Новая война с немцами сгонит большевиков, как прошлая Романовых. – Он откинулся в прежнее положение и прибавил: – Но я тебе этого не говорил. Потому что сам в такое не верю. Сталин хитер и матёр, он еще Гитлера в союзники возьмет. Помяни мое слово.
Они снова выпили, хрустнули огурцами. Когда в дом беззвучно вошла старшая хозяйская дочь, Зимин не приметил. «Вот она, моя тихоня», – любуясь девушкой, объявил отец. Ватник и калоши, в которых работала на ферме, Варвара оставила на крыльце, но в избе все же пахнуло коровьим навозом. Зимин не спеша развернулся на стуле и так же неторопливо провел по ней безжизненным взглядом, с застывшей в глубине зрачков черной тоской.
– Здравия желаю, Варвара Андреевна.
Девушка посмотрела на отца, вновь на гостя и, как будто осознав нечто, отступила на шаг. Шатнулась было к двери, но удержалась, замерла неподвижно.
– Ну вот, дочь. – Артамонов напустил на себя серьезность. – Пришла твоя пора. Сватает тебя Степан Петрович. Уговаривать не стану, неволить тоже. Времена не те, что раньше, отцовой власти над детьми нет. Иным словом, решай сама. Парней в селе для тебя подходящих нету: кого ни возьми, то комсомолец, то выпивоха, то лодырь и хулиган. А Степан мужик домовитый, с головой на плечах. Пойду посмолю козью ножку, вы тут без меня уговаривайтесь.
Варвара стояла не шелохнувшись, с опущенной головой. Зимин молчал. Так долго, что девушка не выдержала, метнула в него быстрый взгляд, тотчас убежавший обратно, как напуганный заяц. Украдкой поправила прядку волос, выбившуюся из-под платка.
– Не старый я еще, сорок стукнуло, – неуклюже повел речь Зимин. – Начну заново. Жизнь с начала. Не смотри, что в сарае живу. Все у тебя будет. Дом, хозяйство, скотина. Работать буду как вол, силы есть. В колхозе или на своих харчах, еще не решил… Детишек заведем.
Последние слова прозвучали будто из-под земли, из темного склепа, откуда веет промозглым, пробирающим до сердца холодом.
- Последний рейс «Фултона»
- Караван в Хиву
- Демидовский бунт
- Над Самарой звонят колокола
- Ивушка неплакучая
- Сарматы. Рать порубежная
- Гул
- Вишневый омут
- Золотой Трон
- Самарская вольница
- Разбитое зеркало (сборник)
- Беглая княжна Мышецкая
- Христоверы
- Секрет опричника; Преступление в слободе
- Исчезнувшее свидетельство
- Живица. Исход
- Живица: Жизнь без праздников; Колодец
- Ушедшие в никуда
- Когда куковала кукушка
- Ордынский волк. Самаркандский лев
- Плаха да колокола
- Дубовый дым
- Перекати-моё-поле
- Агнцы Божьи
- Жил отважный генерал
- Пиковая Дама – Червонный Валет
- Поймать тишину
- Река играет
- Кандалы
- Охота на Церковь