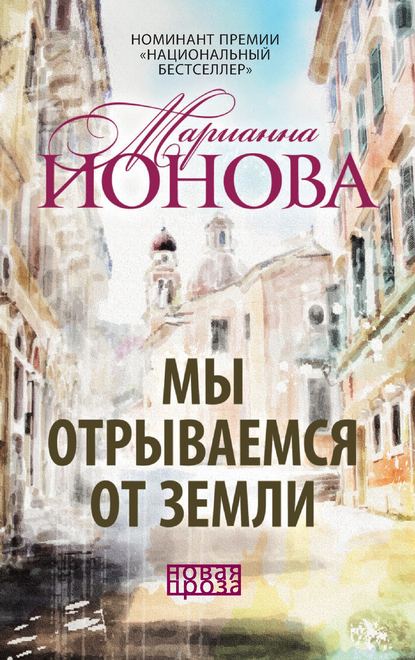000
ОтложитьЧитал
5
Мария спустилась по ступенькам с колоннады. Из часовни вышел по обыкновению набычившийся Виталик и, проходя мимо, кивнул. Прищурившись, Мария посмотрела, как вспыхнули и потерялись в свету его воздушные кудреватые волосы. Не может быть, чтобы эта внешняя мрачность ничего не отображала, чтобы за нею стояло только душевное невежество, неумение проявлять чувства. Походка у Виталика тяжеловесная, и Марии словно кто-то шепнул: гири не на ногах, а внутри.
Она уезжала на выходные в Москву. У нее был час перед электричкой, и Мария зашла в часовню-мастерскую. Под «лесами» теснились столы и верстаки. Виталик был один, сосредоточенно-отрешенный, и Мария поняла, что ее прихода он ждет с утра.
На верстаке стоял выщербленный ангел с пегими из-за остатков позолоты крыльями. Поглядывая на него так, будто ангел замышлял побег с верстака, Виталик обстругивал чурбачок, откуда надлежало понемногу явиться точно такому же ангелу, но только целому, сияющему юной молочно-розовой древесиной.
В профиль покатый лоб резчика будто оплывал надбровьем на глаза; хотелось подойти и, словно шапку у ребенка, поправить, чтобы не мешало.
– Здравствуйте.
– Здравствуйте… Пришли, значит?
Мария вспомнила о «гирях внутри», но тут же запретила себе.
– Не идут у меня из головы эти Помпеи, – проговорил Виталик. – Как они там все задохлись от пепла… Жутко. Думал даже, приснится. Бог миловал… Но вот ведь кара Божья, да? – И продолжал, снимая ножом стружку с чурбанчика: – А могли там быть христиане – это ведь уже первый век нашей эры, если я не путаю?
Давал ли Виталик понять, что он и истории «не чужд», или его на самом деле заботила невредимость древнехристианской общины – с лица его Марии пока читала не лучше, чем с рунического камня.
– Нет, думаю, христиан там быть не могло. Это случилось, я имею в виду извержение, в 79 году нашей эры, значит, не прошло и полувека… Хотя кто знает…
– Ну, в самом Риме-то их небось уже вовсю истребляли?
Виталик врезался ножом в мякоть дерева.
– Может… Вполне вероятно. Я историю христианства знаю так, поверхностно…
– А вы веруете? – спросил Виталик, наконец взглянув на нее.
– Да, – ответила Мария сразу и спокойно, отметив про себя, что сама спросила бы по-другому.
Она, пожалуй, спросила бы так: «Вы верующая?»; и это прозвучало бы сладко и немощно, а кто-то спросил бы: «Вы верите в Бога?», и это прозвучало бы вполне хорошо, но не достаточно сильно для Виталика.
– Ну, это, извините, сейчас все… И вы воцерковлены? Или нет?
– Если вы подразумеваете крещение, то меня крестили в четыре года. И нательный крест я ношу.
– В четыре года? – Он усмехнулся. – Это что же будет – начало 90-х? А… все ясно с вами.
– Что ясно?
– Ну, когда можно стало, тогда и крестили.
– А вас раньше?
– Меня – да. А в церковь вы ходите? То есть жизнью Церкви живете?
– Боюсь, что нет.
Она становилась жалкой, а рука Виталика – все более уверенной и упрямой, высекая грани на чурбаке, будто наказывала.
– Правильно боитесь. Потому что спастись не надейтесь, пока в храм не придете. Вот когда придете, и не один раз, а два, три, ну и там… Тогда считайте, что появилась у вас зацепка…
Мария сама не себе верила: ее с размаху окатили, а она и не захлебнулась, ничуть не обиделась. Только так он и может, только так и должен, если и впрямь желает ее спасения.
– Вы считаете, что вне Церкви спастись нельзя? – спросила Мария, хотя знала, что услышит.
– Это не я считаю, – ответил Виталик сухо.
– Да, да, конечно… Извините, я забыла, ведь и в Символе веры говорится про Церковь… А еще я совсем забыла, что мы с вами как-никак в часовне!
Она запрокинула голову, стала смотреть по сторонам. Часовня-мастерская склонялась более к мастерской; сквозь «леса» крошащаяся резьба проглядывала угрюмо и темно. Иконы перед реставрацией вынули и спрятали где-то в доме, впрочем, Надежда Ивановна обмолвилась, что досталось им – мало не покажется, и звучало это, как и все из уст замдиректора, словно образа вместе с усадьбой и ее обитателями ведут какую-то тайную войну или держат оборону…
Теперь тут было просто много дерева, даже избыточно. И дерева старого, хлипкого, словно бы зябкого и зимой, и летом. Марии нравилась часовня снаружи, потому что снаружи часовня была. И из-за того, что ее обманули или она сама себя обманула, войдя внутрь, Мария почувствовала вдруг неуютность, неловкость рассуждений о вере не только здесь, но и между ними: между тем, кто праздно переминается с ноги на ногу, и тем, кто кромсает чурбан, поскольку и первый, и второй равно не правы, равно не тем заняты – здесь, сейчас да и вообще.
В электричке Мария все видела перед собою Виталика: он ведь работал, а она болтала, и умышленно смутила его, не привычного к этим вывороченным, как лодыжки балерины, гуманитарным беседам, считай, обидела. И вдруг увидела его Савлом в римских доспехах, как у Караваджо. И снова подумала: люди лучше, чем им самим кажется, их даже можно любить ни за что.
6
Когда произношу имя улицы, сильнее ее чувствую, чем когда иду по ней по самой.
Помимо квадратного счастья от того, что иду, иду, еще видишь, бывает, перекресток с угловым домом 50-х, и кажется: вот. А что вот? Или стая голубей подымется над метро, и вдруг: вот.
Уже давно меня тянет съездить до станции метро «Нагорная». Всю жизнь живу в Москве, а на «Нагорной» никогда не бывала. Неужели это имя ей ничего не значит, неужели ничем мне не обернется? Слабо верю.
Мое стремление на юг Москвы никто не поймет. Туда, что начинается от метро «Автозаводская», но я даже не смогу объяснить, что там начинается. Если я скажу, что небо приподнимается и Москва-река ярче сверкает, ко мне в лучшем случае повернутся спиной – никто не поймет. Если я скажу, что там – я и ты, в меня чем-нибудь кинут. Настоящие я и ты, добавлю для большей путаницы.
Меня тянут в места, переключающие с центра на окраину, с города – на жилье. С того, где есть все, на то, где нет ничего, через то, где есть что-то. Интереснее всего то, где есть что-то. Обычно что-то затеряно между фабриками, заводами и зелеными пятаками, похожими на священные рощи, потому что обжиты и укромны.
Здесь, на юге, отзывчивость к свету у тротуара и проезжей части, у целомудренных – то просто и бодро, то опрятно-убогонько – фасадов, у воды, у перил мостов, у детских площадок, у скамеек и урн, у больших магазинных букв.
Но разве нет тянущих пространств, кроме юга? Северо-восток, например: от Бауманской в Измайлово, через Соколиную гору. А от Таганской площади до Рогожской заставы? И все равно, хоть через восток, но на юг. Когда же и почему потянуло на юг впервые? Я шла по Дербеневской набережной, а впереди шло переключение с августа на сентябрь. Вдоль набережной несколько, не вплотную, дородных светло-кирпичных домов. Люблю эти розовато-воробьиные кирпичные дома, они везде уместны, везде уверенны. Река загибается за горизонт, и с нею дома. На той стороне дома стоят высоко, я знаю, что там – стадион и какое-то замечательное предприятие, наполовину утонувшее в собственной раскатанной низкорослости. За ним виднеется башня Симонова монастыря, похожая на гибрид старой пожарной каланчи с павлиньей головкой, а понизу, у воды, зелень. В самом-самом низу, на повороте за горизонт, по-деревенски заросли ив. Это не блеск, это трепет, звонкий, мглистый. С лиловатым теплом. Как фольга. И дымчатый, и пронзительный, рябкий. Рябкий. Острое тепло ряби. И ивы у воды, и вода, а небо высокое с облаками. И неряшливый пароходик плывет из того предела, где пропадает река и последний кирпичный дом. Откуда над холмистым мехом деревьев поднимаются трубы. Плывет мимо зарослей ив, в овале неотрывного взгляда. Но в чем-то еще. В теплом блеске? В тепле желания? Кажется, вот-вот проснешься, кажется, вот-вот пронзит, согревая. И главное – там, откуда плывет пароходик.
Главное – там, перед ивами, перед поворотом реки. Оттуда раздвигается небо, оттуда трепещет блеск. Так все и решилось.
Но что все? Свобода?
Потребность свободы у меня прямо волчья, но разбивается, не выйдя наружу, о несвободу во мне. Страх перемещения, страх новых людей, внутренняя тугость.
Вместо того чтобы выйти под дождь, смотрю на него из окна, но странно, что именно этот дождь поливает меня сейчас, и любовь во мне оживает мясистым алоэ.
Ты – это ты не нынешний, а другой, который должен, должен и должен сбыться, к которому я никак не доеду. Кому же говорить «ты», тебе этому или ждать другого?
Когда боюсь, то представляю, как ты – нет, пусть будет условное лицо, – так вот, как другой ты гладит мои виски снизу вверх, так снимая страх.
Кирпичные пятиэтажки в деревьях и детских площадках, перемежеванные асфальтовыми дорожками (столько уменьшительных суффиксов, а не портит); я выбираю, где бы мы жили с другим тобой. Как сиденья партера, идут одинаковые и неповторимые.
Мои любимые слова «так» и «вот». Я сложу их в «так вот» повествования, вечного начала, а не в «вот так» эссеистики, вечного итога. Для хорошей истории достаточно глупой веры. Например, моей общей со всеми глупой веры в то, что счастье приносит с юга.
Но устроит ли меня всего лишь хорошая история? Для прекрасной истории, скажешь ты, нужно еще оттолкнуть банальность. А банальность приходит со словами. Потому на фотовыставке я вдруг решила не читать экспликации. Но ведь сказать все равно придется. Ведь, не сказав, не расскажешь, не опишешь, не передашь. Как сказать о том, что до слов, на языке самого того? Когда смотришь, приходят слова, и всегда фальшивые.
Я уже начала говорить. Слова суть строительные «леса» и будут разобраны.
7
Вот я на той стороне. Я иду по набережной, оставляя слева Новоспасский монастырь и под его стенами Новоспасский пруд, который сейчас огибают бегом юноши и девушки из некоей военизированной школы, кто еще трусцой, а кто уже перешел на шаг, и физкультурник у них совершенно типичный, сухопарый, с коротко обстриженными белыми волосами. Это набережная будет менять имена безо всякой необходимости, становясь из Краснохолмской Крутицкой, а потом Павелецкой, Даниловской, Новоданиловской и так далее. Как хорошо, что она бесконечна и многоименна. Вот дорожка предлагает мне подняться за ней чуть вверх, к жилым домам, но я иду понизу, вдоль воды, вдоль деревьев, пушисто нависших над цепочкой автомобилей, не припаркованных, а просто поставленных под деревьями, как телеги. Почему они стоят, словно приехали на пикник? А, здесь автошкола, и вот некто сосредоточенно ползет едва ли не на меня, и сентябрьский свет деревьев щекотно ласкает его корпус вместе с темно-икристым асфальтом. Малых, худых деревьев подростковый свет. Почему подростковый? Начало осени – лет пятьдесят в пересчете на человеческое. Но и на этой стороне, и на той я чувствую присутствие неназванной девушки, возлюбленной героя из обжегшего и спасшего меня романа, который так хочется переписать по-своему. Переписать – немного – и героя, и девушку и поселить ее в районе Дербеневской набережной, где отчего-то так веет этой несбывшейся мной, хорошей, некстати, романтически и старчески-грубовато любимой. На Дербеневской улице, где все же не так сутолочно и прижимисто от старых фабричных зданий, отданных большей частью под офисы и торговлю, как на соседней Дубининской. Где старо, грубовато и как-то тихо, несмотря на промышленную тесноту. Зайди на нее в воскресенье – уснувшая сутолока, призрак труда, надежнее всей жилой тишины. Конторские здания, квартиры для служащих – непрактичная еще, томная строгость позапрошлого века, кирпич цвета серы, долгие узкие окна. Пройти между строгими пожилыми романтиками фасадами, и торцом к улице вытянут двухэтажный дом с голубятней, похожей на музыкальный ящик, и растроганное и пригнувшееся под стать дому, почти распластавшееся в нежности дерево, черное, угольное. Дальше пустырь, слегка замшевый, слегка пепельный, тополя по краю.
Пустота, и дороже нет.
И дороже нет несбывшейся героини. И, возвращаясь на набережную, быть и не сбыться ею, юно дышать в староватом районе, кирпичном и цеховом. Вот-вот сбудется любовная сказка, вот-вот напишется еще одна московская сказка, вспорхнет еще одна недавняя школьница. Опять мне нужна история, и она трепещет, она обещает, она радостно плачет и ведет меня набережной на юг. Не кончается гребешок деревьев, нежно разрежающий свет, не кончается ожидание пикника, утро, приветствие издали.
Я спустилась по гранитным ступеням к самой воде. Недалеко от гранитной площадки сходили в воду кусты ракиты. Боковым зрением на граните рядом с собой я как будто увидела собаку, повернулась – собаки нет. И не было. Значит, хочется подсознательно, чтобы кто-то тоже стоял. Вдруг сзади захлопало по воздуху, и туда, где померещилась собака, спикировал пеликан.
Улетел он из зоопарка? Из частного зверинца? Из цирка-шапито?
Он стоит на граните, чуть переступает, совсем не приземистый, вытянутый белоснежным, мелко-рифленым кувшином. Серо-голубые лапы, клюв зимней небесной розовости. Какие большие и строгие глаза, с ярко-желтым белком. «Баба-птица», – произношу я, вспомнив храмовое его имя. Так спокойно и мудро звучит, что можно даже не вслух. Я говорю: «Баба-птица», будто прошу о чем-то.
Мне вправе не верить, но я верю своим глазам. Как никогда, сейчас я верю всей себе целиком. Произносящей без связок, одними губами: «Баба-птица». Рукам, которые понимают, что нельзя дотронуться. Пряди, влезшей во взгляд. Пригретой солнцем щеке. Куда-то толчками на месте плывущей густой воде. Не может быть лжи в присутствии бабы-птицы.
Мне кажется, он видит меня. Он летел издалёка, этим и объяснима его посадка, раз он просто стоит, не чистя перьев, устало потупившись. Он подходит поближе к краю, легко отталкивается и выбрасывает чернопалые крылья. Они низко несут на ту сторону.
Башня Симонова монастыря похожа на запечатанную глиняную бутыль.
Улица Лобанова скромна и пуста. В тени школа. Улица заворачивает резко, свет ударяет из-за угла, не в глаза, а в грудь. Теплый простор. Металлическая искристая свежесть. Склон, в неглубокой тарелке мигает вода, поблескивает утлое громадье вдоль берега. Кожуховский пруд в начале проспекта Андропова. Трасса. Светлый шум скорости. Близкое прозрачное небо.
Я спустилась пологим склоном к собачьей площадке на берегу. Узкая тропа набережной, вдоль нее путаются кусты. Можно спуститься и ниже – с тропы-набережной на заасфальтированную кайму пруда. Тут сидят рыболовы (всегда хочется сказать «рыбаки»). Я не спускаюсь ниже.
Меж изящными пеналами наверху (над водой дома почему-то всегда вытягиваются) и прудом – как назвать эту землю, пробел в памяти города, зеленый брак на карте? Редкой рощей? Сушится белье на веревке.
У тропинки на пне сидит человек. За спиной у него плетеный короб. В землю упирается дорожная палка, за другой конец ее держатся большие бледные руки. Он высокий, худой, в темной куртке и темных джинсах, в матерчатой шапке, напоминающей скуфью. Но и шапка мягче, и нет бороды на впалых щеках.
Он смотрит вперед, а впереди у него другой берег пруда и трасса. Я прохожу мимо и взглядываю на его обувь. Шнурованные ботинки из кожи или заменителя, не новые, но и не стоптанные. Он в начале своей дороги?
Он в начале моей.
И, пройдя уже совсем мимо, я догадываюсь, что он – это ты. Я поворачиваюсь вся назад и смотрю на него в надежде притянуть взглядом взгляд человека с коробом. Он сидел здесь до рыбаков и до пруда, и всегда в начале пути. Одиссей снаряжался в плавание, и северный безземельный крестьянин сидел на пне у дороги перед тем, как одним из товарищей взойти на борт. Черно-белый Ван Гог, ковыль, галки. Начало пути, не имеющее начала. Зачем короб вместо холщовой сумы. Скажи мне, нечерноземный и неземной.
Неделю спустя, когда 47-й трамвай проезжал платформу «ЗИЛ», я вновь увидела человека с коробом. Он шагал вдоль рельс, с коробом за плечами. Я вспомнила, как называется плетеный короб для ношения за плечами: кузов. И вдруг близость завода ЗИЛ заиграла, как река на солнце. Та самая бедная громоздкая река, что просвечивала за железнодорожьем.
В Коломенском она легкая, а берег в круглых белых былинных камнях. Русская борзая стояла в воде, полоща длинную бахрому, и, выйдя, не отряхнулась, как все собаки. Я проводила глазами борзую и ее хозяина, глаза вернулись на другой берег, не усадебный и вообще непонятный, деревенский и жидкий, где привязана лодка, и сразу узнала. Он обогнал меня. Человек с кузовом стоял там, держась за ремни, точно геолог или турист на старом фото. Палки при нем не было.
Он стоял еще минуту, и, пока он не ушел в глубь суши, я смотрела на него.
Я поняла, что могу встречать его там, где есть какая-то связь с водой.
Через пару дней я вновь ехала на 47-м, но не сошла у метро «Коломенская», а поехала дальше, в глубь Нагатинского затона. По фарватеру Судостроительной улицы, сквозь район-полуостров. У пересечения с Якорной, на тротуаре, живой памятник, полосатый ялик, из которого мачта торчит великанской спичкой. Ялик выбросило на берег, а улицы затонули. Затонули дома с продуктовыми магазинами, без кафе. Затонул сквер с трамвайным кругом в середке.
Ласково приунывшая, нерасторопная жизнь.
Дома серого кирпича с подъездами в оправе из лепных лоз. Вот витрины хозяйственного магазина, полуциркульные, с архивольтами, слишком пыльные и просторные, и как будто обязывающие, но оформленные по-домашнему, флаконами из-под шампуня и бывалой резиновой хрюшкой. У магазина тяжелые, из дерева и стекла, с замками, крашенные темно-красной масляной краской двери. Открывающиеся без таблички «открыто».
Внутри запах клеенки. Рулоны ковров, золотисто-рассыпчатые пейзажи с березами. Десертные тарелки по тридцать рублей.
Одна тарелка стоила семьдесят и была особенной, она казалась лет сорока. Кайма цвета розового крема на торте, с серой – серебро – окантовкой. В креме кружатся ласточка и ветвь сакуры.
Я прошла по затону неспешно, как поисковый катер, но не встретила человека с кузовом.
Стриж
Маленькое, холеное офисное здание, переделанный особняк. Перед ним, хоть и на тротуаре, урна: параллелепипед, сверху металл и «очко» для окурков. Как бы на краю «очка», словно на краю бассейна, притулилась птица крупнее и рябее воробья, большеголовая и крутолобая, нахохленная. Острые крылья сабельками. Миндалевидные глаза с лоском, почти с ресницами.
– Ты кто? – спросила я. – Что ты делаешь возле окурков?
Кажется, по печали его молчания я узнала прежде не виденного стрижа. Он пропал. Он готовился умереть, если надо – в зловонии, на холодном подлом металле. Он был выше меня. Он знал свою высоту и молчал, щурил изумительные глаза.
Остановившаяся при виде нас девушка посоветовала отнести его в Мартыновский переулок: там, через дорогу от храма, есть большая клетка, где живут птицы, оттуда, наверное, он и удрал. Я взяла в ладони стрижа, первый раз взяла птицу руками и понесла к храму и клетке.
Напротив храма Св. Мартина Исповедника, на территории еще одного ремонтированного особняка не без деловой жилы, за оградой и впрямь был птичий вольер. Населяли его волнистые попугайчики; теперь хочется прибавить к ним еще хоть кого-нибудь, канареек и щеглов, но, кажется, попугайчиками обходилось. Воскресенье не оставляло надежды – калитка с кодом, звонок никого не вызванивал. Остановилась семья с маленькой девочкой, заулыбалась и, не ведая греха, стала обсуждать птичку. Из храма вышел сердитый молодой священник, перешел дорогу, и калитка запищала под его ключом. Я сунулась, священник выслушал меня недоверчиво, но вольер отпер. Стриж уже кусал меня за пальцы. Я опустила его на песчаный пол. Подходя к Андроньевской площади, я поняла, какой допустила промах: посадила стрижа на землю. Назад я не повернула. Через несколько дней меня занесло вновь на ту, бывшую Большую Коммунистическую, ныне Солженицына улицу, и я прильнула к двойной, ограды и вольера, решетке, ища стрижа. Его не было среди попугайчиков.
Будьте благословенны вы, среди попугайчиков. Пусть вас попугивают, а вы не пугайтесь. И будем же благословенны мы среди попугайчиков. Человек с кузовом, твоя походка легка, твоя спина пряма, как у мальчика-туриста, как у святого. Тебе вдогонку должны трусить собаки.
8
Те из сокурсников Марии, кто решил применить по назначению диплом, подались в частные галереи. Теперь и Мария об этом подумывала, к огорчению своему признав, что работа с детьми ей не дается. На каждом уроке Мария заново, а значит, со свежей болью переживала ненужность свою и всего опыта истории, от имени которого она говорила, детям, у каждого из которых будет свой опыт. Она не могла заполучить любовь детей для искусства, для чьих-то давно истлевших дел, похождений, подвигов. Ей начинало казаться, что она соучаствует в обмане, как будто и Пракситель, и средневековые миниатюристы, и Микеланджело – все подлог…
Я их потчую деликатесами, а они еще не различают вкуса простой пищи, однажды подумала Мария, когда очередной вытаращенный взгляд заполз в угол и свернулся там, окаменев помпейской побитой псиной.
Саша тоже не поладила с учительством. Она сообщила, что двое ее коллег-скульпторов уже самочинно заняли какой-то брошенный склад под мастерскую и зовут ее к себе, с собою. И хотя Саша была старше, Марии казалось отчего-то, что Сашина жизнь моложе ее жизни, что этот заброшенный склад, где зазвучат молоток, шлифовальный аппарат, смех, жаргон, ругательства, что все это едва ли не равно самой молодости.
Последние недели августа Мария жила будто бы с заверенным свидетельством о конченности, решенности чего-то, жила будто бы внутри знака препинания между концом и началом. Кончилась маленькая эпоха, но счастье истекло раньше, и Мария не горевала по нему и не спрашивала, почему каждое дерево уже не то, что в начале, почему Воскресенское было раем, когда она только здесь очутилась, а теперь ей не на что смотреть и нечего чувствовать. Мария знала, что так всегда и бывает, что счастье ненадолго останавливает время, но время все-таки смывает счастье. Мария уже не помнила, как чувствовала то, что чувствовала, потому что время просачивалось и в память. Она помнила только, что была здесь счастлива, в этом лесу, в этой комнате, и удивлялась тому, как далеко ее отнесло.
Она добралась до заветного бревна быстро, прошла сквозь лес к полю легко, не глядя по сторонам, как по коридору. Два голоса перебивали друг друга: один беспрестанно твердил ну и что, другой это было, и, как с «казнить нельзя помиловать», Мария не понимала, о чем у них речь, и желала не чтобы они примирились, а чтобы только умолкли.
Она села на бревно с намерением не думать, а только смотреть прямо перед собой, на овсяное поле, и тут же подумала о том, что не знает, для чего это нужно. Если не знать, для чего живешь, подумала Мария, то не ясно и для чего быть счастливой. А она с кипой найденных ответов не знала зачем. «Зачем?» – вступил третий голос. Зачем счастье и память о счастье, зачем временное и тень от него?
Каждый раз начинаю с начала, подумала Мария. Виталик бы сказал, возможно, что это все «от лукавого», а может, сказал бы «крест».
Ей хотелось поблагодарить за все, о чем она помнит, но опять прозвучало: «Зачем?» Ей захотелось поблагодарить и за Виталика, и Мария почувствовала, будто глаза ей сейчас выжжет. «Плакать или смеяться?» – подумала она, и заплакала, запрокинув голову.
Позади кто-то стоял.
– Извините, я заняла ваш кабинет, – сказала Мария.
Она вдруг поняла, что всегда, когда Виталик оказывался рядом, это случайным не было: он ходил за нею, искал разговора – зачем?
– Вас кто-то обидел… или это вы так? – спросил Виталик.
– Это я именно так.
Мария подвинулась, и он сел на бревно.
– Как все-таки красиво, – сказала Мария, а в мыслях прибавила: хотя ничего, кажется, нет, только овес и небо.
– Там за полем дубовая роща, – сказал Виталик.
– А в грозу не попадем? Парит.
– Не попадем. Гроза будет к ночи.
Она обернулась: лес пропал из виду. Горизонт оставался прежним, пустым.
– Давайте сделаем привал, – предложила Мария, – иначе в таком темпе и впрямь дойдем до рощи, а мне туда не хочется. И ноги гудят… как барабан.
– Как улей, – буркнул Виталик, достал чистый, застиранный до прозрачности носовой платок и расстелил его в проплешине среди колосьев.
Лишь встретив взгляд Виталика, Мария поняла, что от нее требуется, и села. Виталик опустился рядом. Колосья не заглушали его – доставали до плеч.
– Давно вы пришли к вере? – спросила Мария. Странно нетронутые солнцем, тупые, но длинные, с остриженными скорее практично, чем «под мясо», ногтями пальцы Виталика зажали ствол колоса, точно гусиное перо. Пальцы потянули, но колосок сидел прочно, тогда они как бы в растерянности заскользили по нему вверх и вдруг отступились, почти грациозно.
– Если по порядку, история такая, – приступил Виталик так, как приступают к историям. – Когда я вернулся из армии (раньше срока вернулся, из-за травмы – не важно: травма и травма), отец как раз должен быть ехать в Сергиев Посад, там ему работку предложили. Артель уже расползаться начала, вот он и брался за все подряд, ну и меня с собой позвал – все-таки лишние руки. Я согласился. А там ведь Лавра… Отец настоял, чтобы мы выбрались поглядеть. Тогда я в первый раз и почувствовал… Там благодать. Там все живое, вещественное… как объяснить толком, не знаю, но я это на себе испытал. Вы бывали?
– В детстве.
– В детстве – это считай, что не бывали. Каждый обязан съездить, окунуться хоть раз. Правда, тогда у меня дальше смутности не пошло. А потом поехал в Москву, в училище поступать, поступил и тут же стал искать, куда бы устроиться на столярные работы – нельзя же из отца тянуть… Тут мне кто-то из наших подсказал: в ** монастыре как раз главный храм восстанавливают. Пошел…. Попал на Божественную литургию и всю до конца отстоял. Вышел из храма… как будто новый. Серьезно говорю. Не то чтобы заново родился – остался, какой был, при самом себе, со всем налипшим… со всей налипшей грязью, только словно мысли и чувства в меня вложили новые. Словно брел, брел нога за ногу и вдруг вышел к прямой дороге, встал на нее, и вид вокруг уже не тот, что прежде, и самому хочется уже другого.
На следующий же день достал Евангелие, прочел… Понял, конечно, что самому не разобраться. Стал по субботам и воскресеньям ходить, а уже через год, когда храм почти полностью восстановили, гляжу на себя: а ведь и я восстановился. Целиком… Как заново выстроился. Даже жаль бывает, что теперь врос и больше не живу этим новым…
– Да, этого ничто не заменит, – сказала Мария. Не сговариваясь, они встали. Поле остывало.
Мария сложила платок и отдала Виталику, тот почему-то не убрал его обратно, а зажал в руке.
– А я обратилась – не скажу «к вере» – в сторону веры, ища пресловутый смысл жизни. Ох уж мне этот смысл жизни… – Мария засмеялась.
– Да уж известно, штука неблагодарная, – неожиданно сказал Виталик. – Сам, помню, чуть не носом землю рыл, когда его искал. Но только Бога я тогда не встретил – не туда занесло. А ведь такую яму выкопал, гнили и гнуса столько перелопатил… – И добавил: – Вы мне глаза-то не отводите. Отчего плакали, ну?
– Отчего я плакала? Отчего я плакала?… От Бога, наверное. Я часто плачу от Бога. И от философии, да, от философии тоже… У меня бывают минуты, когда я ясно вижу, что жизнь – это очень тонкий покров. И оставить, как есть, невозможно, надо с ним что-то делать! Становиться либо эстетом, и тогда его, этот покров, изо всех сил наращивать, либо аскетом – тогда еще больше его истончать. Конечно, все это продумано до меня тысячами людей, все это банальности…
– Ну и что с того, что банальности? – проворчал Виталик. – Вы не тушуйтесь. Умную мысль и повторить не грех, – продолжал он. – А у вас почти все мысли умные. А что они и другим приходили… Так ведь и в Писании во всех книгах одни и те же мысли часто повторяются, в Ветхом Завете и в Новом, но так это же для того, чтобы людям их прочнее вдолбить! Надо мысли умные уважать. И свои, и чужие.
Нет, он все-таки дуб, сказала себе Мария. А говорить буду.
– Видите ли, надоедает до бесконечности перемалывать умные мысли. Ведь они всего лишь мои… Даже совесть может обманывать. Кто сказал, что всегда она голос Божий, что она не окажется частью слабой, грешной, глупой меня?
Виталик молчал, ожидая услышать дальнейшее. Почему ему не приедается эта тема, почему он в любое время готов говорить и слушать о Боге?
А ведь я исповедуюсь ему, осенило Марию. Потому-то он и слушает.
– У Баха, Виталий, есть один хорал, его хор поет, и там такие слова: «Покажи нам свою огромную любовь». Он являет свою любовь, постоянно ее являет, но для всех, и в церкви ты один из многих… А ведь иногда так хочется… Чтобы больше не сомневаться. Если подумать, то нельзя жить, не зная Его волю – не вообще для всех, а в отношении конкретно меня, – и однако странно, что я могу, могу так жить… Но не хочу.
Виталик смотрел на нее пристально, озабоченно до беспощадности.
– Я обо всем об этом не думал… Наверное, у вас вера глубже. Вы как будто очень глубоко верите… Но только не там. Это как колодец выкопать: можно ведь вырыть ой как глубоко, а не там, где нужно.
– Знаю, тогда это уже не колодец, а яма, и останется в нее только провалиться.
– Нет, нельзя так про веру говорить. – Виталик нахмурился, но тон был почти ласковый. – Зачем же так?.. Старые иконы вот, например… их ведь сжечь или выбросить грех, и поэтому их в земле хоронят. Вы это так не переживайте. А то сами заведетесь, меня разволнуете, а какой прок… Нельзя себя заводить. Вы же женщина, вам еще детей…
Сколько сил у него забирало это примиренчество, эта ласка, Мария видела.
– Вот вы говорили, что искали смысл жизни, но Бога тогда не встретили. И смысла не нашли. А когда вы встретили Его, как стало со смыслом?
– Более-менее ясно стало, – ответил Виталик не сразу.
Еж неприветливо миновал ее ноги, и через секунду Мария вспомнила, что лист был бордово-бурый.
– Людям нужны загадки, – взвешенно продолжал Виталик. – Люди, они же как дети. Вы небось знаете, раз с детьми работаете. Уж, кажется, все объяснили вдоль и поперек, а им неймется: спрашивают и спрашивают об одном и том же. А если ответ не по нутру пришелся, начнут выдумывать, лишь бы только не успокаиваться и не делать, как надо.
– А как надо?
– Ну, вот и вы туда же! А еще православная… Извините, но вам-то зачем прикидываться, малахольную из себя строить? Это раньше, в древние времена, люди не знали, что да как и ради чего жить, а потом Господь ко всем загадкам дал ключ. Один ключ! Себя. Он Сам Себя в жертву принес, за нас, между прочим, а мы все вертимся, как хорек в дупле. Все лазейки ищем… Господь нам вечную жизнь даровал – куда уж лучше! – а мы все с привременной носимся… Смысл в ней, видишь ли, ищем.
- Гипотеза Дедала
- Мы отрываемся от земли (сборник)