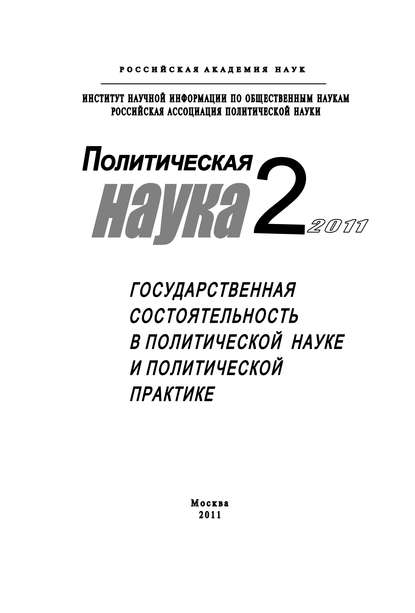Политическая наука №2/2011 г. Государственная состоятельность в политической науке и политической практике
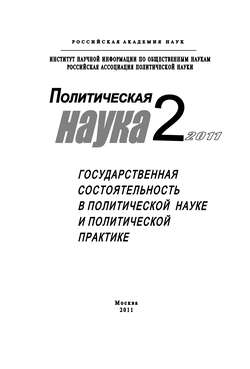
000
ОтложитьЧитал
Эмпирическая операционализация понятия «государственная состоятельность»
Единственная существующая на сегодняшний день подробная и логически непротиворечивая эмпирическая операционализация понятия «государственная состоятельность» принадлежит С. Бартолини [Bartolini, 2000]. По мнению С. Бартолини, государственная состоятельность имеет четыре измерения:
1) создание организации для мобилизации ресурсов (бюрократии и налоговой системы);
2) решение задачи внешней консолидации территории (формирование и укрепление армии);
3) поддержание внутреннего порядка с помощью полиции и системы правосудия;
4) реализация регулирующей функции государства, в том числе путем вмешательства в экономическую и социальную сферы.
В целях проведения эмпирического сравнения европейских стран Бартолини представил каждое из этих измерений в виде совокупности эмпирических показателей. Так, например, создание организации для мобилизации ресурсов предстает как:
– доля налогов в ВВП государства;
– доля налогов, собираемых национальным правительством, в общей совокупности налогов;
– доля налогов, собираемых органами государственной власти различных уровней;
– доля занятых в центральном государственном аппарате от численности населения.
Внешний контроль за территорией и поддержание внутреннего порядка с помощью полиции и системы правосудия он выразил в системе индикаторов, отражающих долю военных от общей численности мужского населения страны от 22 до 45 лет, долю занятых в полиции и занятых в системе правосудия от численности всего населения и т.д.
Несмотря на то что проведенная С. Бартолини операционализация довольно подробна и логична, она обладает рядом недостатков. В частности, в ней слабо учитывается контекст существования того или государства, связанный с использованием различных инструментов реализации государством его функциональных характеристик. Например, для ряда весьма успешных в некоторых отношениях стран наличие армии и ее размер не являются важным фактором состоятельности. Они с успехом используют другие механизмы, в частности международные режимы и гарантии безопасности. В некоторых других странах существуют большие по отношению к численности населения армии (например, в Нагорном Карабахе), но это не означает, что в этих странах нет проблем с государственной состоятельностью. Другое сомнение вызывает, например, доля занятых в центральном государственном аппарате от численности населения. Вероятно, как неразвитость, так и гипертрофированность государственных органов власти являются неблагоприятными для государственной состоятельности факторами. Ряд других параметров также вызывает вопросы, совокупность которых свидетельствует о том, что предложенная операциональная модель не является универсальной.
Учитывая имеющиеся попытки операционализации государственной состоятельности и подходы к ее концептуализации, можно было бы предложить следующую логику формирования универсальной операциональной многомерной эмпирической модели.
Первая группа показателей могла бы включать в себя характеристики размера и объема циркуляции общественных благ. Среди них могли бы быть показатели ВВП на душу населения, размер внешнего и внутреннего долга, количество «бюджетников» и объем бюджетной сферы; наличие и объем социальной ответственности государства и вмешательства государства в экономическую сферу.
Вторая группа могла бы отражать инфраструктурную способность и включать в себя индикаторы, свидетельствующие о наличии бюрократической системы и силовых структур, функциональной дифференциации и разделения властей, основ рационализации бюрократической системы, регулирующих законов и их охват. В эту группу могли бы быть включены также показатели процедурной преемственности или изменчивости (включая смену режима).
Третья группа могла бы состоять из индикаторов качества государственного управления. Здесь важными, на наш взгляд, были бы показатели верховенства государственной власти над всеми другими субъектами (наличие или отсутствие вооруженных конфликтов и случаев терроризма, сепаратистские выступления, наличие незаконных вооруженных формирований), зависимости политических элит и принятия решений от экономических и силовых игроков, степени концентрации и распределения власти, возможности взаимного контроля и блокирования неприемлемых для большинства решений, возможности воздействия на политическую элиту и смену власти (свободные и демократически выборы, формирование правительства в результате выборов, механизмы рекрутирования элит, возможности воздействия через СМИ и группы давления и т.п.)8.
Очевидно, что создание и последующая проверка такой операциональной модели требуют специального внимания не одного, а целой группы (как минимум) исследователей. Решение задачи ее конструирования позволило бы снизить неопределенность понимания «государственной состоятельности» в научном дискурсе и открыло бы возможность проведения широких эмпирических сравнительных исследований этого явления.
Исследовательский опыт по изучению государственной состоятельности позволяет сделать важный методологический вывод о нерелевантности простой бинарной шкалы «состоятельное – не-состоятельное» государство, «сильное – слабое» государство. Несмотря на то что многие исследователи рассуждают о состоятельности с помощью характеристик «сильный – слабый», «состятельный – несостоятельный», попытки классификации по этому принципу оказываются довольно дробными и непоследовательными: например, выделяют группы слабых постколониальных государств, модернизирующихся (БРИК плюс некоторые другие), европейских национальных, несостоявшихся и т.п. Не случайно изучение «несостоявшихся» государств – особая тематическая область исследования. Авторы соответствующих работ в основном перечисляют признаки несостоятельности, а не состоятельности, и анализируют те политии, к которым приложимы отмечаемые ими характеристики, а не весь типологический спектр стран. Кроме того, бинарная шкала оказывается нерелевантной по причине необходимости использования нескольких параметров состоятельности, в разных контекстах имеющих различное значение и сочетание. Так, по объему общественных благ, например, государство может быть в числе лидеров, а по качеству правления – в числе аутсайдеров. Для одних стран большой объем общественных благ – преимущество, для других – тяжелое обременение. Очевидно, попытки измерения государственной состоятельности должны предполагать использование более сложных инструментов, «настроенных» на учет нескольких параметров и контекста.
***
Анализ исследовательской литературы позволяет также сделать ряд важных выводов не только по поводу возможной операциональной эмпирической модели, но и относительно взаимодействия между государственной состоятельностью и другими аспектами становления и функционирования территориальной политии, политического процесса в целом.
Один из таких выводов заключается в том, что развитая государственная состоятельность – важный фактор устойчивого развития политии. Однако, как справедливо отмечал Ч. Тилли, «предельная состоятельность не гарантирует политической стабильности», а «ближайшие исторические последствия роста состоятельности – это увеличение вооруженных сил, налогов и народных мятежей» [The formation of national states in Western Europe, 1975, p. 49].
Залогом политической стабильности является развитие и согласие всех трех аспектов государственности, включая развитие каналов влияния общества на государство, механизмов обратной связи. На эту закономерность указывали некоторые исследователи, анализировавшие становление современных государств. Так, С. Бартолини отмечал, что формирование центра государства, его консолидация и расширение сферы компетенции не могут быть успешными без «строительства системы». «Строительство системы» позволяет использовать дополнительные по отношению к принуждению и насилию основания государственного строительства. Производство и воспроизводство символов национальной идентичности, институтов социального обеспечения и институциализация политических прав облегчают процесс формирования центра в культурном и административном отношении, легитимируют правила принятия решений относительно контроля над возможностями «выхода». Строительство расширяющихся сфер культурного, социального и политического равенства усиливает территориальную лояльность и солидарность и, соответственно, способствует стабильному развитию [Bartolini, 2005]. Этот вывод представляется особенно актуальным в век массовой политики, когда в политической жизни участвуют значительные группы людей, а механизмы ограничения их доступа к политике использовать практически невозможно или затруднительно. Особенно важно учитывать тесную связь между различными аспектами государственности в тех случаях, когда политики стремятся решать задачи укрепления государства, уделяя внимание только укреплению государственного аппарата, силовых структур, вмешательству государства в экономическую и социальную сферы, игнорируя при этом вопросы национального строительства, формирования эффективных институтов представительства и подотчетности.
Литература
Almond G. The return to the state // The American political science review. – Los Angeles, 1988. – Vol. 82, N 3. – P. 853–874.
Bartolini S. The political mobilization of the European left, 1860–1980: The class cleavage. – Cambridge: Cambridge univ. press, 2000. – 639 p.
Bartolini S. Restructuring Europe. Centre formation, system building, and political structuring between the nation state and the European Union. – N.Y.: Oxford univ. press, 2005. – 415 p.
Bertramsen R.B., Thomsen J-P., Torfing J. State, economy and society. – L.: Unwyn Hyman, 1990. – 267 p.
Bringing the state back in / P. Evans, D. Reuschemeyer, T. Skocpol (eds.) – Cambridge: Cambridge univ. press, 1985. – 390 p.
Caramani D. The nationalization of politics: The formation of national electorates and party systems in Western Europe. – Cambridge; N.Y.: Cambridge univ. press, 2004. – 347 p.
Clark C., Lemco J. The strong state and development: a growing list of caveats // Journal of developing societies. – L., 1988. – Vol. 4, N 1. – P. 1–8.
Dandeker C. Surveillance, power and modernity: Bureaucracy and discipline from 1700 to the present day. – Cambridge: Polity, 1990. – 256 p.
Daskalovski Z. Democratic consolidation and the «stateness» problem: The case of Macedonia // The global review of ethnopolitics. – Bath, 2004. – Vol. 3, N 2. – P. 52–66.
Fritz V. State-building: A comparative study of Ukraine, Lithuania, Belarus, and Russia. – Budapest; N.Y.: Central European univ. press, 2007. – 384 p.
Fukuyama F. «Stateness» first // Journal of democracy. – Baltimore, 2005. – Vol. 16, N 1. – P. 84–88.
Fukuyama F. State-building: Governance and world order in the 21st century. – N.Y.: Cornell univ. press, 2004. – 160 p.
Giddens A. The nation-state and violence. – Cambridge: Polity, 1985. – 399 p.
Jeffrey A. Building state capacity in post-conflict Bosnia and Herzegovina: The case of Brcko district // Political geography. – Amsterdam, 2006. – Vol. 25, N 4. – P. 203–227.
Lauridsen L.S. The debate on the developmental state // Development theory and the role of the state in third world countries / J. Martinussen (ed.). – Roskilde: Roskilde univ. centre, 1991. – P. 108–133.
Evans P. The eclipse of the state? Reflections on stateness in an era of globalization // World politics. – Princeton, 1997. – Vol. 50, N 1. – P. 62–87.
Linz J., Stepan A. Problems of democratic transition and consolidation. – Baltimore: John Hopkins univ. press, 1996. – 504 p.
Mann M. The autonomous power of the state // Archives européennes de sociologie. – Cambridge, 1983. – Vol. 25, N 2. – P. 187–213.
Migdal J. Strong societies and weak states: state-society relations and state capabilities in the Third World. – Princeton: Princeton univ. press, 1988. – 296 p.
Nettl J.P. The state as a conceptual variable // World politics. – Princeton, 1968. – Vol. 20, N 4. – P. 559–592.
Nordlinger E. On the autonomy of the democratic state. – Cambridge, Mass.: Harvard univ. press, 1981. – 256 p.
Pfister T. From state to stateness. – 2004. – 28 p. – Mode of access: http://www. qub.ac.uk/polproj/reneg/pdfs/Pfister-From_State_to_Stateness%20.pdf (Дата посещения: 20.04.2010.)
Skocpol T. Bringing the state back in: Strategies of analysis in current research // Bringing the state back in / P. Evans, D. Reuschemeyer, T. Skocpol (eds.) – Cambridge: Cambridge univ. press, 1985. – P. 3–37.
Schmitter Ph. Democratization and state capacity: Report on X Congreso internacional del CLAD sobre la reforma del estado y de la administración pública, 2005, October 18–21, Santiago, Chile. – 20 p. – Mode of access: http://unpan1.un.org/intradoc/ groups/public/documents/CLAD/clad0052201.pdf (Дата посещения: 25.03.2010.)
Stepan A. State and society: Peru in comparative perspective. – Princeton: Princeton univ. press, 1978. – 348 p.
The formation of national states in Western Europe / Ch. Tilly (ed.). – Princeton: Princeton univ. press, 1975. – 771 p.
Tilly Ch. Reflections on the history of European state-making // The formation of national states in Western Europe / Ch. Tilly (ed.). – Princeton: Princeton univ. press, 1975 – P. 3–83.
Wagner P. Social science and the state in continental Western Europe: the political structuration of disciplinary discourse // International social science journal. – Paris, 1989. – Vol. 41, N 4. – P. 509–528.
Waldner D. State building and late development. – Ithaca, NY: Cornell univ. press, 1999. – 246 p.
Wittrock B. Social science and state sevelopment: Transformations of the discourse of modernity // International social science journal. – Paris, 1989. – Vol. 41, N 4. – P. 498–507.
Ильин М.В. Возможна ли универсальная типология государств? // Политическая наука. – М., 2008. – № 4. – С. 8–41.
Оппозиции нашего времени: Доклад Института общественного проектирования о состоянии и перспективах политической системы России. – М., 2011. – 12 с. – Режим доступа: http://www.inop.ru/files/inop_doklad_2011.pdf (Дата посещения: 04.02.2011.)
Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии // Полис. – М., 2003. – № 3. – С. 67–71; № 4. – С. 152–160; № 5. – С. 65–75.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИОННОМ ИЗМЕРЕНИИ: К КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВ
О.И. КАРИНЦЕВ
В современной политической науке эффективность государств рассматривается как один из наиболее важных параметров государственной состоятельности. В этих условиях становится актуальной задача операционализации и измерения государственной эффективности, решение которой необходимо для проведения систематических сравнительных исследований в данной области. Необходимость операционализации вызвана также тем, что простое различение «слабых» и «сильных» государств не удовлетворяет исследователей, так как при этом упрощается определяющая государственную эффективность институциональная сложность [Doner, 1992; Beeson, 2002, p. 13], а сами формулировки носят расплывчатый и метафорический характер [Ильин, 2008].
Важность сравнительного изучения государственной эффективности обусловлена также тем фактором, который Хендрик Спрюйт рассматривает как причину триумфа государств над своими соперниками. Согласно Х. Спрюйту, «иерархическая и централизованная организация сделала государства более эффективным и более действенным средством обуздания паразитизма (freeriding) и ренегатства (defection) и, следовательно, оказалась лучшим средством для мобилизации ресурсов своих обществ» [Spruyt, 1996, p. 155]. Отсюда следует, что современные государства обязаны своим положением именно организационной эффективности, благодаря которой им удалось завоевать и отстоять монополию на легитимное принуждающее насилие, согласно известной веберовской формулировке [Вебер, 1990, с. 645].
Используемый в данной статье ракурс рассмотрения во многом вытекает из самой природы государств, которые часто трактуются как организации, принимающие и контролирующие исполнение обязательных решений в рамках определенной территории. Анализ организационного измерения государственной состоятельности может внести значительный вклад в понимание того, как государства формируются, консолидируются и управляются.
Сравнительные исследования государственной эффективности перекликаются с изучением государственной способности (state capacity), однако эти понятия исследователи относят к разным явлениям. Государственная эффективность отличается от государственной способности: «Способность применительно к государствам означает продуктивную организацию коллективных действий, в том числе поддержание закона и порядка, общественного здоровья и базовой инфраструктуры, а эффективность является результатом использования этой способности в плане соответствия требованиям общества по отношению к этим благам» [World Bank, 1997, p. vii]. С этим согласуется и вывод специалистов по сравнительно-историческому анализу государств Мэттью Ланджа и Дитриха Рюшемейера по результатам работы организованной ими группы по изучению государств и развития: «Государство как эффективный инструмент в руках правителей – способное осуществлять принуждение или жесткую силу, равно как и инфраструктурную или мягкую силу – необходимое, если не достаточное условие успешного развития» [Lange, Rueschemeyer, 2005, p. 248–249].
Наличие эффективного государства особенно важно для развивающихся стран, в которых многие задачи нациестроительства и создания дееспособных государственных структур остаются нерешенными. В связи с этим показательно, что главный тезис сравнительно-исторического исследования государственно-направляющего развития (state-directed development) в глобальной периферии, проведенного специалистом по сравнительной политической экономии развивающихся стран Атулом Коли, говорит о том, что «создание эффективных государств в развивающемся мире в основном предшествовало появлению индустриализированных экономик» [Kohli, 2004, p. 2]. В том же духе рассуждает и американский компаративист и латиноамериканист Сатья Паттнаяк, который определяет государственную эффективность как «способность и стремление государственной элиты преследовать цели развития, исходя из интересов большинства населения, проживающего в официально установленных территориальных пределах… государственная эффективность должна содержать в себе два в равной степени ключевых элемента: способность (capacity) и активизм» [Pattnayak, 1996, p. 208].
В данной статье предпринимается попытка наметить контуры аналитической модели сравнительного эмпирического исследования эффективности государств как одного из важных факторов государственной состоятельности.
Состояние проблемы
Несмотря на наличие ряда важных результатов, исследования государственной эффективности находятся в стадии разработки. Это объясняется тем, что до 70–80-х годов XX в. внимание на государствах как организационных структурах или потенциально автономных акторах не акцентировалось [Evans, Rueschemeyer, Skocpol, 1985, p. vii], а сами правительственные институты не рассматривались в качестве связанных (coherent) и единых (unitary) субъектов [Ellis, 1992, p. 569]. Лишь после вступления политической науки в постбихевиоральный этап развития с «переоткрытием» политических институтов [см.: March, Olsen, 1989] стал появляться устойчивый интерес к государствам как институтам и структурам.
После отдельных прорывных работ Джона Неттла [Nettl, 1968] и Чарльза Тилли [Tilly, 1975] начало традиции систематических сравнительных исследований государств было положено созданием в 1983 г. Комитета по исследованию государств и социальных структур американского Совета по исследованиям в социальных науках (SSRC) и выходом знаменитого сборника «Возвращая государство назад» (Bringing the state back in) [Evans, Rueschemeyer, Skocpol, 1985].
С этого времени интерес к сравнительному изучению государственного строительства, состоятельности и эффективности государств все более усиливался и к концу XX – началу XXI в. стал общепризнанным явлением [Evans, 1997, p. 62]. В 2005 г. выходит представительный сборник «Государства и развитие: исторические предшественники стагнации и подъема» под редакцией М. Ланджа и Д. Рюшемейера. В нем на основе объединения сравнительно-исторической методологии со статистическим анализом анализируются демократические условия государственной эффективности и вклад государства в создание благоприятных для развития коллективных благ [States and development, 2005]. Это коллективное издание стало результатом масштабного исследовательского проекта «Эффективные и дефектные государства» (Effective and Defective States) и работы уже упоминавшейся исследовательской группы по изучению государств и развития Уотсоновского института международных исследований Университета Брауна (2001–2004).
Мировой финансовый и экономический кризис еще более обострил проблему эффективности государств в плане преодоления негативных последствий рецессии, безработицы и социальной напряженности. Не случайно Жозеп Коломер обращает внимание на то, что «те институты, которые способствуют государственной эффективности и эффективной судебной системе… могли бы быть более релевантными для объяснения экономического роста, чем определенные варианты конституционных формул, и они не обязательно тесно связаны с этими формулами» [Colomer, 2006, p. 228–229]. Еще ранее, в докладе о мировом развитии Всемирного банка, было признано, что «развитие требует эффективного государства, которое играет роль катализатора и инструмента, стимулирующего и дополняющего деятельность частного бизнеса и индивидов» [World Bank, 1997, p. iii].
Несмотря на ряд важных достижений, систематические глобальные сравнения государственной эффективности пока еще только начинают входить в арсенал современных компаративистов. Можно отметить близкое к этой тематике исследование Всемирного банка, где используется индикатор «правительственная эффективность» (government effectiveness). Этот показатель отражает «восприятие качества государственных услуг, качества гражданской службы и степени ее независимости от политического давления, качества формулирования и реализации политики и достоверности приверженности правительства подобной политике» [World Bank, undated]. Вместе с тем индикатор правительственной эффективности охватывает в основном переменные качества государственного управления, в то время как эффективность государства в целом как политической единицы остается вне сферы рассмотрения.
В некоторых сходных индексах используются также переменные эффективности, однако они носят, как правило, частный или вспомогательный характер и охватывают в основном отдельные направления правительственной политики или экономики. К ним относятся, например, «эффективность антитрестовской политики» в Индексе государственных институтов Доклада о мировой конкурентоспособности Мирового экономического форума [The global competitiveness report, 2003–2004], государственная эффективность как индикатор «политического контекста» в Индексе гражданского общества CIVICUS [CIVICUS global survey of the state of civil society, 2007], эффективность государства в контексте экономической зависимости [Delacroix, Ragin, 1981] и т.п.
Необходимость формирования комплексной рамки для глобальных сравнений эффективности государств была сформулирована Всемирным банком в Докладе о мировом развитии «Государство в меняющемся мире» [World Bank, 1997]. Эта идея была во многом мотивирована осмыслением опыта «восточноазиатского чуда», попытка объяснения которого выявила ограничения применявшихся ранее подходов. В результате возникла необходимость формирования новых моделей, где бы адекватно оценивалась роль государства в стимулировании экономического роста [World Bank, 1993].
Мотив поиска во многом определялся осознанием того, что «без эффективного государства невозможно устойчивое развитие, как экономическое, так и социальное» [Wolfensohn, 1997, p. iii]. Обозначилась необходимость формирования институциональных условий эффективного государства. Это повлекло за собой потребность в новой аналитической модели, которая могла бы быть пригодной для объяснения государственной эффективности в условиях как «индустриальной революции» в Европе XIX в., так и послевоенного «экономического чуда» восточноазиатских государств. При этом была разработана классификация функций государства, в которой выделялись минимальные (порядок), промежуточные (образование) и активные (развитие рынка) функции [World Bank, 1997, p. 27].
Известная попытка концептуального осмысления государственной эффективности принадлежит Ж. Коломеру, который рассматривает ее пространственные аспекты. В частности, он считает создание новых средних и больших суверенных и эффективных государств крайне маловероятным. Ж. Коломер объясняет это тем, что «эффективное государство требует чрезвычайно дорогостоящего начального накопления ресурсов в руках государственной власти, что неблагоприятно для частных инициатив, по крайней мере в начальной стадии» [Colomer, 2007, p. 12]. При этом Ж. Коломер ссылается на опыт «больших европейских государств, достигших эффективности посредством длительных, сопровождавшихся насилием и большой жестокостью процессов внутренних и внешних военных действий и концентрации власти за счет подвластных» [Colomer, 2007, p. 12].
Важным вкладом российской политической науки в становление систематических глобальных сравнений государств, в том числе их состоятельности и эффективности, является масштабный исследовательский проект «Политический атлас современности» [Политический атлас современности, 2007]. В частности, в нем разработан «индекс государственности», использование которого позволило продвинуть разработку проблематики государственной эффективности.
Таким образом, проблема государственной эффективности пользуется устойчивым интересом современных компаративистов. Вместе с тем очевидное несоответствие между интересом исследователей к сравнительному изучению государственной эффективности и степенью изученности этой проблемы обусловливает потребность в новой аналитической модели, которая учитывала бы предыдущие наработки, но при этом носила бы более комплексный характер.
Формирование государств и теория организаций
Формирование аналитической модели требует прежде всего формулировки методологических ориентиров исследования. Поскольку анализ государственной эффективности предполагает обращение к организационному измерению функционирования современных государств, то представляется оправданным опереться на богатый опыт сравнительного изучения организаций, который уже несколько десятилетий составляет важный элемент мировой компаративистики [см.: Lammers, 1978]. Учитывая, что организационная эффективность занимает центральное место в теориях и моделях организаций как базовая зависимая переменная [Whetten, Cameron, 1994, p. 135–136], использование теории организационной эффективности могло бы способствовать лучшему пониманию того, почему одни государства эффективны, а другие – нет, и от чего зависит успех государственного строительства во многих сложных случаях.
Попытка применения достижений организационной теории к анализу государственного строительства наталкивается и на ряд методологических проблем, которые вытекают из самого состояния теории организаций.
Во-первых, среди исследователей нет согласия по поводу определения и измерения организационной эффективности [Whetten, Cameron, 1994, p. 139; Drury, 2004, p. 68; McGill, Klobas, Hobbs, 1996, p. 106; Campbell, 1977; Kirschenbaum, 2004], отчего страдают как кумулятивность исследований, так и формирование теории (theory-building). Особенно затруднены концептуализация и операционализация организационной эффективности для случаев нерыночных организаций, для которых не сформулированы отчетливые критерии прибыли и затрат. Это заставляет ученых идти по пути минимальных и широких определений. Например, американский специалист Уильям Торберт определяет эффективность как «соответствие целей и результатов», включая «намеренные и непредусмотренные, человеческие или материальные» [Torbert, 1983, p. 276].
Во-вторых, неравномерная концентрация внимания исследователей на коммерческих организациях привела к некоторым диспропорциям и недостатку внимания к организациям иного типа. В результате на сегодняшний день теория организаций представляет собой скорее совокупность слабо согласованных между собой концепций и моделей вроде алмондовских «отдельных столиков» [см.: Алмонд, 2000], нежели связную и унифицированную дисциплину.
Таким образом, проблему определения организационной эффективности нельзя назвать окончательно решенной. Вместе с тем необходимость использования этого понятия в исследованиях и его дальнейшего совершенствования очевидна для любой области, в которой оно применяется. Не стала исключением и политическая наука, которая также взяла на вооружение концепт организационной эффективности и близкие к нему категории для исследования политической сферы, например деятельности политических партий [см.: Sartori, 1968; Wright, 1971; Wellhofer, 1979; Deschouwer, 1994; Janda, 1980; Janda, 1983; Gibson, Cotter, Bibby, Huckshorn, 1983; Cotter, Gibson, Bibby, Huckshorn, 1984; Jankowsky, 1988; Strøm, 1994; Harmel, Janda, 1994; McAtee, 2005; Дюверже, 2007; Bréchon, 1999; Seiler, 2003].
Основное преимущество организационного подхода в политической науке состоит в том, что он несет в себе потенциальную способность обеспечить хорошую систему логически связанных и операционализированных переменных [Crotty, 1969, p. 384]. Очевидно, что государство удовлетворяет критериям, применимым к организациям, и, следовательно, может быть поставлен вопрос о государственной организационной эффективности. Как справедливо отмечала Тэда Скочпол, «необходимо всерьез отнестись к государству с точки зрения теории организации, т.е. рассмотреть государственные структуры как акторов, действующих в определенном правовом поле, обладающих ресурсами и преследующих собственные цели» [Скочпол, 2010, с. 20]. Несмотря на наличие методологических трудностей применения организационных моделей в сравнительных исследованиях государств, есть основания предполагать, что они компенсируются той пользой, которую может принести организационный ракурс рассмотрения государств в сравнительном изучении их эффективности. Теория организаций оказалась востребованной политической наукой, так как она позволяет ответить на вопросы о том, что происходит внутри политических институтов.
- Политическая наука № 1 / 2010 г. Формирование государства в условиях этнокультурной разнородности
- Политическая наука № 3 / 2010 г. Трансграничные региональные системы: Потенциал развития
- Политическая наука № 2 / 2010 г. Экология и политика
- Политическая наука № 4 / 2010 г. Политические партии, демократия и качество государственного управления в современном обществ
- Политическая наука № 1 / 2012 г. Два десятилетия трансформации современной российской политики
- Политическая наука № 2 / 2012 г. Идеи модернизации в политической науке и политической практике
- Политическая наука № 3 / 2012 г. Политические режимы в XXI веке: Институциональная устойчивость и трансформации
- Политическая наука № 4 / 2012 г. Мировая политическая динамика
- Политическая наука №1 / 2013. Политическое участие в условиях сетевого общества
- Политическая наука №2 / 2013. Религия и политика
- Политическая наука №3 / 2013. Между империей и современным государством: Трансформация политического порядка на постимперских пространствах
- Политическая наука №4 / 2013. Старые и новые идеологии перед вызовами политического развития
- Политическая наука №1 / 2014. Формы правления в современном мире
- Политическая наука №2 / 2014. Трансформации европейского политического пространства
- Политическая наука №3 / 2014. Посткоммунистические трансформации: Политические институты и процессы
- Политическая наука №4 / 2014. Массовый фактор в современной политике
- Политическая наука №1 / 2015. Партии в соревновательных и несоревновательных политических системах
- Политическая наука №2 / 2015. Познавательные возможности политической науки
- Политическая наука №3 / 2015. Социальные и политические функции академиических и экспертных сообществ
- Политическая наука №4 / 2015. Сравнительные исследования мировой политики
- Политическая наука №1 / 2016. Политическая организация разделенных обществ
- Политическая наука №2 / 2016. Политическая наука в современной России
- Политическая наука №3 / 2016. Политическая семиотика
- Политическая наука №4 / 2016. Государства в современном мире: Новые подходы к исследованию
- Политическая наука №1 / 2017. Массовое политическое сознание
- Политическая наука №2 / 2017. Языковая политика и политика языка
- Политическая наука №3 / 2017. Советские политические традиции глазами современных исследователей
- Политическая наука №4 / 2017. Субнациональное измерение политики
- Политическая наука №1 / 2018
- Политическая наука №2/ 2018
- Политическая наука. 2016. Спецвыпуск
- Политическая наука. 2017. Спецвыпуск
- Политическая наука №1/2011 г. Этничность и политика
- Политическая наука №2/2011 г. Государственная состоятельность в политической науке и политической практике
- Политическая наука №3/2011 г. Современная политическая социология
- Политическая наука №4/2011 г. Региональное измерение политического процесса