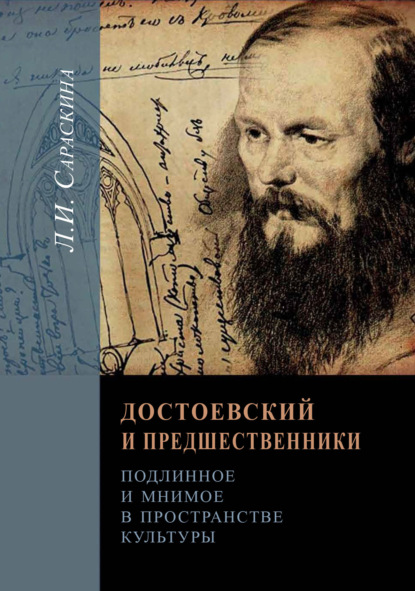Достоевский и предшественники. Подлинное и мнимое в пространстве культуры
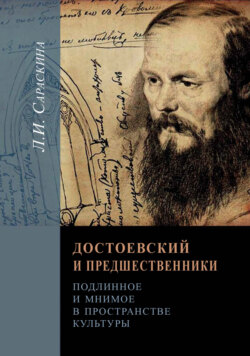
000
ОтложитьЧитал
Памятник Пушкину в Москве как победа пушкинского мифа
Важнейшим этапом формирования полновесного пушкинского мифа стало открытие памятника поэту в Москве, на Тверском бульваре, в 1880 году. Идея, высказанная Ф.М. Достоевским на открытии памятника, содержала серьезное, глубокое допущение. «Если наша мысль есть фантазия, то с Пушкиным есть, по крайней мере, на чем этой фантазии основаться. Если бы жил он дольше, может быть, явил бы бессмертные и великие образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям, привлек бы их к нам гораздо более и ближе, чем теперь, может быть, успел бы им разъяснить всю правду стремлений наших, и они уже более понимали бы нас, чем теперь, стали бы нас предугадывать, перестали бы на нас смотреть столь недоверчиво и высокомерно, как теперь еще смотрят. Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем» (26: 148–149).
«Если бы» Достоевского содержало множество сюжетов. Что было бы, если бы дуэль не состоялась, если бы роковой дуэли помешала жена Пушкина, Наталья Николаевна, или кто-нибудь из друзей поэта – Жуковский, Вяземский, Карамзины, или кто-нибудь из высших чиновников и придворных, скажем А.Х. Бенкендорф, или, наконец, государь император Николай Павлович? Что было бы, если бы Дантес выстрелил в воздух, промахнулся или ранение Пушкина оказалось бы не смертельным и он выжил бы?
Какую великую тайну унес с собой в гроб Пушкин? Разгадали ли эту тайну современники поэта? Сам Достоевский? Литературные потомки? Сегодняшние отгадчики и разгадыватели?
Что такого мог бы явить (сочинить) Пушкин, проживи он дольше, какие великие и бессмертные образы русской души, которые привлекли бы к России «европейских братьев», мог бы создать? Значит ли это, что образы, которые Пушкин успел явить в своем творчестве, были не поняты и не приняты Европой и, стало быть, он слишком мало сделал для того, чтобы европейский Запад перестал смотреть на Россию недоверчиво и высокомерно? Смог ли бы Пушкин повлиять также и на соотечественников в примирительном смысле, привести, например, к согласию западников и славянофилов, не допустить развитие в России губительных революционных идей и самой революции?
В полном ли развитии своих сил умер Пушкин или к моменту смерти он все же исчерпал свой духовный и творческий потенциал, из-за чего воля к смерти оказалась сильнее, чем воля к жизни?
Каждый из этих вопросов, а также сходных с ними, порождали мифы и мифологемы, а еще домыслы, праздные и не совсем праздные размышления. Но главное: насколько уместно все эти вопросы отнести не только к Пушкину, но и к самому Достоевскому, а также к Толстому и Тургеневу? В частности: создал ли Достоевский, к концу жизни, в своем творчестве нечто такое, что повернуло бы Европу к России? То, что Европа признала и полюбила самого Достоевского – факт неоспоримый, но помогло ли это России? Кажется, что не очень.
На открытии памятника свое слово о Пушкине сказал и Тургенев, нисколько не поддержав нигилистический скептицизм Писарева, но отдав должное вкладу поэта в развитие русского языка, который по своему богатству, силе, логике и красоте формы признается едва ли не первым после древнегреческого.
Но необходимо сказать о пушкинском торжестве 1880 года подробнее. «Нет, Аня, нет, никогда ты не можешь представить себе и вообразить того эффекта, какой произвела она! – писал Достоевский жене, имея в виду свою речь на празднике. – Что петербургские успехи мои! Ничто, нуль сравнительно с этим! Когда я вышел, зала загремела рукоплесканиями и мне долго, очень долго не давали читать. Я раскланивался, делал жесты, прося дать мне читать – ничто не помогало: восторг, энтузиазм (всё от “Карамазовых!”). Наконец я начал читать: прерывали решительно на каждой странице, а иногда и на каждой фразе громом рукоплесканий. Я читал громко, с огнем» (30, кн. 1: 184).
На следующий день петербургские газеты писали: это была молния, прорезавшая небо.
Почему речь Достоевского стала, по общему признанию, кульминацией праздника, историческим событием? Почему автора без конца вызывали, бешено аплодировали, плакали от восторга, падали в обморок, целовали ему руки? Почему два незнакомых старика смогли сказать: «Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили, вы наш святой, вы наш пророк!» (Там же)?
Достоевский точно знал, почему. «Когда же я провозгласил в конце о всемирном единении людей, то зала была как в истерике, когда я закончил – я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить» (Там же).
Волшебное, равное чуду, счастье всеобщей любви продлилось, как потом говорили, всего одно мгновение – после чего ненависть и злоба запылали с утроенной силой. Очнувшись от гипноза огненной речи, клявшиеся и рыдавшие будто наверстывали упущенное, стремясь больнее укусить автора речи и растерзать в клочья саму речь. Победа, предвкушаемая Достоевским накануне и испытанная в день праздника, оказалась иллюзорной – может быть, еще и потому, что Достоевский сам шел на праздник как на бой.
«Лишь после знаменитой речи Достоевского, – напишет Вл. Ходасевич спустя полвека, – Пушкин открылся не только как “солнце нашей поэзии”, но и как пророческое явление. В этом открытии и заключается неоспоримое историческое значение этой речи, весьма оспоримой во многих ее критических частностях. Нисколько не удивительно, что, прослушав ее, люди обнимались и плакали: в ту минуту им дано было новое, необычайно возвышенное и гордое понятие не только о Пушкине, но и обо всей России, и о них самих в том числе»43.
Однако торжество в честь великого поэта, объявленное территорией любви, катастрофически быстро обернулось зоной раздора и ареной военных действий.
XX век оказался временем тем более далеким от того, чтобы стать территорией любви к великому Пушкину – за него теперь надо было бороться, его дело надо было отстаивать. Мифологемы («русский человек через 200 лет», «Пушкин – наше всё», «жил бы Пушкин долее» и т. п.) уступили место символам. Наступало время «второго затмения», согласно термину Ходасевича. «Пушкин не будет ни осмеян, ни оскорблен. Но – предстоит охлаждение к нему. Конечно, нельзя на часах указать ту минуту, когда это второе затмение станет очевидно для всех. Нельзя и среди людей точно определить те круги, те группы, на которые падет его тень. Но уже эти люди, не видящие Пушкина, вкраплены между нами. Уже многие не слышат Пушкина, как мы его слышим, потому что от грохота последних шести лет стали они туговаты на ухо. Чувство Пушкина приходится им переводить на язык своих ощущений, притупленных раздирающими драмами кинематографа. Уже многие образы Пушкина меньше говорят им, нежели говорили нам, ибо неясно им виден мир, из которого почерпнуты эти образы, из соприкосновения с которым они родились. И тут снова – не отщепенцы, не выродки: это просто новые люди. Многие из них безусыми юношами, чуть не мальчиками, посланы были в окопы, перевидали целые горы трупов, сами распороли немало человеческих животов, нажгли городов, разворотили дорог, вытоптали полей – и вот вчера возвратились, разнося свою психическую заразу Не они в этом виноваты, – но все же до понимания Пушкина им надо еще долго расти»44.
Признаками (призраками!) или угрозами «второго затмения» Ходасевич считал отсечение формы от содержания и проповедь главенства формы. Если в пору «первого затмения» Писарев проповедовал главенство содержания, то проповедь главенства формы оказывалась столь же враждебна всему духу пушкинской поэзии, ибо те, кто полагает, что Пушкин велик виртуозностью формы и что содержание – вещь второстепенная, потому что вообще содержание в поэзии не имеет значения, – суть писаревцы наизнанку. «Сами того не зная, они действуют как клеветники и тайные враги Пушкина, выступающие под личиной друзей»45.
Как и во дни Писарева, охлаждение к Пушкину, забвение Пушкина и нечувствительность к нему опираются на читательскую массу, находящуюся под властью исторических событий огромного значения и размаха. Революция вместе с войной принесла небывалое ожесточение и огрубение во всех слоях русского народа. Культуре предстоит полоса временного упадка и помрачения. С нею вместе омрачен будет и образ Пушкина. Исторический разрыв с пушкинской эпохой навсегда отодвинет Пушкина в глубину истории.
Ходасевич предвидел, что та близость к Пушкину, в которой выросло его поколение, уже не повторится никогда: идут последние часы этой близости перед разлукой. Имя Пушкина, считал Ходасевич, должно стать тем именем, которым его верные почитатели станут аукаться, перекликаться в надвигающемся мраке.
В сходном настроении пребывал и А. Блок. В стихотворном послании 1921 года «Пушкинскому Дому», фактическом завещании поэта, Пушкин обозначался как символ борьбы с мраком: только в нем виделось спасение среди глубины отчаяния и гибели.
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!
«Непогода» ощущалась не только со стороны политического мрака: наступило время, когда в глазах многих эстетов, особенно среди эмиграции (монпарнасцев), любить Пушкина значило расписаться в литературном дилетантизме, в эстетической неразвитости. Немногие вступались в те поры за честь Пушкина – среди этих немногих был Владимир Набоков. «Так уже повелось, – говорит герой романа «Дар» Годунов-Чердынцев, – что мерой для степени чутья, ума и даровитости русского критика служит его отношение к Пушкину Так будет, покуда литературная критика не отложит вовсе свои социологические, религиозные, философские и прочие пособия, лишь помогающие бездарности уважать самое себя. Тогда, пожалуйста, вы свободны: можете критиковать Пушкина за любые измены его взыскательной музе и сохранить при этом и талант свой, и честь»46.
И все же: мифологемы о Пушкине, как и вообще любые мифологемы, вовсе не синонимы истины, и чем более они красноречивы, чем более внушительно выглядят, тем больше споров вызывают. XX век не посчитался с авторитетом Гоголя и Белинского и рискнул взглянуть на Пушкина взором скептическим, трезвым, полагая, что любовь к Пушкину – суть любовь слепая, почти инстинктивная. Так, российский писатель и литературовед П.К. Губер, автор популярной книги «Дон-Жуанский список А.С. Пушкина», написанной в 1923 году, назвал Пушкина гениальным выродком в семье русских писателей. «Не ищите у него морали. Его муза воистину по ту сторону добра и зла. В его поэзии нет никакой этической проповеди, никакого учительства, никакого нравственного пафоса. Моральное прекраснодушие ему смешно, а моральный ригоризм – чужд и непонятен… Пушкин не был выразителем русской культуры… не имел продолжателей, не оказал никакого воздействия на дальнейшие судьбы русской литературы, которая после его смерти пошла своим собственным путем. Позднейшим поколениям он не завещал ничего, кроме ряда эстетических эмоций… Завершитель старого, он не мог быть зачинателям нового»47.
Спустя 15 лет, в 1938-м, П.И. Губер будет арестован НКВД по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде, а также в деятельности, направленной к совершению контрреволюционного преступления. Отправленный в Кулойлаг НКВД (ст. Архангельск), он скончается там в 1940 году.
Парадоксы столетнего юбилея. Опыты десакрализации
Имело ли в виду грозное обвинение – в том числе или главным образом – нестандартную интерпретацию темы «Пушкин и русская литература» или было что-то совсем другое, неясно, но весьма символично: арест, срок и лагерь с Губером случились не сразу, в 1923-м (тогда за нестандартные мысли о Пушкине еще никого не трогали), а вскоре после грандиозного празднования (!) столетия со дня смерти поэта, которое расставило все политические акценты в отношении советской власти к скорбной дате. Еще несколько лет назад пролетарские писатели свергали «ненужного» Пушкина с пьедестала, выбрасывали его на свалку истории, юбилей же дал повод властям возвести Пушкина в ранг официального кумира: Пушкин – идейный враг царизма, союзник большевистской партии, выразитель надежд и чаяний советского народа. «Правда» тех дней в редакционной статье писала: «Прошло 100 лет с тех пор, как рукой иноземного аристократического прохвоста, наемника царизма, был застрелен величайший русский поэт. Пушкин целиком наш, советский, ибо советская власть унаследовала все, что есть лучшего в нашем народе. В конечном счете творчество Пушкина слилось с Октябрьской социалистической революцией, как река вливается в океан»48.
Итак, «Пушкин – наше всё» образца 1859 года спустя 78 лет превратился в «Пушкина – целиком нашего, советского». Пушкина «слили» с Октябрьской революцией и поставили ей на службу. «Сияние вновь прославленного в лике советских святых поэта не просто затмило лики прочих советских культурных икон, но едва не сравнилось с сиянием “вечно живого” и “самого человечного человека” – Ленина»49, – пишет современный публицист.
А торжество в память о гибели Пушкина («юбилей умертвий»: мертвый герой – лучший герой) и в самом деле случилось грандиозным – и власть использовала его для укрепления своего государства и своей политики. Отныне Пушкин принадлежал тем, кто борется, работает, строит и побеждает под великим знаменем Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Главным официальным мероприятием юбилея стало торжественное вечернее заседание в Большом театре в Москве 10 февраля 1937 года, в котором приняли участие все руководители СССР во главе со Сталиным. Заседание транслировалось по радио на всю страну. Торжественные митинги, собрания, научные конференции, спектакли, концерты и карнавалы были проведены в этот день в многих городах СССР: праздники проходили в каждом высшем и среднем учебном заведении, в театрах, предприятиях, воинских частях. В рамках торжества были изданы тома произведений Пушкина, документальный и художественный варианты его биографии, дан старт всемерному развитию научной пушкинианы. Музеи, памятники, выставки, конкурсы, портреты и скульптуры поэта, почтовые марки с его изображениями – юбилейная пушкиномания была громкая, шумная, затратная, захватывающая воображение своим разнообразием50.
Справедливости ради следует упомянуть, что годовщину «умертвий» отмечали не только в СССР. «Пушкин чествовался в 1937 году, т. е. в год его смерти, во всех пяти частях света: в Европе в 24 государствах и в 170 городах, в Австралии в 4 городах, в Азии в 8 государствах и 14 городах, в Америке в 6 государствах и 28 городах, в Африке в 3 государствах и в 5 городах, а всего в 42 государствах и в 231 городе… В результате всеэмигрантское празднование юбилея достигло той степени пошлости и умиления, что не сравнить парижские торжества с параллельными московскими было уже невозможно. И там, и здесь национальный культ перерастал в пародию на самого себя и становился угрожающим. Недаром наиболее чувствительные люди бежали от этих самодовольных фанфар: Бунин в юбилейный день просто сказался больным и не явился в президиум»51.
Но невозможно не видеть разницу между атмосферой торжеств 1937 года в СССР и в остальном мире: пушкинский праздник на родине поэта стал дымовой завесой, государственной ширмой, заслоняющей реальную жизнь, где правили аресты, тюрьмы, лагеря, расстрелы. 1837-й стал символом изнаночного мира сталинского террора. Не на пустом месте возник анекдот о конкурсе на лучший памятник Пушкину; соревнуются: бронзовая фигура Сталина с томиком Пушкина в руках и бронзовая фигура Пушкина с томиком Сталина в руках. Побеждает монументальная фигура Сталина – томик Пушкина не понадобился.
Огосударствление Пушкина в больших политических целях надолго станет важнейшей культурной тенденцией российского XX века.
Стилистика юбилейных торжеств – идет ли речь о рождениях или «умертвиях» – мало изменилась и в наши дни. Телеведущий Л. Парфенов: «При царе, на 100-летие со дня рождения, Пушкина делали подтяжками, водкой, одеколоном, сортом леденцов. При Сталине на 100-летие смерти и 150-летие со дня рождения его имя присвоили Царскому Селу, паркам, театрам, музеям. В 99-м Пушкин, как никогда, наше все: еще и медаль, спортивное многоборье, ресторан, корабли, балет. Юбилей раскручивают по правилам рекламных кампаний. Будто агитируя за кандидата, на одном телеканале лучшие люди страны строка за строкой читают “Евгения Онегина”. На другом ведется обратный отсчет: “До дня рождения Александра Сергеевича Пушкина осталось… дней” – 6 июня явно произойдет какое-то превращение, например юбиляр таки станет главой государства. Ему уже присягает действующий премьер Сергей Степашин, выводя в специальной книге посвящений “С днем рождения тебя, Александр Сергеевич, мы с тобой!”»52.
Не смею утверждать положительно, но тот факт, что «Мой Пушкин» Марины Цветаевой был написан именно в 1937 году, на фоне повсеместного угара и разгара пушкинских «умертвий», означал, быть может, попытку укрыться со «своим» Пушкиным подальше от «Пушкина» казенного, официозного. Ей виделся Пушкин – «бич жандармов, бог студентов, / желчь мужей, услада жен», «африканский самовол». А еще раньше, в 1924-м, к 125-летию со дня рождения Пушкина, Маяковский написал «Юбилейное» – стихи-признание, стихи-посвящение. «Может, я один действительно жалею, / что сегодня нету вас в живых. / Мне при жизни с вами сговориться б надо… / Я люблю вас, но живого, а не мумию. / Навели хрестоматийный глянец». Это тоже был «Мой Пушкин», личный Пушкин Маяковского, как и стихи Есенина «Пушкину» того же 1924 года: «А я стою, как пред причастьем, / И говорю в ответ тебе: / Я умер бы сейчас от счастья, / Сподобленный такой судьбе». «Есть имена, как солнце! / Имена – Как музыка! / Как яблоня в расцвете! / Я говорю о Пушкине: поэте, / Действительном, в любые времена!» – писал в 1926-м о любимом «своем» Пушкине Игорь Северянин. Откровенно интимны лирические строки Анны Ахматовой 1943 года, адресованные её и только её Пушкину: поэт был для нее источником творческой радости и вдохновения. «Кто знает, что такое слава! / Какой ценой купил он право, / Возможность или благодать / Над всем так мудро и лукаво / Шутить, таинственно молчать / И ногу ножкой называть?..»
Поэтическая пушкиниана насчитывает сотни взволнованных обращений, признаний, посвящений. В большинстве случаев – это именно «Мой Пушкин», тот, о котором в скорбные дни 1837 года сказал Тютчев: «Тебя ж, как первую любовь, / России сердце не забудет!..»
И все же…
«Бессчастный наш Пушкин! Сколько ему доставалось при жизни, но сколько и после жизни. За пятнадцать десятилетий сколько поименованных и безымянных пошляков упражнялись на нем, как на самой заметной мишени. Надо ли было засушенным рационалистам и первым нигилистам кого-то “свергать” – начинали, конечно, с Пушкина. Тянуло ли сочинять плоские анекдоты для городской черни – о ком же, как не о Пушкине? Зудело ли оголтелым ранне-советским оптимистам кого-то “сбрасывать с корабля современности” – разумеется, первого Пушкина»53, – писал в 1984 году А.И. Солженицын, сражаясь с писаревщиной нового времени, порочащей, унижающей Пушкина, издевающейся над ним, грязнящей его.
Если пытаться понять в терминах Вл. Ходасевича книгу А.Д. Синявского «Прогулки с Пушкиным», которую он писал в заключении (Дубровлаг, 1966–1968) и отсылал отрывками, в форме писем жене, Марии Васильевне Розановой, то книгу вполне можно назвать «третьим затмением». «Прогулки…» произвели эффект разорвавшейся бомбы – и в кругах русской литературной эмиграции, и на отечественной почве. Почему? Что так задело Солженицына, и далеко не его одного, в «Прогулках…» Синявского?
Прежде всего подход к предмету. «Что останется от расхожих анекдотов о Пушкине, если их немного почистить, освободив от скабрезного хлама? Останутся всё те же неистребимые бакенбарды (от них ему уже никогда не отделаться), тросточка, шляпа, развевающиеся фалды, общительность, легкомыслие, способность попадать в переплеты и не лезть за словом в карман, парировать направо-налево с проворством фокусника – в частом, по-киношному, мелькании бакенбард, тросточки, фрака… Останутся вертлявость и какая-то всепроникаемость Пушкина, умение испаряться и возникать внезапно, застегиваясь на ходу, принимая на себя роль получателя и раздавателя пинков-экспромтов, миссию козла отпущения, всеобщего ходатая и доброхота, всюду сующего нос, неуловимого и вездесущего, универсального человека Никто, которого каждый знает, который всё стерпит, за всех расквитается.
– Кто заплатит? – Пушкин!
– Что я вам – Пушкин – за всё отвечать?
– Пушкиншулер! Пушкинзон!
Да это же наш Чарли Чаплин, современный эрзац-Петрушка, прифрантившийся и насобачившийся хилять в рифму…»54
Пушкин Синявского – это кто-то вроде «насобачившегося хилять в рифму» Хлестакова: «Легкость в отношении к жизни была основой миросозерцания Пушкина, чертой характера и биографии… Наплевав на тогдашние гражданские права и обязанности, ушел в поэты, как уходят в босяки… Пушкин был щедр на безделки… В литературе, как и в жизни, Пушкин ревниво сохранял за собою репутацию лентяя, ветреника и повесы, незнакомого с муками творчества… Молодой поэт в амплуа ловеласа становился профессионалом. При даме он вроде как был при деле… На тоненьких эротических ножках вбежал Пушкин в большую поэзию и произвел переполох… Никто так глупо не швырялся жизнью, как Пушкин. Но кто еще эдаким дуриком входил в литературу? Он сам не заметил, как стал писателем, сосватанный дядюшкой под пьяную лавочку… Салонным пустословием Пушкин развязал себе руки, отпустил вожжи, и его понесло… Егозливые прыжки и ужимки… Поэтический стриптиз… Готовность волочиться за каждым шлейфом… Куда ни сунемся – всюду Пушкин… Пустота – содержимое Пушкина. Без нее он был бы не полон, его бы не было, как не бывает огня без воздуха, вдоха без выдоха… Первый поэт со своей биографией – как ему еще прикажете подыхать, первому поэту, кровью и порохом вписавшему себя в историю искусства?»
И так на всех «прогулках», куда бы автор не заглянул, куда бы не завернул, где бы не погулял. До «Прогулок» было далеко и Писареву, и писаревцам всех времен и народов. Это была новая мифология – где Пушкин низок, пошл, убог. Незаслуженно возвеличен, не по чину прославлен. «По совести говоря, ну какой он мыслитель!» – восклицал Синявский.
Остап Бендер и его создатели, так часто и так много вспоминавшие Пушкина и о Пушкине, при всем их остроумном хулиганстве, были куда осмотрительнее и, кажется, знали высказывание поэта, завет всякому биографу: «Уважение к именам, освященным славою, не есть подлость (как осмелился кто-то напечатать), но первый признак ума просвещенного. Позорить их дозволяется токмо ветреному невежеству…»55.
* * *
С.Г. Бочаров, ученик М.М. Бахтина, литературовед, писатель, пушкинист, писал: «В эти полтора столетия соперничали и сменяли друг друга два взгляда на Пушкина и два стиля суждений о нем – то, что названо пушкинским мифом, и научное пушкиноведение. Пушкиноведение стало на ноги поздно, уже в нашем веке, а до этого царило вольное размышление над Пушкиным с неизбежной склонностью к сотворению мифа. Начиная с Гоголя, при живом еще Пушкине: “явление чрезвычайное… единственное явление русского духа”. Формула Аполлона Григорьева, возникшая на пути от Гоголя к Достоевскому, – открыто мифологическая: она наделяет поэта магической властью творца миропорядка, демиурга, культурного героя и возводит Пушкина к древнему архетипу абсолютного поэта – Орфею. Наука о Пушкине в 20-е годы вступила в борьбу с этим пушкинским мифом. Она ревизовала этот самый пафос – “явление единственное, чрезвычайное”: пора покончить с обожествлением Пушкина и подвергнуть его историко-литературному изучению, поставить в общий ряд. В обобщающей книге 1925 года Б.В. Томашевский так и писал – пора: “Пора вдвинуть Пушкина в исторический процесс и изучать его так же, как и всякого рядового деятеля литературы”. Выразительное слово – “вдвинуть” – как втиснуть. Тогда же Юрий Тынянов выступил против известного пафоса: “Пушкин – это наше все” (это ведь тоже Аполлон Григорьев!) – и заявил, что ценность Пушкина велика, но “вовсе не исключительна” и с историко-литературной точки зрения Пушкин “был только одним из многих” в своей эпохе»56.
Становящаяся наука взялась было решить задачу десакрализации и демифологизации образа Пушкина, разрушить миф о его избранности, исключительности. То есть задачу опровергнуть Гоголя, Белинского, Григорьева, Достоевского, поэтов XX века. Но не потерпела ли академическая наука поражение в этом поединке? В конце концов, разрушая «старый», классический пушкинский миф, авторы XX века (Д. Хармс, А. Синявский, С. Довлатов, Д. Пригов, Т. Кибиров, Т. Толстая и др.) так или иначе создавали миф «новый», всяк на свой лад. «В большинстве случаев демифологизация компенсируется конструированием новых концепций пушкинского мифа, как спонтанным, так и нарочитым. Сознательное созидание неомифов, являющееся специфической чертой модернизма…можно увидеть во многих демифологизирующих текстах, начиная с пьес А. Платонова, стихов и эссе М. Цветаевой до прозы А. Битова и С. Довлатова»57.
Современная культура озадачивается вопросом: нужно ли непременно развеять миф, чтобы выявить одну-единственную, несомненную, непреложную правду? Быть может, миф как ценный компонент культуры требует не столько опровержения, сколько изучения? Во всяком случае, полезно знать, имея дело с материалом биографии Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого etc, в каком поле – поле мифа или поле правды – находится исследователь, читатель, зритель.
И наконец, конкретно: каким путем пошел биографический кинематограф, посвященный Пушкину, за сто лет своего существования?
Примечания
1 Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок. М.: ГИХЛ, 1956. С. 508.
2 Булгаков МЛ. Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита. Романы. Л.: Художественная литература, 1978. С. 583.
3 Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок. С. 186. Курсив мой. – Л.С. Комментируя это место в романе «Двенадцать стульев», автор обширного корпуса комментариев Ю.К. Щеглов замечает: «Пушкин упоминается в речи 20-х гг. как “кто-то, заведомо далекий от того, что обсуждается”» {Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Роман. Щеглов Ю.К. Комментарии к роману «Двенадцать стульев». М.: Панорама, 1995. С. 575.
4 Михайлова И.И. «Шоколад русских поэтов – Пушкин» // Легенды и мифы о Пушкине. СПб.: Академический проект, 1995. С. 291–294.
5 Ну, что, бренд Пушкин? // http://www.advertology.ru/articlel09172.htm (дата обращения: 10.05.2018).
6 Там же.
7 «Ах, Александр Сергеевич, милый!» Пушкин в современной массовой культуре // https://news.rambler.ru/community/36062481/ (дата обращения: 12.05.2018).
8 Синдаловский ИЛ. Мифология Петербурга: очерки. СПб.: Норинт, 2002. С. 22.
9 «Майский чай». Реклама // https://www.youtube.com/watch?v=SPuOvsEEB8Y (дата обращения: 13.05.2018).
10 Ежедневный юмор. Дебилы дня. Майский чай, Реклама «Евгения Онегина» под музыку // http://dailyhumor.ru/tag/yumor/page/94/ (дата обращения: 13.05.2018).
11 Кафе Пушкинъ. История // https://cafe-pushkin.ru/istoriya/ (дата обращения: 13.05.2018).
12 Кафе Пушкинъ. Кондитерская // https://www.sweetpushkin.ru/istoriya-konditer-skoj/ (дата обращения: 13.05.2018).
13 Окуджава Б. Счастливчик Пушкин // https://www.youtube.com/watch?v= tCaajRQqlFA (дата обращения: 14.05.2018).
14 Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок. С. 234.
15 Там же.
16 Там же. С. 238–239.
17 Цитирую первую строфу: «Бандиты стражу перебили, / Красотку захватили в плен, / Её в темницу посадили, / А сами пить пошли в кабак. / Но ей темница не страшна, / Превесело живет она».
18 Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Золотой теленок. С. 302.
19 Там же. С. 303.
20 Там же.
21 Там же. С. 305.
22 Там же. С. 401.
23 Там же. С. 433.
24 Там же. С. 439.
25 Там же. С. 639.
26 Там же. С. 643.
27 См.: Сараскина Л. «При диктатуре пролетариата сатира ополчается на…» Ф. Тол-стоевский против Достоевского на территории Ильфа и Петрова // Достоевский в созвучиях и притяжениях (от Пушкина до Солженицына). М.: Русский путь, 2006. С. 483–509.
28 Синдаловский П.Л. Легенды пушкинского века // Н.А. Синдаловский. Мифология Петербурга: очерки / https://news.rambler.ru/community/36062481/; http:// www.e-reading.mobi/bookreader.php/1011790/Sindalovskiy_-_Mifologiya_Peter-burga_Ocherki.html Курсив мой. – Л.С. (дата обращения: 22.05.2018).
29 Миф как явление культуры // https://news.rambler.ru/community/36062481/https://studfiles.net/preview/4378948/ (дата обращения: 22.05.2018).
30 Новиков В. Двадцать два мифа о Пушкине // Время и мы. 1999. № 143; https:// news.rambler.ru/community/36062481/http://magazines.russ.ru/project/arss/novi-kov/pushkin.html (дата обращения: 22.05.2018).
31 Гоголь Н.В. Несколько слов о Пушкине // Н.В. Гоголь. Собрание сочинений: в 9 т. М.: Русская книга, 1994. Т. 7. С. 260. Курсив мой. – Л.С.
32 Там же.
33 Там же. С. 261.
34 Белинский В.Г. Литературные мечтания // Молва. 1834. Ч. VIII. № 50. С. 397.
35 Герцен А.И. О Пушкине // А.И. Герцен. Собрание сочинений: в 9 т. М.: ГИХЛ, 1955–1958. Т.3.1956. С. 444.
36 См.: Грот Я.К. Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Статьи и материалы. М.: Книговек, 2015. С. 220.
37 Григорьев А.А. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Статья первая // А.А. Григорьев. Искусство и нравственность. М.: Современник, 1986. С. 78, 80. Курсив мой. – Л.С.
38 Писарев Д.И. Пушкин и Белинский. М.; Пг.: Гос. изд-во «Типография “Печатный двор”», 1923. Цитаты из статьи приводятся по этому изданию.
39 Ходасевич Вл. Колеблемый треножник // https://news.rambler.ru/communi-ty/36062481/http://az.lib.ru/h/hodasewich_w_f/text_0118.shtml (дата обращения: 25.05.2018).
40 Гончаров И.А. Мильон терзаний // Вестник Европы. 1872. № 3.
41 Там же.
42 См.: Л.Н. Толстой – П.Д. Голохвастову. 30 марта 1873 года, Ясная Поляна.
43 Ходасевич Вл. О пушкинизме // Возрождение. Париж. 1932, 27 декабря. № 2767.
44 Ходасевич Вл. Колеблемый треножник // https://news.rambler.ru/community/ 36062481/http://az.lib.ru/h/hodasewich_w_f/text_0118.shtml. Курсив мой. – Л.С. (дата обращения: 22.05.2018).