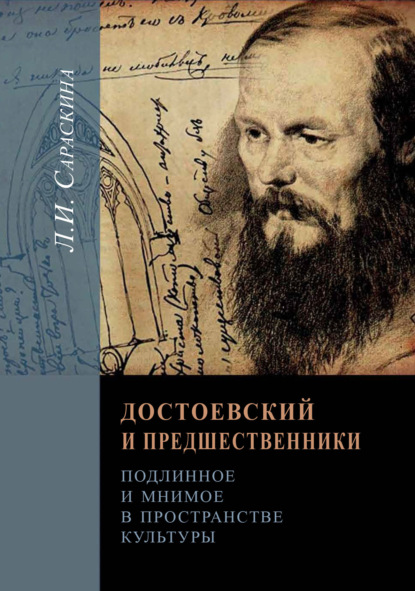Достоевский и предшественники. Подлинное и мнимое в пространстве культуры
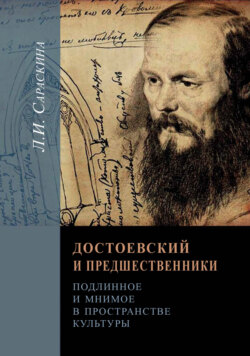
000
ОтложитьЧитал
Судьба документа: проверка на дорогах
Снова обращусь к заветам классика европейской исторической науки XIX века Леопольда фон Ранке: при изучении исторического события важно узнать и показать, как оно было на самом деле. Приходится, однако, признать: в XX веке среди историков утвердилось мнение, что это во многом ложно сформулированная задача – абсолютная достоверность недостижима, все утверждения о достоверности лишь относительны и со временем будут отброшены.
Минувшее столетие ясно дало понять: информация, почерпнутая, например, из архивов (частных, личных, государственных), нуждается в проверке и перепроверке. Так, уголовные дела фабриковались, показания арестованных фальсифицировались, доносы содержали ложные сведения, протоколы допросов подследственных кишели оговорами и самооговорами – люди вынуждены были брать на себя любую вину, давать показания под психологическим давлением или под пытками.
Слабый человек в кабинете следователя мог оговорить друга, коллегу, родственника, соседа – в корыстных целях или ради самозащиты. Из поединка, в котором зло жестко противостоит человеку, ему трудно, а может быть, и невозможно выйти победителем. Вопреки опасным иллюзиям, будто человек способен умереть героем, невзирая на все муки и страдания, Дж. Оруэлл утверждал: ни за что на свете ты не захочешь, чтобы усилилась боль. От боли хочешь только одного: чтобы она кончилась. Перед лицом боли нет героев. XX век, развеяв романтические представления о могуществе и неистребимости человеческого духа, сделал свой нерадостный вывод: зло способно подчинить человека до конца – как и боль. Нет сильных людей, есть слабый ток в установке с рычагом и шкалой над кроватью узника.
То же и с письмами: на письма как наиважнейший источник информации полагаться всецело невозможно: необходимо учитывать кому, когда и зачем написано письмо, какие цели преследовал пишущий, писал ли с полной откровенностью или с внутренней цензурой, хотел проинформировать или скорее дезинформировать адресата. То есть следует хорошо изучить личность пишущего и личность того, кому адресовано послание. Что открывает и что скрывает письмо – только такой подход может помочь использовать переписку как надежный источник сведений.
Тем более это касается переписки третьих лиц – пишущие могут сплетничать «из видов», в личных целях, могут быть заинтересованы в очернении или обелении тех, о ком пишут, могут их выгораживать или, напротив, обвинять, могут намеренно запутывать обстоятельства места и времени.
Дневникам привременным, как правило, доверяют куда больше, чем воспоминаниям, особенно если датированные записи были безыскусны, не предназначались для посторонних глаз и для публикации. Но всегда бывает любопытно сверить информацию из дневника с информацией из писем (а также из воспоминаний) одного и того же лица на предмет противоречий, нестыковок и разночтений, которые, как правило, обнаруживаются в большом количестве.
Мемуары более всего требуют проверки и перепроверки и менее всего являются надежным историческим документом. Нужно изучить, помимо личности автора, времени и места действия описываемых событий, его осведомленность о них, установить источники сведений, их качество. Каждому есть что скрывать, каждый вспоминает прошлое избирательно, замалчивая то, о чем вспоминать не хочется, или стыдно, или совестно, или опасно. К тому же мемуары – это чаще всего беллетристика, художественная проза, с разной долей вымысла и фантазии. После ухода из жизни знаменитых людей у них появляется огромное число «друзей», «соратников», «сподвижников», которые вдруг решили «вспомнить» об общем детстве, о былой дружбе и т. п. Как можно верить подобным «воспоминаниям»? Им и не верят.
Даже к исповеди, которая, казалось бы, гарантирует искренность и достоверность сообщаемого, нет и не может быть полного доверия: если это литературный жанр, текст для публикации, рассматривать ее как документ можно с большой натяжкой – во всех известных литературных исповедях авторы брали на себя много лишнего, для красоты слога и стиля, для пущей драматургии повествования. Исповедь же в церковной смысле недоступна как документ – это самостоятельный вид охраняемых законом тайн, одна из гарантий свободы вероисповедания.
Надежность свидетельских показаний, показаний очевидцев лучше всего комментирует древняя поговорка: «Врет как очевидец». Человеческая память несовершенна, а зачастую и ущербна. Очевидцы, мало что запомнив из увиденного, уверяют, что всё видели своими глазами, при этом додумывают детали, прибавляют и приукрашивают. Чем дальше событие от времени опроса, тем больше деталей выдумывают очевидцы. Они могут вдохновенно ошибаться и при этом быть уверенными в своей правоте и кристальной честности. Есть еще и «испорченный телефон»: информация передается из уст в уста, и на каждом этапе факты искажаются и преображаются. Люди имеют обыкновение домысливать, перемешивать реальность с фантазией и при этом свято верить в истинность своих слов. Про одно и то же событие трое очевидцев будут рассказывать по-разному, часто противореча и опровергая друг друга (яркий пример из художественной литературы – новелла классика японской литературы Акутагавы Рюноске «В чаще» (1922): семь свидетелей одного убийства дают семь его различных версий).
Перекрестное изучение документов, их критический анализ, сопоставление разных источников могут дать более или менее адекватную картину происшедшего, если именно в такой картине заинтересованы историк-исследователь, исторический писатель, режиссер, снимающий историческое кино.
Но все же – какие цели ставят они перед собой? Есть смысл спросить об этом у мастеров кинематографа – и у тех, кто снимает историческое кино для того, чтобы осмыслить правду истории, и у тех, кто снимает исторический сюжет, чтобы развлечь зрителя. В каждом случае своя аргументация.
«Почему вы сами не снимаете масштабное военное кино? Думается, вам бы на него деньги дали», – спросила у режиссера и сценариста А.Н. Митты корреспондентка «Вечерней Москвы» Е. Булова.
Режиссер ответил: «Великая Отечественная война – это такое прошлое, от которого мы никогда не отделаемся. Это самая кровавая и страшная история войны. Человек на ней являлся “пушечным мясом” – и немцы были свирепы, и СМЕРШ тоже стрелял, и наше главнокомандование порой тоже было не на высоте. Откровенно говоря, я не единожды был на подступах к игровому военному кино. Но когда реально изучаешь историю, видишь то, как это выглядело на самом деле. То есть видишь многое, погруженное в грязь, в холод, в безответственность людей, которые на трупах приобретали опыт. Без этих фактов невозможно снять что-то честное. Но такое кино ведь все равно закроют, или придется идти на компромиссы, которых не хочу в этой теме, и поэтому мне не хватило мужества запуститься с ней»47.
Признание режиссера, несомненно, заслуживает уважения; приходится, однако, заметить, что намерение пробиться к правде факта, чтобы снять бескомпромиссную картину о войне, потерпело фиаско: не хватило мужества и духа. Но, значит, дело не в тотальной невозможности «снять что-то честное», а в нехватке мужества, творческой несмелости. А если бы рискнул?
Напрашивается параллель с У. Черчиллем, получившем в 1953 году Нобелевскую премию по литературе, с формулировкой «За высокое мастерство произведений исторического и биографического характера, а также за блестящее ораторское искусство, с помощью которого отстаивались высшие человеческие ценности». Шеститомное сочинение Черчилля «Вторая мировая война» («The Second World War», 1948–1954), на которую обратил пристальное внимание Нобелевский комитет, не было объективной исторической хроникой: автор не раз подчеркивал, что в книге описаны именно его личное участие в борьбе с фашизмом, его угол зрения на события и его реконструкция этих событий. С его точки зрения войну с Гитлером выиграли американцы и англичане, а Сталинградская битва была лишь одним из эпизодов на Восточном фронте. Наверное, и такой подход дает поучительный результат, пусть, с точки зрения альтернативного историка, результат отрицательный.
Что же ценнее – несбывшееся произведение, с честными намерениями, основанное на правде факта, или сбывшееся субъективное повествование, ставшее достоянием культуры, пусть и вопреки объективности?
Вопрос вопросов.
А вот позиция актрисы Ингеборги Дапкунайте, сыгравшей в фильме «Матильда», в беседе с журналисткой «Новой газеты» Л. Малюковой.
«– Исторические персонажи всегда играть сложно, что вы вкладывали в эту роль, как к ней подступались?
– Пытаюсь начинать с книг, дневников. Мне интересно читать, погружаюсь в контекст. Это сложный исторический период, к которому я “подбираюсь” все ближе. Когда-то играла Александру Федоровну, жену Николая II.
– Известно, что отношения между вдовствующей императрицей и Александрой Федоровной были, мягко говоря, непростыми.
– А бывают “простые отношения”? Играешь не “отношение”, даже не свое восприятие истории. Проживаешь жизнь героя в обстоятельствах, которые предлагают режиссер и сценарист. Это история, которую они рассказывают. Возвращаясь к больной теме “оскорбления исторического персонажа”. Если бы мы снимали документальное расследование, я бы сочла возможным какие-то претензии. Но мы снимаем развлекательное кино.
– Развлекательное?
– Это зрелищный костюмированный образец энтертеймент индустрии. Мы увлекаем и развлекаем людей. Можно развлекать, говоря о серьезных вещах и проблемах. Можно снимать “Нелюбовь” или “Аритмию”, поднимая разговор о современнике и его одиночестве. Развлекать легкомысленными и серьезными мюзиклами. На самом деле мы по-прежнему представители одной из самых старых профессий: рассказываем историю. Когда я училась в консерватории, нам объясняли на лекциях: с чего начинается театр? С человека, который рассказывает историю. Он может говорить правду, а может все выдумать. Как правило, неправда интереснее. И к вопросу о правде. Как только человек начинает что-то рассказывать, правда растворяется в его интерпретации, субъективном взгляде на вещи»48.
Откровенность актрисы тоже заслуживает уважения, но кажется, что это все же знаковая проговорка, почти прокол. Фраза: «как правило, неправда интереснее» ставит множество непростых вопросов.
Неправда интереснее – для кого? Для какой категории зрителей? Для тех, кто ничего толком не знает о событиях и персонажах? Для малограмотных, для массовки с поп-корном? Но ведь есть и другие, которые знают…
И потом: неправда – это не вымысел. Вымысел – это придумка нового, никогда не бывшего, не случавшегося, с реальной историей не конкурирующего. «Порой опять гармонией упьюсь, / Над вымыслом слезами обольюсь…» – писал А.С. Пушкин («Элегия», 1830). Художественный вымысел – занятие благородное, из самой сердцевины поэтического искусства, тонкого и богатого.
Неправда – это отрицание правды. Правду знают, но избегают ее, по той или иной причине обходят стороной. Неправда, конечно же, может быть интересна, как ложь, как клевета, как зло. Зло вообще магически притягательно, оно манит и соблазняет простодушных. А правда и добро кажутся скучными, обыденными, как нотация и прописи. Абсолютное зло чарует абсолютно – и что? Человеку, допустим, нравится ощущать себя падшим ангелом – и что дальше? Дистанция короткая, дорога – в никуда. К тому же – напомню еще одну расхожую истину – реальность бывает гораздо круче любого вымысла, любой художественной фантазии. Над вымыслом слезами обольюсь, а над правдой слезы вытру и задумаюсь. Правда – чтобы думать.
Красноречив и другой пассаж из интервью актрисы: «Если бы мы снимали документальное расследование, я бы сочла возможным какие-то претензии». То есть, по мнению актрисы (а это мнение типичное), в художественном кинематографе наличие исторической неправды (то есть лжи) даже нет смысла обсуждать, настолько она, эта ложь, ожидаема и естественна.
Так что, кажется, художественный кинематограф, который декларирует, что ему интереснее работать с неправдой, интереснее производить неправду (актриса на самом деле выразила позицию многих кинохудожников), просто не справляется с правдой, или боится ее, ибо часто правда неприглядна; развлекательный кинематограф просто не способен ее творчески осмыслить и освоить, сделать достоянием высокого искусства.
Это было при нас.
Это с нами вошло в поговорку,
И уйдет.
И однако,
За быстрою сменою лет,
Стерся след,
Словно год
Стал нулем меж девятки с пятеркой,
Стерся след,
Были нет,
От нее не осталось примет.
(Б. Пастернак. Девятьсот пятый год)
Прикольное против подлинного, интересное вместо правдивого
Между тем взыскательный зритель, который есть вообще-то конечная инстанция киноиндустрии, делающий рейтинги и собирающий кассу, жаждет правды, а не лжи – особенно в тех случаях, когда речь идет о картине, основанной на реальных событиях.
В 2017 году на кино- и телеэкраны вышли картины, заставившие зрителей, а среди них были в том числе и историки, и просто образованные люди, ответить на болезненный для иных мастеров кинематографа вопрос: сколько правды и сколько неправды в их картинах?
Так, сериалы «Демон революции» и «Троцкий» заставили зрителей-историков задуматься: насколько эти исторические картины о революции 1917 года, поставленные В. Хотиненко и А. Коттом совсем не в развлекательном жанре, соответствуют реальным событиям. Портал КиноПоиск, беседовавший с историками, озаглавил свой материал «ненаучная фантастика»49. Приведем (с небольшими сокращениями) всего четыре высказывания, которые содержат подробный анализ «несоответствий».
Илья Будрайтскис, историк, публицист: «Если касаться того, что конкретно в каждом сериале не соответствует действительности, то таких несоответствий очень много… Незнание материала иногда настолько вопиющее, что создает ощущение умышленного троллинга. Так, в “Демоне революции” Ленин встречается с Парвусом в опере, где слушает Вагнера и плачет. Наклоняясь к Парвусу, он произносит известную фразу о “нечеловеческой музыке, слушая которую хочется гладить по головкам”. Хотя каждому советскому школьнику было известно, что эту фразу, приписываемую Горьким Ленину, последний произнес о музыке Бетховена. В “Троцком” Плеханов говорит о невозможности революции в России уже в 1902 году, что выглядит полной противоположностью его действительным взглядам. В это же время молодой Троцкий соблазняет аполитичную аристократическую красавицу Наталью Седову. На самом деле Седова на момент их знакомства была вполне убежденной социал-демократкой и, конечно, не принадлежала к высшему свету. Посещение лекции Фрейда в 1902 году так же нереально. Троцкий встречает его учеников в Вене в период своей второй эмиграции, после революции 1905 года. Верхом абсурда выглядит газета “Искра” с большой фотографией Троцкого, которую читает скучающий полицейский, охраняющий дилижанс, ставший жертвой ограбления во главе со Сталиным. Во-первых, русские социал-демократы были подпольщиками и постоянно использовали поддельные документы. Они не позировали газетам и совсем не случайно свои статьи подписывали псевдонимами. Полицейские не читали на службе запрещенную прессу (удивительно, но факт). И наконец, Сталин лично не участвовал в ограблениях, в так называемых “эксах”. И этот абсурд творится всего лишь на протяжении одной серии! Так что разбирать полностью оба сериала на предмет исторической достоверности было бы очень утомительно. И главное, оба этих сериала лживы не столько потому, что в них безбожно искажаются общеизвестные факты, но потому, что в их основе лежит антиисторическая концепция, согласно которой революции происходят лишь благодаря иностранным деньгам и честолюбивым маньякам. Могу допустить, что Эрнст или Хотиненко реально в это верят. Но это говорит гораздо больше о духе нашего времени, чем о великих и трагических событиях столетней давности».
Константин Тарасов, научный сотрудник отдела истории революций и общественного движения России, Санкт-Петербургский институт истории РАН: «Ошибки и неточности устанешь перечислять. Самое главное для обоих сериалов, что лежит в их центре и вокруг чего строится повествование (то есть деньги Парвуса для большевиков), – это фейк. За сто лет самым активным сторонникам этой версии так и не удалось найти ни одного достоверного свидетельства, указывающего на это. Серьезные историки доказали, что большинство обвинений сфальсифицировано позднее. Это главное, что делает эти сериалы по определению далекими от современного научного знания. В остальном ряд глупейших ляпов, связанных с предметами того времени, о котором идет речь. Форма солдат в “Троцком”, эмигрантская газета 1920-1930-х в “Демоне” (в одной из сцен Парвус держит в руках номер газеты “Руль”, которая появилась только в 1920-м) и тому подобное, что массовому зрителю незаметно, а историков раздражает. Я бы сказал, что весь “Троцкий” грешит встречами, которых быть не могло. Он и со Столыпиным беседует, и с Керенским. Кроме того, революционное движение выглядит как-то совершенно нелепо (может, конечно, массовки не хватало). Но, скорее всего, авторы “Троцкого” вдохновлялись современным протестным движением, нежели историческими материалами хотя бы хроники. По мнению авторов обоих сериалов, революциями управляют какие-то темные личности, этакие пиар-технологи. Фактически о причинах недовольства, о развитии революционного движения там не говорится. В “Троцком” почти все персонажи окарикатуризированы. Чего стоит Стычкин, который играет Ленина. Сам главный герой – какой-то одержимый одиночка. Хотя у Троцкого в 1917-м была своя партия, довольно влиятельная – для столицы по крайней мере. Кто-то из продюсеров сериала сказал, что он рок-звезда революции. Вот к этому образу они, вероятно, и склоняются».
Александр Резник, кандидат исторических наук, преподаватель Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге; составитель сборника «Л.Д. Троцкий: pro et contra, антология» (2016), автор книги «Троцкий и товарищи: Левая оппозиция и политическая культура РКП (б), 1923–1924» (2017)\ «Мои вопросы к сериалу “Троцкий” больше профессиональные и концептуальные, чем узко фактические и эстетические. Да, во многих отношениях это бездарная халтура, но поражает претенциозность и пафос ее творцов. За последние сто лет сформировалось множество мифов о Троцком. Мифология была и позитивная, но чаще негативная. Что мы видим в “Троцком”? Авторы просто берут самые бредовые мифы и без критической рефлексии вываливают адскую смесь на зрителя. Они в каждом из случаев произвольно меняют акценты, выдумывают невозможные диалоги, искажают язык повествования, потому что, собственно, они не понимают языка той эпохи, то, как разговаривали все эти люди и как говорил Троцкий, почему он пользовался популярностью как блестящий оратор и публицист. Получается какая-то дичь, сопоставимая с белогвардейскими и сталинистскими агитками.
Все претензии на звание исторического фильма просто смехотворны. Авторы сериала путают историю с идеологией. В их представлении революция и Троцкий в отдельности – это тупо про манипуляцию людьми. Люди – бараны, пешки. А политики – суетливые циничные негодяи. Очень злободневно! Проблема, однако, что Троцкий возглавил социальную революцию, массовое народное движение против властвующих элит. Как это объясняют авторы сериала? Троцкий просто впаривал людям лажу, разжигал низменные страсти. Да, он руководствовался идеями, высокими идеалами, как и любой фанатик, но в действительности ему плевать на всех: “Революция – это я!” Апофеозом такого взгляда служит сцена, где он в аффекте отправляет на верную смерть искренне преданного ему выходца из народа, матроса Маркина. То есть Троцкий сознательно приносит в жертву даже близких ему людей, дабы удовлетворить свою жажду власти, а потом оправдываться перед журналистом-сталинистом.
“Демон революции” устроен немного более сложно, но только на фоне “Троцкого”. Громкая претензия на достоверность присутствует, но в принципе авторы работают менее топорно, не стремятся переврать по максимуму. Идеология та же: политика и революция – это когда аморальные дельцы раскачивают лодку с помощью революционеров. Конспирологическая теория о тесном взаимодействии Ленина с Парвусом достаточно авторитетна (по крайней мере среди адептов теории заговора). В реальности Ленин не хотел иметь никаких дел с Парвусом. И этот проезд через территорию Германии в пломбированном вагоне был организован уже без участия “купца революции”, что бы там ни выдумывали конспирологи. Пытался ли Парвус использовать всю эту ситуацию для личного обогащения или нет – его мотивы нам до конца неизвестны… Ленин и Парвус в “Троцком” – это просто карикатура, издевка. Представления о “грязной политике” прошлого они черпают из настоящего, будучи не способны осмыслить историческую дистанцию».
Павел Кудюкин, историк, политолог: «“Троцкий” – это совершенно ненаучная фантастика. Например, Керенский в мае 1917 года изображен с опережением графика на два месяца как министр-председатель Временного правительства. При этом он говорит о своих товарищах по Петроградскому совету, членом президиума которого он, между прочим, был, как о придурках, которые пляшут под дудку Ленина. Замечательна сцена демонстрации в октябре 1905 года, когда несут лозунги, которых в 1905 году не было. Например, “Вся власть Советам” – лозунг 1917 года. В сериале он к тому же написан по современной орфографии. Авторы фантастически невежественны в истории, и такое впечатление, что принципиально не хотят ее знать, потому что у них другие задачи, чисто идеологические – максимально внедрить в общественное сознание конспирологическую теорию политики вообще и революции в частности. Революция – результат заговоров и действий внешних сил. Отсюда, например, появление некоего германского разведчика, который аж в 1902 году знает, что будет мировая война и что нужно найти людей, которые развалят Российскую империю. Конечно, это укладывается в генеральную линию официальной пропаганды против любых изменений, особенно изменений, которые пойдут, не дай Бог, снизу, а не сверху. Мне очень жаль создателей фильма, потому что из-за этой порочной концепции и не менее порочной установки на то, что “пипл хавает”, они не воспользовались блестящими художественными возможностями, которые дает личность и деятельность Троцкого. Фигура была незаурядная, весьма сложная, во многом неприятная, но действительно было возможно создать художественный шедевр, а они создали халтуру. Талантливые актеры выставляют какие-то картонки вместо полноценных образов»50.
Если резюмировать эти пространные высказывания в оценочных терминах, получится картина не просто нелицеприятная для авторов обоих сериалов, но уничтожительная: вопиющее незнание материала, ощущение умышленного троллинга, верх абсурда, оба сериала лживы, ошибки и неточности устанешь перечислять, в основе сериалов фейк, глупейшие ляпы, почти все персонажи окарикатуризированы, бредовые мифы, адская смесь, жаль создателей фильма: могли создать шедевр, а создали бездарную халтуру, почти всё высосано из пальца.
От более крепких высказываний, в силу их специфической резкости и ненормативности, вынуждена воздержаться.
Повлияют ли эти оценки на создателей сериалов и на телевизионное руководство? Можно определенно ответить: нет, не повлияют никак. Режиссеры высокомерно заявляют, что критику не читают, историкам не верят (они-де и между собой спорят), и дело художника – идти свои путем. И конечно, обязательно можно услышать дежурное: про неправду интереснее. И в самом деле: ложь эффектнее] она годится для более впечатляющей подачи.
Очевидно: каждый новый фильм про реальные события дает новую пищу на эту тему. «Сколько вранья в фильмах по реальным событиям?» – задались вопросом журналисты «Медузы», обсуждавшие спортивный блокбастер «Движение вверх». – Можно ли вообще снять художественный фильм по реальным событиям, ничего не выдумывая?»51.
Фильм о том, как сборная СССР по баскетболу обыграла считавшихся непобедимыми американцев на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене, побил рекорды по кассовым сборам (речь шла более чем о двух миллиардах рублей). Канал «Россия-1» ежедневно показывал счастливых, взволнованных, благодарных зрителей.
И все же: были и другие голоса.
О множестве исторических неточностей написали вдовы – игрока и тренера, и даже подавали иск (безрезультатно) о запрете распространения информации об их частной жизни. Приведу (с небольшими сокращениями) два ключевых высказывания.
Александра Овчинникова, вдова центрового игрока сборной СССР по баскетболу 1972 года Александра Белова: «В этом фильме нет правды, кроме Мюнхена и трех секунд, благодаря которым наша сборная победила, – все остальное вымысел. Мне очень не нравится, как в фильме показан Саша Белов. Там он смертельно больной человек, который отдает свою жизнь за спорт, но на самом деле Саша был очень жизнелюбивым, он очень хотел жить в спорте. Даже моя дочь, которая знает Сашу только по моим рассказам, сказала мне после просмотра фильма: “Мама, но Саша же таким не был. Почему они его показали некрасивым и больным?” Он же в фильме все время какой-то грустный ходит, падает без сознания на площадке – таким не может быть играющий спортсмен. Я не хотела, чтобы авторы фильма использовали мое имя и имя Саши, не хотела, чтобы кто-то вторгался в нашу частную жизнь. А самое главное – ведь этого всего не было в 1972 году… Там играют классные актеры: Машков, Смоляков, Башаров, – на их игру приятно смотреть, но события все равно исковерканы… Пусть Михалков снимет художественный вымысел о своей семье, о том, как его родственники смертельно больны, пьют, спят с кем попало».
Евгения Кондрашина, вдова тренера сборной СССР по баскетболу 1972 года Владимира Кондрашина: «Мы на создателей фильма очень обижены за то, что перед съемками они к нам не приехали, не спросили, хотим мы этого фильма или не хотим. Нам только показали уже готовый сценарий, который нас совершенно не устроил. В нем такие гадости были написаны, что я даже заболела после того, как его прочитала. В итоге, правда, кое-что убрали. Но Сашу Белова так и оставили больным, хотя это был расцвет его спортивной карьеры. Ведь это кощунство – показывать человека больным в лучшие его годы, зная, что спустя несколько лет после этих событий он умрет… Я подписала документ, что не хочу, чтобы в фильме использовали нашу фамилию. Думаю, сам Петрович был бы против этого. Когда он уходил из жизни, он меня попросил: “Никаких книг про меня не пиши, и никаких фильмов чтобы не снимали”. Он как предчувствовал, что если уж поставят, то напишут такое… Или же он понимал, что если написать всю правду, то не будет интересно. Я знаю, что фильм очень нравится зрителям, мне это приятно, пусть смотрят, только хотелось-то, чтобы авторы картины не искажали исторические факты. Нам сказали, что если показать всё как было, то никто в кино не пойдет, а я считаю, что все равно бы пошли. Сделайте такой сценарий, чтобы людям понравилось, а не выдумывайте ерунду»52.
Обе вдовы произнесли слова, которые высказать так прямо вряд ли отважится кинокритика, уже захвалившая картину: в фильме нет правды; этого не было в 1972 году; события исковерканы; не хотим вторжения в нашу частную жизнь; мы обижены на создателей фильма; в сценарии были гадости о нас; мы не хотим, чтобы использовали наши фамилии; не выдумывайте про нас ерунду53. «Я читала договор, – говорила вдова баскетболиста Белова. – Там написано, что после подписания договора и получения денежных средств все наши высказывания будут принадлежать этой студии, вроде как интеллектуальная собственность. Мы не имеем права в течение пяти лет высказываться плохо о фильме, а только в хвалебных выражениях»54.
Участникам проекта внушалось: если написать всю правду, не будет интересно. А чтобы быть интересным, привлекательным, нужны искажения, нужны подходящие акценты, часто весьма далекие от правды. А речь ведь идет уже не о героях многовековой давности (как в случае с Александром Невским или его современником Евпатием Коловратом55), а о наших современниках, про которых можно узнать много правдивого и подлинного.
Из образа Белова, пишет газета «Советский спорт», – «высосали максимум, представив игрока “умирающим великомучеником во имя родины”. Не советская ли система в дальнейшем “сгнобила” юное дарование отечественного баскетбола показательной поркой за контрабанду? Другим стало неповадно? А Белов умер в 26 лет, лишенный всех наград, званий и членства в баскетбольном клубе “Спартак” (Ленинград). Но в фильме он другой. Кажется, что его так и будут носить на руках вечно. К сожалению, авторы фильма и сам Никита Михалков настолько погрязли в вымыслах ради пробуждения патриотических чувств, что упустили драму, не отразили долю членов той сборной. Покажите триумф воли игроков и тренера, их сложные судьбы, травлю Белова, Дворнова, Коркии. Ведь им и без пресных бестактных вымыслов можно переживать, вспомнить о них, узнать их истории. Но тогда бы не сработала “фишка” ура-патриотизма. Ведь, как я понимаю, именно на него был “заточен” этот фильм… Лично мне полюбить ее не удается из-за того пресловутого движения вверх по “костям” и фамилиям непосредственных участников события. Некоторые мои знакомые, узнавая правду о героях, начинали чувствовать себя нагло обманутыми. А ведь среднестатистическому зрителю и невдомек, что происходило на самом деле. Так и будут думать, что в 1972 году женский баскетбол был в программе Олимпиады, а Паулаускас сбегал из сборной? Неужели победа 1972 года и ее творцы требуют дополнительных “сериальных закруток сюжета”? Я считаю, что нет. Фильм показал совсем не то, что лично я бы хотел видеть про фантастическую победу отечественного баскетбола и ту настоящую цену, что пришлось заплатить ее триумфаторам»56.
Резкое неприятие картины родственниками героев вынужден был комментировать режиссер Антон Мегердичев: «Продюсерам пришлось пойти на уступки. Так, часть сцен с участием тренера в исполнении Владимира Машкова пришлось убрать, а фамилию заменить на Гаранжина. В частности, из сценария, по словам Кондрашиной, убрали эпизод, в котором тренер спекулирует валютой, чтобы собрать деньги на лечение сына-колясочника. Однако фильм Кондрашина и Овчинникова все равно категорически не принимают»57.
И вот ключевое режиссерское объяснение: «Это непонимание жанра. Мы не можем делать блокбастер документальным. Мы не можем воссоздавать реальные события с точностью до миллиметра, как не можем показывать людей вымазанными одной положительной краской – образы будут мертвыми. Я знаю одно: если бы фильм получился правдивым до мелочей, но серым, это было бы хуже для памяти этих уважаемых людей. А сейчас каждый может сам узнать про них и про описанные события что угодно, и зрителям будет интересно про них читать»58.