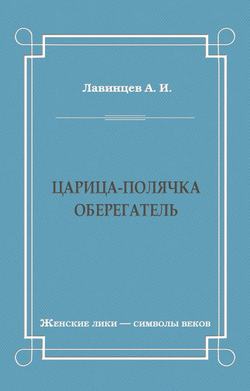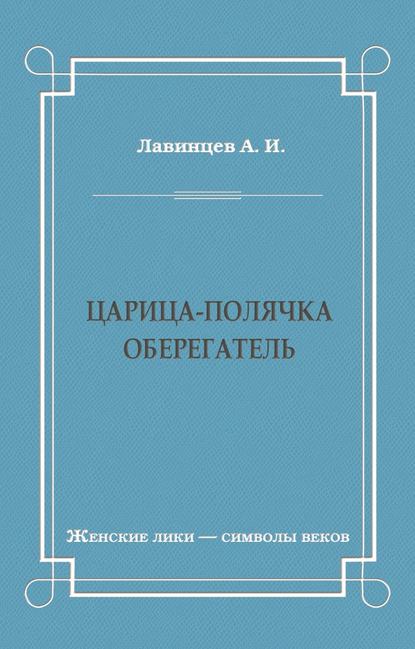Царица-полячка
I. Ганночка Грушецкая
Ранней неприветливой весной 1675 года по сквернейшему проселку от границы к пауку-Москве двигался боярский поезд.
Видно было, что пробиравшийся из пограничной глуши боярин был не из важных, так, захудалый какой-то, а если и не захудалый, то настолько обсидевшийся в злосчастной и Богом, и людьми забытой мурье, что позабыл там, в своей берлоге, как живут люди на свете. Там-то, у себя, он, каков с виду ни был, – всем и хорошим, и важным казался, хотя бы потому, что видней его во всей захолустной округе никого не было; но то, что было хорошо для мурьи, для подмосковных мест, всякие виды видавших, казалось жалким, убогим и смеха достойным.
Боярская колымага была бедная, подправленная, вершники и вся прочая поездная челядь рваные, чуть ли не в лохмотьях, лошаденки тощие, чахлые, будто овса никогда не видали. Поглядеть со стороны – просто срам один.
Однако боярская челядь как будто и не сознавала этого своего убожества. Вершники держались с наглой, вызывающей гордостью и на редких встречных проезжих так орали, требуя очистить дорогу, что у тех лошади шарахались с перепугу, а их седоки, с удивлением взглядывая на убогий поезд, только уже на большом расстоянии догадывались пустить вдогонку ему свое нелестное замечание.
Но всякое недовольство стихало, когда из возка выглядывала на встречного проезжего головка молоденькой красавицы-девушки.
Этот неважный поезд принадлежал московскому дворянину Семену Федоровичу Грушецкому, внуку польского выходца, застрявшего в Москве во время лихолетья. Его отец еще молодым человеком за какую-то дворцовую провинность был отослан Тишайшим на вотчину, то есть попал в опалу. Там, в глуши, он и скоротал свой век, и, умирая, завещал своему единственному сыну, тоже успевшему состариться в отцовской опале, во что бы то ни стало восстановить блеск рода Грушецких, еще недавно, при первых Романовых, славного и знаменитого. Но какие хлопоты ни предпринимал Семен Федорович – все было напрасно. Вокруг Тишайшего во все время его царствования так и кипели дворцовые интриги. Даже самому государю от них несладко жилось. Бояре так и грызлись, стараясь проглотить живьем один другого, и на Москве никому не было дела до сына давно позабытого чужака. Долгие годы опалы уничтожили всякую память о нем у гордых ближних бояр, а о сыне опального старика, понятно, и вовсе некому было думать.
Но в конце концов Семен Федорович, должно быть, надоел своими бесчисленными челобитными о службе царской, которые он с упорством отчаяния слал на Москву с каждой оказией. Вернее всего, только ради того, чтобы как-нибудь отвязаться от надоедливого челобитчика, ему дали в управление крохотное Чернавское воеводство. Впрочем, в том положении, в каком был Семен Федорович после смерти своего опального родителя, и это было хорошо.
Чернавск был хотя и захудалым городишком, но все-таки он был ближе к Москве, чем медвежий угол на границе Литвы, где была жалованная вотчина Грушецких, и Семен Федорович, недолго сбираясь, тронулся на свое воеводство, полный самых радужных надежд на будущее.
Он так спешил, что отправился один, даже свою единственную дочь, красавицу Ганночку, бросил на попечение мамушек да нянюшек – Грушецкий был вдов, – и только спустя порядочное время прислал приказ и дочери, нимало не медля, ехать к нему на житье в Чернавск.
Теперь дочь ехала к отцу, и именно на Ганю-красавицу заглядывались случайные встречные, если им удавалось подловить то мгновение, когда молодая девушка выглядывала из возка, чтобы подышать сырым, но чистым весенним воздухом.
И в самом деле хороша была собою Ганночка Грушецкая!
Предки-поляки передали ей типическую польскую красоту, растворившуюся в русской крови и слившуюся с русской красотой. Тонкие, словно точеные черты лица, русский здоровый румянец полымем во всю щеку, голубые с легкой поволокой глаза, нежно-золотистые волосы, непокорно выбивавшиеся кудряшками на высокий лоб, – все это было стройно-гармонично и притягивало жадный мужской взгляд, надолго оставляя по себе прочно вливавшееся в память впечатление.
Предки-поляки дали девушке и еще кое-что.
Грушецкие были герба Любеча, но вышли на Русь не так уже давно, чтобы польский дух, польский склад окончательно вытравился в них. Даже Семен Федорович, бывший по внешности уже настоящим русским, нет-нет да и проявлял кое в чем себя поляком. Единственную любимую дочь он воспитал далеко не затворницею. Да, впрочем, в той глуши, где ему пришлось прожить долгие годы, собственно говоря, и затворяться было не от кого.
Грушецкие у себя в поместье жили, как в монастыре, часто по несколько месяцев подряд не видя никого постороннего. Может быть, изнывая от тоски, Семен Федорович и задумал воспитывать дочь совсем не так, как обыкновенно воспитывались на Руси девушки того времени.
Он выписал для дочери из Варшавы через знакомых старуху-польку, вдову когда-то богатого шляхтича, и поручил ей воспитание Ганны. Конечно, старая полячка повела дело по-своему и воспитывала Ганночку на родной ей лад. Семен Грушецкий тут не жалел денег. В его берлоге появились не только разные книги, но даже довольно сносные клавесины, и отец очень любил, когда дочь начинала играть на них в длинные, скучные осенние и зимние вечера.
Войдя в девический возраст, Ганна, благодаря воспитанию на иноземный лад, была сравнительно развитой девушкой. Она умела читать и писать, бегло говорила по-польски, разбиралась в латинских книгах, имела довольно ясное понятие о жизни на Западе и даже понимала, если при ней говорили по-французски.
Впрочем, западные обычаи, вплоть до воспитания детей на новый чужеземный лад, уже успели проникнуть тогда на старую Русь. Отнюдь не было той дичи среди русских людей, какую стараются изобразить некоторые исторические писатели, откуда-то взявшие, что допетровская старая Русь была страною каких-то дикарей. Нет, этого не было. У русских была своя самобытная культура, развивавшаяся совсем правильно.
Сразу после падения татарщины началось быстрое сближение России с Западом. Начиная с царя-собирателя, везде по Европе разъезжали русские посольства. Иностранцы тоже свободно проникали на Русь, но вследствие некоторой отгороженности от начинавшего и тогда уже гнить Запада, русские люди могли брать оттуда только то, что считали хорошим, и всякая скверна огромной волной влилась в нашу многострадальную родину только после петровской ломки русского быта.
Отнюдь не была дикаркой-затворницей и Ганна Грушецкая.
Долгий, утомительный путь нисколько не нарушил ее хорошего, ровного настроения. Она, как птичка, вырвавшаяся из клетки, радовалась всему, что видела. Темные дубравы, сквозь которые им приходилось то и дело проезжать, не пугали ее, русский простор приводил ее в восторженное настроение. Однако к концу пути Ганна начала скучать.
Во все время путешествия не было никаких приключений, и Ганночка уже не с прежним интересом стала относиться к нему. Она ехала в просторном, тепло обложенном войлоками возке со старухой-мамкой, и это усугубляло ее скуку. Ее воспитательница-полячка побоялась отправиться в глубь пугавшей ее Московии, а старая мамка была такая бестолковая, что и говорить с ней было не о чем.
– Да посиди ты покойно, Агашенька! – досадливо говорила старушка, которую беспокоило, что девушка постоянно выглядывала из возка. – Ну чего ты там егозишь? Или пустырей не видала? Пожалей мои косточки старые…
– Скучно мне, мамушка, – жаловалась Ганночка.
– Скучно, так уснуть попробуй! Сон-то от скуки куда как полезен!.. А не то, ежели хочешь, я сказку тебе расскажу. Хочешь?
– Расскажи, мамушка.
И старуха принималась рассказывать, даже и не замечая, что сказка вовсе не интересует ее питомицу. Все сказки своей мамушки переслушала Ганночка, все начала и концы были известны ей, и если в них было что-либо хорошее для молодой девушки, так только то, что эти сказки скоро сон нагоняли…
И засыпала под мирный старушечий голос молодая красавица. Начинали ей сниться всяческие сны. А известно, что в раннюю весну жизни снится всякой молоденькой девушке. Сны тогда ярко-золотые: снятся юные красавцы, шепчущие дивные слова вечной любви! Редко когда такие грезы становятся явью, но – что же? – хорошо быть счастливым, хотя бы только и во сне…
II. Дорожное приключение
Ганночка, убаюканная тихим говором старухи-мамки, сладко дремала, как вдруг неприятный, резкий толчок заставил ее открыть глаза.
Возок сперва словно нырнул куда-то, потом сразу накренился набок и сразу замер на месте, как будто вкопанный. Девушка слышала кругом сердитые голоса, громкие крики, даже брань. Ржали лошади, суетились люди, и невольный страх охватил душу Ганночки.
Старуха-мамка, тоже дремавшая, мгновенно проснулась.
– Что такое приключилось-то? – далеко высунувшись из бокового отверстия возка, закричала она. – Чего стали-то?.. Волк или заяц дорогу перебежал?
– Полозье, бабушка, сломалось, – подошел к ней один из челядинцев, – вот что.
– Пришла беда нежданно-негаданно, – подтвердил слова первого другой. – И с чего бы, кажись, ломаться ему?..
– Так чего вы спите-то, окаянные? – залилась старуха. – Не зимовать же здесь на поле… Веревками, что ли, подвязали бы…
– Да, говори еще! Подвяжешь полозье веревками, – раздались протесты.
– Так как же быть, голубчики? – смирилась мамка, чувствовавшая, что Ганночка дергает ее сзади за полы кацавейки. – Вы надумали бы там что-нибудь такое…
– А только то и надумать можно, – подошел старший из челядинцев, – чтобы кому-нибудь из нас на деревню скакать и кузнеца приволочь, ежели запасного полозья не раздобудем!
– А мы-то как? Здесь сидеть должны?
– Придется, ничего не поделаешь!..
– Ай, мамушка! – тихо вскрикнула слышавшая весь этот разговор Ганночка. – Да неужели же среди лесу останемся?.. Страшно-то как!
– Не бойся, глупенькая, не бойся! – поспешила успокоить свою питомицу старушка, хотя и сама-то не на шутку струхнула. – Ежели и придется, так не одни будем… Вон сколько народа… Да и страшного ничего нет! Столько времени ехали, все Бог миловал, и теперь все ладно обойдется. Не пешком же тебе идти, да и то неведомо куда… А что, Гаврилка, – опять высунулась старуха из окна, – может, какая ни на есть деревня близко?
– А кто ее знает, – лениво ответил холоп, – нам эта сторона совсем неведома… Мы здесь чужедальние…
Он медленно побрел от возка к кучке товарищей, совещавшихся на дороге впереди поезда.
– Нет, видно, ничего тут иного не придумаешь, как поехать вперед да поискать, нет ли жилья какого…
– Видно, что так, – согласились некоторые с этим мнением, – лошади поотдохнут; экую ведь путину без подставы с утра сломали…
– А есть ли какое жилье впереди-то поблизости? – полюбопытствовал один из кучеров. – Может, тот, кто поедет, даром проплутает только…
– Так не назад же ехать! – раздались возражения. – Вперед хоть что-нибудь, хоть избенка какая ни на есть попадется, а назад чего искать? Последнее жилье в полдень видели; почитай, верст двадцать назад переть придется, да потом опять сюда столько же…
– Вестимо вперед, – поддержал мнение большинства старший из холопов-вершников, на котором лежала вся ответственность перед Семеном Федоровичем Грушецким за благополучие в пути. – Да постой, ребята, – воскликнул он, – вон чего-то Федюшка бежит… колпаком машет и орет что-то… беги, милый, беги сюда скорей!
По дороге, плохо наезженной и ухабистой, бежал подросток, действительно спешивший к старшим с какими-то вестями.
– Эй, дяденька, – кричал он, – тут и опушка близко, а дальше поле идет, да такое, что глазом не окинешь…
– Ну, вона чем утешил! – недовольно проворчал старик. – С такими вестями и бежать сломя голову не стоило!
– Да погоди, дяденька, не все еще сказал, – прервал его Федор. – На опушке-то изобка стоит, а в изобке кто-то живет, дым курится…
– А-а, вот это – дело! – заволновались челядинцы. – Молодец, Федюшка! Боярышню нашу, раскрасавицу писаную, к теплу пристроить можно… Все не под небесами ждать ей придется.
Ганночку все близкие к ней и ее отцу – вся челядь, вся дворня – любили. Ко всем была ласкова молодая девушка, для всех находилось у нее доброе слово, и ради этого все были готовы пойти за свою любимицу не только в огонь, но и в самое пекло.
Поэтому и теперь известие, принесенное Федюшкой, обрадовало всех этих людей, сильно встревоженных тем, что любимицу-боярышню на время поисков подмоги пришлось бы оставить в возке неизвестно на сколько времени.
– И хвалить, дяденька, не нужно, – рассыпался Федюшка, – что приметил, то и говорю…
– За то хвалят, что догадлив ты, парень, вот что! – высказал новую похвалу старик. – Мы вот тут на одном месте топчемся, а ты, недолго думая, слетал, осмотрел все и нас на новые мысли наводишь.
– Да ты что там, Серега, балясы точишь? – раздался со стороны возка сердитый оклик старухи-мамки. – Ты бы лучше дело делал, а наговориться и после успеешь… Ежели есть поблизости какое ни на есть жилье, так Ганночка да я и пешком туда доберемся…
Мамка и Ганночка, заслышавшие радостные крики, сами выбрались из возка и теперь подходили к кучке холопов. Те почтительно расступились перед дочерью своего господина.
– Ты, матушка, – заговорил старик Сергей, обращаясь к девушке, – повременила бы малость; спервоначалу посмотреть нужно, кто в изобке той живет.
– Кто? Уж, верно, крещеные, – затараторила старуха, – в этой стороне о нехристях и не слышно… И не изволь, Серега, препираться! Проводи-ка нас с Ганночкой вперед, все сразу и посмотрим, как и что! Идем, что ли, голубка моя сизокрылая? – обратилась она к девушке, теперь уже не чувствовавшей страха, а даже радовавшейся этому небольшому дорожному приключению, доставившему ей возможность поразмять ноги прогулкой по лесу. – Идем, милая, скорей! – добавила мамка и первая побежала вперед.
Холопам оставалось только повиноваться, и все вершники, ведя на поводу коней, последовали за боярышней.
Идти им пришлось недалеко, немного более полуверсты, и, пройдя эту недолгую дорогу, путники очутились перед небольшой, но весьма ладной на вид избушкой, стоявшей действительно на краю огромного, только что пройденного поездом леса, перед необозримым пустынным полем.
Едва они подошли к низенькому крылечку, как двери сеней растворились и на крыльце появилась высокая, далеко еще не старая женщина, удивленно смотревшая на подходивших.
Одета она была в крестьянский тулуп, а ее голову покрывал редкий тогда в России шалевый турецкий платок, из-под которого выбивались пряди непокорных черных волос.
III. Таинственное жилье
Женщина ни слова не произнесла даже тогда, когда подходившие путники были совсем близко от нее, и лишь с любопытством смотрела на них, в особенности на закутанных с ног до головы женщин.
Ганночка тоже глядела на незнакомку из-под платка, глядела с восхищением – такою красавицею показалась она ей. Но глаза этой молчаливой женщины были особенные. Их взгляд, казалось, обладал каким-то невидимым острием и так и впивался в того, на кого был устремлен. По крайней мере молодая девушка почувствовала себя как-то неловко, когда женщина на крыльце вдруг уставилась на нее. Ее взгляд словно жег Грушецкую, и она, не в силах вынести его, невольно потупилась и в то же мгновение услышала, что глядевшая с крыльца женщина засмеялась.
Должно быть, и старуха-мамка тоже почувствовала некоторую неловкость. Она громко запыхтела, закряхтела и воскликнула:
– Тьфу, тьфу, тьфу, чур меня, чур! Что за ведьма явилась? Сгинь, сгинь, рассыпься, ежели ты не от мира сего.
Но это не подействовало. Женщина на крыльце продолжала смотреть своими огромными лучистыми глазами на путников, как будто дожидалась, чтобы кто-нибудь из них заговорил с нею.
Однако, когда старый Серега, почтительно сбросив с головы колпак, начал спрашивать, нельзя ли побыть в дому боярышне с мамкою, а на задворках приткнуться их обозу, пока не будет починено сломавшееся полозье, незнакомка, внимательно выслушав его, вдруг громко-громко расхохоталась и кинулась назад к крылечным дверям.
Это было так неожиданно, что путники даже и не заметили, как она исчезла, и только расслышали громкое хлопанье двери.
– Наваждение дьявольское! – так и взбеленилась старушка-мамка. – И впрямь ведьма! Или просто ума рехнулась?..
– Постой, мамушка, – серьезно и даже несколько строго остановил ее Сергей, – может, она кого другого вышлет к нам. Чего ерепениться раньше времени? Ведь худа она нам никакого не сделала, а ежели хохочет, так пусть себе на здоровье, должно, что глупенькая.
– Уж глупенькая там или умненькая, – не унималась старушка, – а негоже боярышне здесь оставаться… Может, тут воровской притон…
– Гоже или негоже, – опять серьезно сказал старик, – а придется остаться, ежели идти больше некуда. А насчет воров тоже бояться нечего: нас немало, да и не с голыми руками мы… А-а-а, вот еще кого-то Бог дает.
Дверь на крыльце опять распахнулась, и путники увидали на нем безобразную старуху, выпорхнувшую перед ними так же неожиданно, как неожиданно скрылась молодая женщина.
Эта старуха была действительно безобразна. Ее лицо было темно, почти черно; длинный нос, слегка загнувшийся крючком, придавал ей вид хищной птицы. На ней был ярко-красный, совсем не по-русски, концами назад, повязанный платок, а на плечах накинута суконная, с громадными медными пуговицами безрукавка, тоже невиданного в то время на Руси покроя.
– Ведьма, совсем ведьма, – закричала неугомонная мамушка и начала торопливо креститься. – Идем, Агашенька, назад, не место нам тут!
– Молчи, божья старушка! – уже сердито крикнул Серега и, смело поднявшись на крыльцо, вступил в объяснение.
Ганночка тоже испугалась, когда увидела эту безобразную женщину, но ее испуг быстро сменился любопытством; притом же и подвечерний холодок давал себя знать, и девушке хотелось забраться в тепло, сбросить тяжелые меховые одежды, растянуться на лежанке и отдаться сладкой неге и дремоте. По лицу Сергея она видела, что переговоры идут вполне удовлетворительно, и радостно заметила, что старый преданный челядинец наконец махнул им колпаком, приглашая этим подняться на крыльцо.
– Ну идем, что ли, Агашенька, – недовольно проворчала мамка. – Делать нечего – и впрямь, куда деваться, ежели другого приюта нет. Только ежели что, так Серега и будет в ответе, а не я…
Старушка, тоже прозябшая и в душе очень довольная, что есть возможность побыть в тепле, смело взошла первою на крыльцо. Ганночка последовала за нею; позади них пошли сопровождавшие их вершники, любопытство которых тоже было пробуждено этим таинственным жилищем и этими таинственными женщинами.
– Не бойся, мамушка, ничего, – шепнул старушке Серега, когда та была на крыльце, – живет тут туркиня одна, полонянка – это молодая-то, а старуха при ней – вот как ты при боярышне. Они одни и живут и добрым гостям обрадовались…
– Ну-ну! – проворчала старуха. – Уж и как бы они не обрадовались? Ведь, чай, не простые смерды к ним припожаловали, а воеводская дочь.
Путники стояли уже в обширных сенях таинственного дома. Было темно, но уже чувствовалась живительная теплота. Но вот наконец распахнулась какая-то невидимая среди тьмы дверь, и сразу просветлело. На пороге стояла прежняя старуха и жестами звала гостей идти за нею. Окончательно набравшаяся храбрости мамушка, ухватив Ганночку за руку, двинулась вперед, все-таки крикнув:
– Серега, не отставай!
Перешагнув порог, все трое очутились в просторной горнице с большими, опять-таки необычными для русских жилищ того времени окнами. Стены горницы были увешены роскошными персидскими коврами, а ее меблировка тоже была необычная для русских: преобладали низенькие мягкие тахты и только в одном углу стояли русские широкие скамьи да большой стол, покрытый золототканой скатертью.
За столом, когда в комнату вошла Ганночка с мамкой, сидел молодой человек в русском кафтане, богатом, нарядном «и свидетельствовавшем, что этот человек был не какой-нибудь простец. Ганночка, входя, уже бросила мимолетный взгляд на него, и этот молодец за столом показался ей прямо-таки красавцем. Да и в самом деле он был очень красив, но общее выражение его лица было какое-то мрачное – не злобное, а именно мрачное, суровое, и это портило впечатление, производимое и его правильными, словно точеными чертами лица, и глубокими черными, то и дело поблескивавшими глазами. Когда Ганночка взглянула на него еще раз попристальнее, то он уже не понравился ей, и какой-то смутный страх, как предвестник будущих невзгод, вдруг проник в ее душу.
- Елизавета I, королева Англии
- Ипатия
- Эсфирь
- Несравненная Жозефина
- Кавалерист-девица
- Боярыня Морозова. Княгиня Елена Глинская
- Изабелла Баварская
- Жрица Изиды
- Актея – наложница императора
- Шарлотта. Последняя любовь Генриха IV
- Опимия
- Сивилла – волшебница Кумского грота
- Валерия. Триумфальное шествие из катакомб
- Салтычиха
- Казнь королевы Анны
- Царица-полячка. Оберегатель
- Присцилла из Александрии
- Тайны Марии-Луизы
- Ее величество королева
- Луиза де ла Порт (Фаворитка Людовика XIII)
- Ксения Годунова. Соломония Сабурова. Наталья Нарышкина
- Королева Виктория
- Гетера Лаиса (Под солнцем Афин)
- Невестка Петра Великого (сборник)
- Людовик и Елизавета
- Вельможная панна. Т. 1
- Аврелия
- Евпраксия
- Герцогиня и «конюх»
- Трагедия королевы
- Анна Павлова. Жизнь и легенда
- Куртизанка Сонника
- Белые и черные
- Маргарита Валуа: Прелестная ювелирша. Любовница короля Наваррского
- Красная королева
- Марфа Васильевна. Таинственная юродивая. Киевская ведьма
- Графиня Дарья Фикельмон (Призрак Пиковой дамы)
- Тайна Царскосельского дворца
- Тайна королевы Елизаветы
- Весенняя песня Сапфо
- Графиня Козель