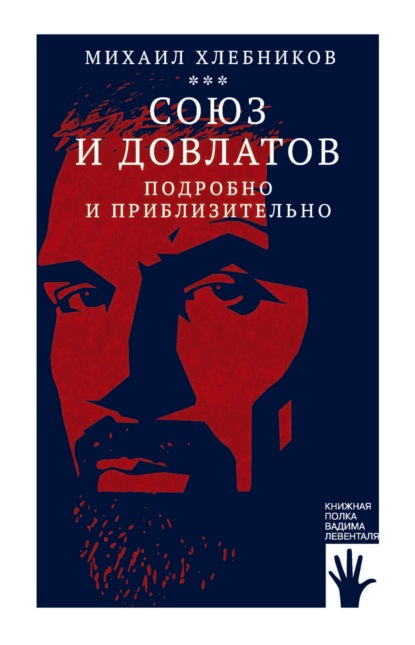Еще несколько месяцев, несколько лет, и нам будут рассказывать истории, у которых не будет ни начала, ни конца, никто ничего не будет помнить. Подлинные свидетели умрут или превратятся в маразматиков либо будут кем-то завербованы.
Убивать молчанием или писаниной – боюсь, что в этом и заключается великая работа нашего времени.
Л. Ф. Селин
Елене

© М. Хлебников, 2021
© ИД «Городец», 2021
© П. Лосев, оформление, 2021
Пролог
В истории литературы есть отдельные сюжеты, которые со временем укрупняются, превращаются в нечто большее, чем виделось в момент возникновения. Отдельные точки соединяются в линии, которые причудливо изгибаются – возникает рисунок. Завязка одного из них в литературном скандале, произошедшем в 2001 году. Тогда в издательстве «Захаров» вышел «Эпистолярный роман». За игривым названием скрывалась переписка Сергея Довлатова с Игорем Ефимовым. Игорь Захаров, глава одноименного издательства, сокрушался в предисловии к «роману»:
Трудно поверить, но два с лишним года эта книга не могла найти своего издателя – многих смущала «обидная неправда про живых людей, порой – и обидная правда, а иногда – прямая клевета, на которую Довлатов в художественном азарте был вполне способен».
Как вскоре выяснилось, «смущение» издателей объяснялось несколько другой причиной – прямым запретом на публикацию переписки двух литераторов со стороны наследников Довлатова. Логичным продолжением запрета стал судебный процесс, который издательство проиграло.
Самый яркий отклик на «роман» – статья Виктора Топорова «В два смычка, или В литературе некрофилия ненаказуема?». Уже начало ее не может не вызвать живого читательского интереса: «В рецензируемой книге достигнуто редкое даже для культурного слоя единство: паскудство замысла полностью соответствует паскудству исполнения». Вывод: Ефимов банально привлекает к себе внимание публики, явно несоразмерное степени его писательского дарования: «Для Ефимова это, наверное, не столько месть, сколько претензии на собственное место в литературе. Претензии явно несостоятельные». Говоря о мести, автор статьи имеет в виду конфликт между корреспондентами, собственно поставивший точку в их десятилетней переписке, но не в диалоге как таковом.
Нужно отметить, что оттенки скандальности, зрелого абсурда, которые так ценил Довлатов, прослеживаются во многих крупных текстах, так или иначе связанных с его именем. Еще до выхода «Эпистолярного романа» значительный вклад в нарождающееся довлатоведение вносит Михаил Веллер, написавший роман «Ножик Сережи Довлатова». Журнальная публикация состоялась в июньском номере «Знамени» за 1994 год. Похвальная оперативность объясняется спецификой общения Веллера с писателем. Мемуарист разговаривал с Довлатовым по телефону. В романе воспроизведены два диалога, поэтому с высокой долей вероятности можно предположить, что и общее количество разговоров не превышало названного числа. Содержание самих диалогов вызывает смешанные чувства. Веллер в то время – редактор отдела русской литературы эстонского журнала «Радуга». Не могу не привести прекрасное высказывание мемуариста:
Гордо заведовал отделом русской литературы, состоящим из меня одного. В этом есть свои преимущества: когда хоть где-то русская литература состоит из тебя одного.
Прошедшие годы вымыли следы иронии, сегодня Веллер просто и с достоинством принимает факт своего вершинного одиночества. Ну а тридцать с лишним лет тому назад редактор журнала обращается к Довлатову по поводу публикации, точнее, републикации, его рассказов:
– Слушаю, – ответил мрачный и сиповатый русский голос без всяких признаков американской гнусавости и картофельного пюре во рту.
– Сергей Донатович? – осведомился я.
– Совершенно верно.
– Эстония беспокоит. Таллинн.
– Хо-о! – сказал Довлатов.
– Такой русский журнал «Радуга».
– М-угу.
– Мы тут хотим напечатать ваши рассказы. В общем просто обязаны. Как-никак Таллинну вы человек не вовсе чужой.
– Уж как же!..
– Так если вы не против.
Довлатов дает разрешение, предлагая в ходе общения называть его Сергеем. Веллер приступает к редактированию – причине его второго разговора с писателем. Обсуждается первое замечание – число патронов в магазине АКМ. В тексте Довлатова говорится о шестидесяти патронах. Редактор поправляет: магазин вмещает только тридцать патронов. Довлатов соглашается с замечанием:
– Дальше, – спросил Довлатов без излишней приветливости.
– Второе и последнее, – поспешил заверить я и готовно добавил: – Здесь я не буду настаивать. Понимаете, ненормативная лексика – вещь такая, спорная… Но мне кажется, что слово «гондон» правильнее писать через «о», а не через «а». Как бы образование разговорного просторечия по аналогии литературному «кондом», который через «о». Это, конечно, дело слуха, в препозиции стоит редуцированный, но в принципе формальное расподобление при сохранении внутренней семантики идет именно по такому пути.
В общем, на этом все общение закончилось. Сложно сказать – где оно начиналось. Веллер, «гондон» пишущий согласно правилам, очень быстро осознает, что Довлатов не дотягивает до классика: «Стал читать Довлатова и пришел к выводу, что такую прозу можно писать погонными километрами». Но мемуарист почему-то вместо творческого подсчета верстовых столбов поделился своим открытием со своим коллегой – заведующим отделом прозы журнала «Нева» Самуилом Лурье. Тот отреагировал правильно, подтвердив правоту Веллера:
– Господи, да конечно все это полная— радостно сказал Лурье. – Ну, сделали имя, играют в эти игры, сами, понимаете, в это нисколько, конечно, не верят, а если кто и верит – так это уже просто полные… Мы-то с вами прекрасно понимаем, что никакая это не литература, разная, понимаете…. о своей жизни, так кто из нас не может бесконечно писать таких историй.
Конечно, тут можно сослаться на «касательность» отношений между Веллером и Довлатовым. Да и есть один момент, утяжеляющий общение. Довлатов успел прочитать сборник рассказов Веллера и отозвался о нем в одном из писем:
Что делается с сов. литературой? У нас тут прогремел некий М. Веллер из Таллинна, бывший ленинградец. Я купил его книгу, начал читать и на первых трех страницах обнаружил: «Он пах духами» (вместо «пахнул»), «продляет» (вместо «продлевает»), «Трубка, коя в лавке стоит 30 рублей, и так далее» (вместо «койя», а еще лучше – «которая»), «снизошел со своего Олимпа» (вместо «снизошел до»). Что это значит? Куда ты смотришь?..
Веллеру отзыв «Сережи», напечатанный в газете «Петербургский литератор», доброжелатели оперативно зачитали по телефону (тут можно прокинуть параллель с эпохальным общением самого Веллера с заокеанской «покойной скотиной» – определение М. В.). Разочарованность имеет, как видим, несколько личный характер. Но мы вправе рассчитывать на то, что мемуарный продукт с использованием ингредиентов, практически идентичных натуральным воспоминаниям, – «казус Веллера» – понятен. Другая картина должна возникнуть при чтении воспоминаний настоящих друзей Довлатова или тех, кто, по крайней мере, его хорошо знал.
Евгений Рейн в 1997 году выпустил книгу «Мне скучно без Довлатова». После ее прочтения по-настоящему затосковать мог читатель, купившийся на название и купивший книгу. Из трехсот страниц мемуаров Довлатову были посвящены две небольшие ритуальные главы – два десятка абзацев – с ритуально же «прочувствованными» строками:
Я сразу же обратил внимание на очень высокий профессиональный уровень этих рассказов. Это были не смутные разодранные клочки, нет, сюжет проводился изобретательно и отчетливо, характеры обозначались ясно и ярко, реплики стояли на точных местах, были доведены до афоризма, гротеска, пародии.
Сам автор, явно не скучая, «ясно и ярко», рассказывал о том, что его действительно волновало: еда, одежда, кино, встречи со знаковыми людьми. Не без «изобретательности» главные темы переплетаются:
Вошел Пастернак.
– Пойдемте на кухню.
Кухонька оказалась совсем тесной. Мы втроем еле-еле поместились. На столе стояла огромная, по-моему еще дореволюционная, сковорода. И в ней – такая же большая глазунья. Я не поленился – сосчитал желтки. Их было девять.
– Вы знаете, какой у меня в ваши годы был аппетит? Ого! – сказал Пастернак.
Целиком нарезанный кирпич белого хлеба лежал в соломенной хлебнице. На плите кипел чайник, на нем подогревался заварочный.
– Кладите побольше сахара, сахар нужен для питания мозга, он укрепляет память. Как у вас с памятью?
– По-моему, все в порядке, – сказал я и прочитал пастернаковское стихотворение «Здесь прошелся загадки таинственный ноготь…»
Как видим, с гротеском и пародией у Рейна также все неплохо, за исключением вопроса о степени осознанности в использовании этих приемов. Понятно, что название книги – маркетинговый ход. Довлатов к тому времени приобрел огромную читательскую любовь, которую не грех было использовать и немного поскучать.
Уже после «Эпистолярного романа» наших читателей порадовал другой знатный довлатовед – Валерий Попов. Известный петербургский писатель выпустил книгу в серии «ЖЗЛ». Несмотря на респектабельность издания, выход книги был отмечен разборками с наследниками писателя. Нужно сказать, что Попов попытался справиться с нетривиальной задачей – превратить биографию Довлатова в рассказ о другом выдающемся писателе.
К самому Довлатову Попов относится диалектически двояко. Ему он явно нравится в доэмигрантский период. Неудачник, алкоголик, которого биограф ласково так журит: «Эх, зачем же так напиваться – нехорошо. Портвешок с водярой смешивать». Довлатов изводится от невозможности напечататься, а ему в ответ с мурлыкающими интонациями нараспев: «И у писателя Попова не все сразу получалось». В общем, кот Матроскин пишет биографию. Но постепенно возникает такая зримая нехорошая картина, объясняющая «авторскую сверхзадачу». Попов цепко приобнимает Довлатова за талию, потихоньку подталкивая его бедром: «Подвинься, Сережа, дай людям и на других посмотреть». И показывает. Себя. Пример. Довлатов готовится к эмиграции, это факт, но есть и факт, что у писателя Попова выходит первая книга прозы. И ясно, какое событие для автора важнее. Вторая часть книги, отведенная эмигрантским годам жизни писателя, является развернутым ответом на вопрос: «Почему Сережа стал популярным, хотя не совсем этого заслуживает?». Перед нами теперь не симпатичный автору невротик, профессиональный неудачник, но Терминатор, неумолимо марширующий к успеху. Начинает мелькать: «дружил с нужными людьми», «провел удачную рекламную акцию», «участвовал в престижных конференциях», «влез в доверие к издателю». И, естественно-неизбежное: «Плюнул на старых друзей». Читатель, конечно, догадывается, о ком идет речь. Попов умудряется разглядеть какой-то тонкий расчет в запоях писателя. Создается впечатление, что и смерть Довлатова – ловкий рекламный ход с его стороны. Тем более, что к концу жизни, как нам объясняется, Довлатов все равно исписался. Что уж тут жалеть. Да и крупных вещей писать не мог, роман – откровенно неудачен, повести «не центрированные». Я удивлен, что Попов не стал в конце издания приводить список собственных сочинений – десятков «центрированных» повестей и романов. Стилистически текст «центрированного автора» неряшлив.
Не думаю, что он, находясь в Ленинграде, даже в случае благополучно сложившейся судьбы, мог называть даже про себя Владимова, автора нашумевших «Трех минут молчания» и «Верного Руслана», запросто и непринужденно Жорой, а Максимова – Володей. Тут, с высоты нью-йоркских небоскребов он делал это как-то естественно, невзначай – и слегка даже поучающе…
Еще раз: «с высоты нью-йоркских небоскребов поучающе называл Жорой и Володей». Есть и обороты в духе зрелого Зощенко: «Мы молча обнялись, даже слегка поцеловались. Ничего больше сказать я не мог». Промолчим, наверное, и мы.
Глава первая
Как видим, авторы, пишущие о Довлатове, зачастую не свободны – давайте смягчим – от честного писательского эгоцентризма. Но есть попытки разговора о писателе, в центре которого находится фигура самого Довлатова. В сентябрьском номере журнала «Звезда» за 2020 год напечатана статья Александра Мелихова «Очаровательный странник». Как понимаю, публикация есть вариант юбилейного текста, так как совпадает с печальной датой – тридцатилетием со дня смерти писателя в августе 1990 года. Начинается она, как и положено, с признания заслуг автора:
Сергей Довлатов – писатель культовый: его поклонникам он дарит не просто эстетические переживания, до которых есть дело лишь сравнительно узкому кругу ценителей изящного, но – уроки жизни. Он создал обаятельнейший образ беспечного странника, который, словно сказочный Иванушка, и в огне не горит, и в воде не тонет. Ведь самое тягостное в реальном мире – это вечная необходимость быть серьезным и предусмотрительным, а Довлатов создал мир, в котором легкомыслие не карается так жестоко, как в реальности. Еще бы нам не любить этот мир и его творца!
Затем, используя известную ахматовскую метафору, Мелихов предлагает посмотреть: из какого сора вырастает проза Довлатова? А для этого он возвращается к ссоре между Довлатовым и Ефимовым, отраженной в уже знакомой нам переписке. Большая часть текста Мелихова – обильное цитирование переписки. Но проблема не в этом. Цитируются важные и нужные места, но им не даются необходимые, на мой взгляд, толкования. Выводы, к которым приходит Мелихов, трудно назвать оригинальными:
Да, дело искусства – не только раскрывать, но и скрывать от нас ужас и безобразие реальности; не пряча, но преображая страшное в красивое, а противное в забавное. Красота – это жемчужина, которой душа укрывает раненое место, и если под ней нет подлинной раны, не будет и подлинной красоты.
Да, Довлатов ценил банальности, но все же в отточенном виде.
Тем не менее обращение к переписке может дать ключ к пониманию писательства Довлатова. Здесь скрывается одна из загадок. Довлатов много писал о себе, при этом «код писательства», сделавший его личность и книги такими популярными, так и остается нерасшифрованным. Еще в античности использовали прием параллельного жизнеописания, когда «парность» позволяла не просто сопоставить, сравнить отдельные эпизоды в биографии героев, а уловить в оттенках нечто выходящее за пределы конкретных судеб. Я отталкиваюсь от переписки двух писателей еще и потому, что поставленная в ней точка превратилась со временем в многоточие. Разговор, формально завершенный, был продолжен в книгах Игоря Ефимова. Особое место среди них занимает автобиографическая дилогия «Связь времен», вышедшая в 2011–2012 годах. Дополнительным связующим элементом можно считать тот факт, что дилогия выпущена все тем же издательством «Захаров».
Начну с тезиса, озвученного Игорем Захаровым в уже цитированном предисловии:
Ровесники, земляки и старинные приятели, Сергей ДОВЛАТОВ и Игорь ЕФИМОВ еще в 60-е годы были участниками ленинградской литературной группы «Горожане».
Уже первое слово – «ровесники» – вызывает отторжение. И дело не в том, что Игорь Ефимов родился в 1937 году, а Довлатов – в 1941-м. Их разделяют не просто четыре года, величина условная при других раскладах. Писатели принадлежат к разным эпохам. Ефимов – автор, пришедший на гребне оттепели и принадлежащий… Теперь дадим слово, как ни странно, Сергею Довлатову. В повести «Ремесло» он рисует свой непростой путь в литературу. Один из первых заходов связан с попыткой получить одобрение от состоявшихся литераторов:
Я должен был кому-то показать свои рукописи. Но кому? Приятели с филфака не внушали доверия. Знакомых литераторов у меня не было. Только неофициальные.
Среди «неофициальных», но состоявшихся – Анатолий Найман, автор «замечательных стихов», «друг Ахматовой и воспитатель Бродского». Предположу, что Бродскому, который после эмиграции перешел на «вы» со всем ленинградским окружением, подобная характеристика вряд ли сильно нравилась.
Снова отвлекаясь, скажу, что в «других руках» прием получения одобрения работал. Вот Сергей Вольф, к которому безуспешно обращался Довлатов (об этом поговорим несколько позже) с той же самой просьбой – «прочитать и оценить», сам грамотно использовал или даже создал ситуацию «правильного вхождения в литературу». О нем с симпатией пишет знакомый нам Валерий Попов в своей книге без картинок:
Путь Вольфа в литературу был очарователен, хотя, быть может, и чересчур легковесен. Он рассказывал, как, приехав в Москву, сразу нашел в «Национале» Юрия Олешу, и они тут же подружились.
Олеша – доступный классик «второго ряда», который все же мог с кем-то познакомить или отрекомендовать. Интересно, что, воспользовавшись дорогой, проторенной Вольфом, к Олеше целенаправленно отправилась уже целая группа молодых ленинградских поэтов в составе Дмитрия Бобышева и Евгения Рейна. Про группу я не оговорился – только один Рейн тянул на небольшой, но яркий поэтический коллектив. Бобышев в мемуарах воспроизводит эпохальную встречу:
Открывает изящная пожилая женщина в ярком халате с чертами мелкими, но точно набросанными на ее лице колонковой кистью Конашевича – Суок! Пропускает нас в кабинет.
– Студенты из Ленинграда. Как вы сами назначили.
Сам он стоит посреди пыльных рукописей и наслоений журналов – в брюках с подтяжками прямо на нижнюю рубашку: рост небольшой, взгляд колкий, брюшко косит вправо, к печени.
Вчера мы познакомились с ним в «Национале», куда я входил не без робости – место было шикарным, но обстановка в зале оказалась нисколько не натянутой. Мастер был весел и нас вычислил сразу:
– От вас приезжал этот, как его, Вольф.
– А, Сережа! Ну, как он вам понравился?
– Талантлив. Великолепно девок описывает! Каку него там?
«Во время танца она профессионально, спиной, выключила свет».
– Мы хотели бы почитать вам стихи.
– Я стихов давно не пишу да и не читаю. Впрочем, приходите завтра ко мне, поговорим.
– В какое время?
– В восемь утра.
Бобышев и Рейн приходят на встречу, но историческое свидание срывается – Олеша убегает по своим делам. Два молодых поэта не унывают и решают «бить по площадям», точнее, по лестничным площадкам. Благо дом писательский и тут же в подъезде обнаруживается еще один неплохой вариант для исторического вхождения в литературу – сам Пастернак. Друзья решительно стучат в дверь. Описывая вторую эпохальную встречу за одно утро, Бобышев сурово критикует своего друга за неточность в его воспоминаниях. Пастернак вовсе не кормил их исполинской яичницей. Она присутствовала, но щедрым хозяином был не автор «Доктора Живаго», а Владимир Луговской. Понять «забывчивость» Рейна можно. В девяностые годы рассказ о том, как тебя накормил Пастернак – эпизод, наполненный глубоким смыслом и значением. Яркие желтки – «солнце русской поэзии» и прочие приятные толкования. Гостеприимство же порядком подзабытого советского поэта Луговского не несет в себе должного символизма.
Повторю, что прием был действенным и приносил свои результаты: от рекомендаций для публикаций как максимум до материала для написания мемуаров как минимум. Снова из Бобышева:
Например, кто такой Назым Хикмет? Без труда, хотя и не без гримасы, вспоминалось: сталинский лауреат, «прогрессивный» поэт, бежавший из турецкой тюрьмы, куда он был заключен за пламенную любовь к товарищу Сталину и к поэзии Владимира Маяковского.
А кто такой Лев Халиф? А вообще никто, квадратный корень из минус единицы, то есть мнимая величина, поясним это для тех, кто не кончал Техноложки… Но вот Хикмет написал о Халифе в «Литгазете» заметку «Счастливого пути!», там же поместили портрет брюнетистого молодого человека, несколько неплохих стихов – и дело заиграло! Халиф стал знаменитостью (так и подмывает сказать «на час»), вошел победителем в ресторанный зал ЦДЛ да и остался там безвылазно на полжизни.
Довлатов подобной методы избегал. Наверное, во вред себе. О причинах этого мы еще будем говорить. Пока что он обращается к «автору замечательных стихов» с просьбой «оценить».
Довлатов, пользуясь возможностью, регулярно относит Найману рассказы. Найман предпочитает беседовать на общекультурные темы. Наконец он «дает отзыв»:
Прочел с удовольствием. Рассказы замечательные. Плохие, но замечательные. Вы становитесь прогрессивным молодым автором. На улице Воинова есть литературное объединение. Там собираются прогрессивные молодые авторы. Хотите, я покажу рассказы Игорю Ефимову?
– Кто такой Игорь Ефимов?
– Прогрессивный молодой автор.
Здесь все точно и правдиво. Ефимов – «прогрессивный молодой автор». Само понятие «молодой прогрессивный автор» появляется в советской литературе в период оттепели. При всей его размытости в нем можно выделить несколько основных элементов. Во-первых, это освоение западной прозы: Ремарка, Хемингуэя, Сэлинджера. Во-вторых, следствием освоения выступает демонстрация «выполненного домашнего задания» в самой прозе «прогрессивных молодых…»: снижение пафоса, ирония (зачастую натужная). В-третьих, трансформировался образ главного героя: декларировался отказ от одномерно-положительного персонажа, который отныне «сомневается и ищет». Авторы знаковых текстов «молодежной прозы» – Гладилин, Аксенов, Владимов – очень быстро приобрели популярность. Журнал «Юность», на страницах которого печатались многие их вещи, воспринимался как символ той самой «прогрессивной молодой прозы».
Проблема в том, что поход на улицу Воинова как способ вхождения Довлатова в литературу был изначально обречен на провал. С одной стороны, ко второй половине 1960-х «молодежная проза» практически полностью исчерпала себя, уложившись в «славное десятилетие». Напомню, в 1956 году в «Юности» публикуется «Хроника времен Виктора Подгурского» Анатолия Гладилина. В следующем году выходит «Продолжение легенды» Анатолия Кузнецова. Потом следует «юношеский забег» Василия Аксенова: «Коллеги» (1960), «Звездный билет» (1961), «Апельсины из Марокко» (1963). Весь яркий, но не слишком богатый писательский потенциал «молодежной прозы» в концентрированном виде был представлен в названных текстах. Процесс необходимого взросления культовых авторов «Юности» принимал различные, самые драматические формы. Радикальнее всех поступает Кузнецов. После не слишком успешных попыток найти себя в прозе о рабочем классе (роман «Огонь») и семейных неурядиц писатель, «обнуляя судьбу» в 1969 году, будучи в Англии, отказывается возвращаться из творческой командировки. Анатолий Гладилин, так больше и не сумев повторить свой единственный писательский успех, остался в литературе «открывателем темы». Василий Аксенов на долгие годы погрузился в поиски и эксперименты (от создания детских приключенческих книг до написания пародийного шпионского романа и, наконец, непременное авторство в серии «Пламенные революционеры»), которые не всегда были удачными. Поэтому «прогрессивный молодой автор» для общей литературной картины второй половины 1960-х – явный анахронизм.
Но. Игорь Ефимов все же был «прогрессивным молодым автором». Странная «временная петля» объяснима, если пристально рассмотреть то, чем казались и являлись в те годы ленинградские писатели. Всем интересующимся рекомендую прочитать замечательную книгу Михаила Золотоносова, название которой – «Гадюшник» – метафорически точно отражает ее содержание. Основа книги – стенограммы и протоколы собраний Ленинградской писательской организации. Исследователь особо подчеркивает демифологизирующий характер своего труда: «В стенограммах отразилась реальная, не выдуманная мемуаристами, жизнь, отразилась, прежде всего, групповая борьба». Как видим, мемуары выступают в качестве первого и важнейшего источника фальсификации – вольной или невольной. Общим тезисом, из которого следуют все частные следствия, можно считать положение о ярко выраженном провинциализме ленинградской писательской жизни того времени. После убийства Кирова, послевоенного «ленинградского дела» в политическом и культурном отношении «колыбель революции» окончательно лишается последних признаков былой столичности. Об этом в частности рассказывает «Российской газете» в 2008 году такой «свидетель эпохи», как публицист и прозаик Яков Гордин:
– Возможно, я ошибаюсь, но у меня ощущение – оно навеяно мемуарной прозой Сергея Довлатова, в которой много смешного, забавного, что ленинградский общественно-литературный климат тех лет был несколько мягче московского.
– Ну что вы! Он был жестче, гораздо жестче. Например, «дело Бродского», мне кажется, было бы невозможно в Москве. Там даже такие полуоппозиционные писатели, как Евтушенко и Вознесенский, имели личные связи в верхах. А у нас никаких личных связей с Толстиковым (первым секретарем обкома. – В. В.) или товарищем Кругловой (секретарем обкома по идеологии. – В. В.) не было и быть не могло. Контакты с ними были для нас совершенно неприемлемы. К тому же в Москве существовала лишь небольшая группа писателей, требовавших присмотра, а здесь на виду были все. Но вы правы: атмосфера была не то чтобы веселая, но более домашняя, что ли. Наша писательская среда, она ведь состояла из разных людей. Существовал официальный Союз писателей в лице его ленинградского отделения. Тем не менее даже там не наблюдалось полного единения: встречались стукачи, доносчики, но были и достойные люди. Неофициальный круг, к которому принадлежал я, тоже не являл собой человеческий монолит. Было несколько групп, пересекавшихся между собой. Дружеские связи, неприязненные отношения… Нормальное дело.
Определенная вторичность и некоторая «заброшенность», которую иначе можно определить как «самодостаточность», привели к тому, что общественная писательская жизнь определялась не громкими идеологическими или творческими сражениями в силу удаленности штабов, а яростными столкновениями между писательскими группировками, практически открыто сражавшимися исключительно за публикации, тиражи, гонорары. Конечно, формально это подавалось как борьба за «идейность» или «чистоту облика советского писателя». В повести Довлатова «Наши» автор рисует яркие портреты своих родственников. Его тетя Мара – известный в Ленинграде редактор, – помимо дружбы с видными писателями, обладала эксклюзивной информацией о мастерах пера, как правило, невинного юмористического свойства. Подросший племянник расширил рамки и содержание коллекции:
Знала множество смешных историй.
Потом, самостоятельно, я узнал, что Бориса Корнилова расстреляли.
Что Зощенко восславил рабский лагерный труд.
Что Алексей Толстой был негодяем и лицемером.
Что Ольга Форш предложила вести летосчисление с момента, когда родился некий Джугашвили (Сталин).
Что Леонов спекулировал коврами в эвакуации.
Что Вера Инбер требовала казни своего двоюродного брата (Троцкого).
Что любознательный Павленко ходил смотреть, как допрашивают Мандельштама.
Что Юрий Олеша предал своего друга Шостаковича.
Что писатель Мирошниченко избивал жену велосипедным насосом…
Понятно, что информация нуждается в проверке. Но по крайней мере в одном случае «самостоятельные изыскания» Сергея Довлатова находят прямое документальное подтверждение. Речь идет о писателе Григории Ильиче Мирошниченко. Обратим внимание на два момента. Во-первых, узнаваемость. На фоне имен Зощенко, Мандельштама, Алексея Толстого фигура Мирошниченко теряется. Во-вторых, характер злодеяния автора повести «Юнармия» выглядит пародийно сниженным по сравнению с «предательством», «хождением на допрос», «прославлением рабского лагерного труда» и другими не менее тяжкими грехами.
Главное событие в партийной жизни Мирошниченко – коммуниста с 37-летним стажем – произошло 23 декабря 1964 года. К тому времени список его прегрешений был значительно богаче «просто» избиения жены велосипедным насосом. Еще осенью 1962 года его поведение разбиралось на партсобрании ЛО СП РСФСР.
Тогда, например, оказалось, что писатель-патриот, член партии с 1927 г., участник Гражданской, Финской и Великой Отечественной войн, бывший полковой комиссар Мирошниченко не только недоплачивал взносы в партийную кассу и демонстративно отказывался их платить, не только 10 лет сдавал дачу, получая нетрудовые доходы, но еще и бил жену и бросал в нее машинками. Жена была в крови, а машинки потом валялись на полу и на подоконнике.
Золотоносов делает оправданное предположение, что машинки были, скорее всего, не орудиями писательского ремесла, а игрушечными. Подобный диковатый набор обвинений органично сочетался с линией защиты, которую избрал для себя Мирошниченко. С одной стороны, он подтверждал факты семейного насилия, но утверждал, что в действительности это жена била его. С другой стороны, причиной конфликтов объявлялась борьба за здоровый быт.
На протяжении 40 лет у нас бывали, как и в некоторых семьях бывают, всякие недоразумения… Бывали у нас резкие столкновения относительно папирос, она очень курила, бывали некоторые недоразумения семейного порядка, бывали очень резкие столкновения с женой.
Последовавший обмен репликами напоминает сценку из «театра абсурда»:
ЗАВОДЧИКОВ: Речь идет о мордобое. Нельзя же за курение бить по лицу и по ногам!
МИРОШНИЧЕНКО: Ну, почему же вы тогда не ставили здесь вопрос, чтобы я раньше знал, я бы раньше тогда исправился.
(Шум в зале, смех.)
Как видим, представлением по-своему наслаждаются все, включая «обвиняемого». Слова Гордина о «домашней атмосфере» приобретают зримое материальное выражение. За два следующих года Мирошниченко, несмотря на денежное благополучие, так и не сумел, точнее, не захотел, погасить партийные долги. Поэтому в конце 1964 года он и становится героем персонального дела. На заседании всплыл ряд новых прегрешений автора «Юнармии»: от махинаций с комнатой матери до «попытки изнасилования эстонки в Таллине». Тут же всплывают подробности старых разборок с писательницей Верой Кетлинской. Михаил Золотоносов отмечает, что само «дело Мирошниченко» могло быть инспирировано А. Прокофьевым – поэтом и первым секретарем правления СП. Мирошниченко должен был заплатить не только за просроченные партийные взносы, но и за попытку смещения Прокофьева с должности председателя президиума ЛО СП во второй половине сороковых годов. Но высокая шекспировская месть обернулась диковатыми кухонными разбирательствами между представителями ленинградской творческой интеллигенции. Между прочим, разбор «дела Мирошниченко» был предвестником краха не злополучного хулигана и должника по партийным взносам, а совсем иной фигуры.
Так, не без огонька, ленинградские писатели проводили 1964 год. И встретили не менее бойкий 1965 год. Новый год принес две новости. Первая неофициальная для литературной жизни. Весной демобилизуется Сергей Довлатов. Вторая – весной же в ЛО СП принимаются сразу три новых члена. И каких… Дадим слово Игорю Ефимову:
- «Горизонтальное положение» и другая крупная проза. Том 1. Горизонтальное положение. Черный и зеленый
- «Горизонтальное положение» и другая крупная проза. Том 2. Описание города. День или часть дня
- «Горизонтальное положение» и другая крупная проза. Том 3. Есть вещи поважнее футбола. Дом десять
- Певец боевых колесниц (сборник)
- Игра в пустяки, или «Золото Маккены» и еще 97 советских фильмов иностранного проката
- Воскрешение на Патриарших
- Яснослышащий
- Пролетариат
- Всё сложно
- Хождение по буквам
- Золотой ключ, или Похождения Буратины
- Ядерная весна (сборник)
- Русский охотничий рассказ
- Русские верлибры
- Удовольствие во всю длину
- Я буду Будда
- Пёс
- Двойное дно
- Ева-пенетратор, или Оживители и умертвители
- Морковку нож не берет
- Политическое животное
- Золотой ключ, или Похождения Буратины. Книга 2. Золото твоих глаз, небо ее кудрей. Часть 1
- Золотой ключ, или Похождения Буратины. Книга 2. Золото твоих глаз, небо ее кудрей. Часть 2
- Бестиарий
- Все рассказы
- Египетское метро
- Дорогая, я дома
- Об Солженицына. Заметки о стране и литературе
- Реприза
- Заговор головоногих. Мессианские рассказы
- Отто
- Трудный возраст века
- Инверсия Господа моего
- Токката и фуга
- Голуби
- Рутина
- Никто не вернётся
- Фистула
- Работа над фальшивками, или Подлинная история дамы с театральной сумочкой
- Покров-17
- Нить времен
- Бульвар рядом с улицей Гоголя
- Попакратия
- Карантин по-питерски
- В гостях у Берроуза. Американская повесть
- Неприятные тексты
- Исчезающее счастье литературы
- Дальше некуда
- 777
- Рождённый проворным
- Фонограф
- Державю. Россия в очерках и кинорецензиях
- Жить с вами
- Союз и Довлатов (подробно и приблизительно)
- Золотой ключ, или Похождения Буратины. Часть 3. Безумный Пьеро
- Золотой ключ, или Похождения Буратины. Несколько историй, имеющих касательство до похождений Буратины и других героев
- Под навесами рынка Чайковского. Выбранные места из переписки со временем и пространством
- Садовое товарищество
- Орфей! Орфей!
- Улица Некрасова
- Greatest Hits
- XX век представляет. Избранные
- Пьяный полицейский
- Мальчик. Роман в воспоминаниях, роман о любви, петербургский роман в шести каналах и реках
- Довлатов и третья волна. Приливы и отмели
- Факап
- Фашисты
- Флаги осени
- Вариант
- Девственность
- Музей «Калифорния»