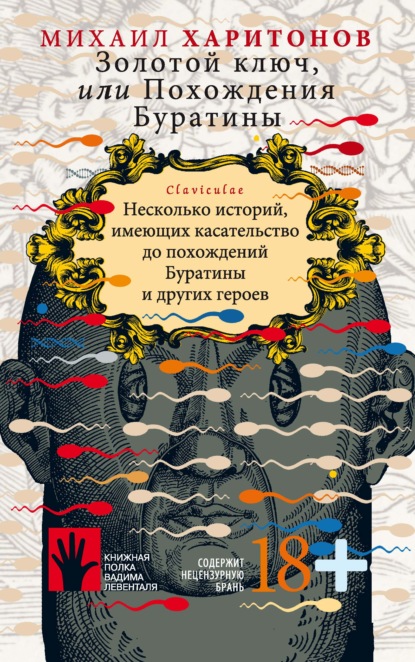Золотой ключ, или Похождения Буратины. Несколько историй, имеющих касательство до похождений Буратины и других героев

000
ОтложитьЧитал
Изображения Старших Арканов Памелы Колман Смит и Елизаветы Павловой
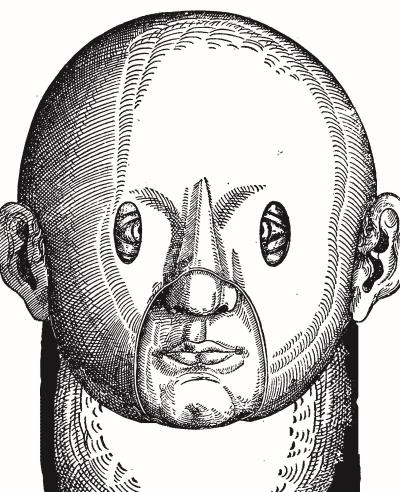
© М. Харитонов, наследники, 2021
© ИД «Городец», 2021
© П. Лосев, оформление, 2021

Предуведомление автора
Эти маленькие истории я назвал claviculae, «ключиками». Если есть большой золотой ключ, то почему бы не быть маленьким ключикам – серебряным, медным или даже оловянным, которыми можно открыть тайники и закрытые уровни книги. То есть – узнать что-то раньше, чем это предусмотрено основным сюжетом, заглянуть за угол текста, подглядеть, куда ведёт боковой ход, автором намеченный, но не обустроенный, ну и всё такое.
Понятное дело, ключики предназначены для особенно внимательных и благодарных читателей. Но автор тешит себя мыслью, что несколько настоящих ценителей у его творения всё-таки найдутся, и ему приятно вручить им эти небольшие подарки.
Ключиками нужно пользоваться в определённой последовательности. Поэтому я везде, где это необходимо, указываю, после какой главы основного текста стоит заглядывать сюда и до какой – чтобы не было совсем уж поздно. Настоятельно прошу читателя прислушаться к этим рекомендациям – иначе вы только запутаетесь и испортите себе удовольствие. Хотя…
– а впрочем, как сами знаете.
Искренне Ваш
Михаил Харитонов, spirito tentatore
Claviculae
Несколько историй, имеющих касательство до похождений Буратины и других героев
и предлагал Ему многие вопросы,
но Он ничего не отвечал ему.
Лк. 23:9
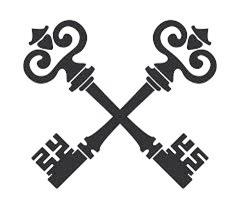
Первый ключик,
серебряный
Огромножоп и прекраснохвост
Читать где-то в районе Главы 19-й Первого тома,
но никак не позднее 22-й Главы его же.
Безвременье, около – или поблизости – какого-то часа.
Поздняя рань.
Места не близкие, но и не столь отдалённые.
Вроде бы везде всё есть. А как посмотришь, так многого и не досчитаешься. Однако без этого значимого отсутствия действительность была бы ещё пустее – или, если угодно, пуще, или даже пустошнее, хотя, в общем-то, все эти слова не без изъяна. Но изъян, по крайней мере, налицо, и вот именно он-то и придаёт – а вот что именно придаёт, так сразу и не скажешь. С другой стороны – а стоит ли внимания то, о чём можно сказать всё и сразу, не потратив ни минуты на созерцание и размышление?
Вот дорога. Допустим, она перед нами, а мы на ней. Ну или не мы, кто-то. А может, и что-то. Например, тут могло быть небольшое придорожное кафе с огороженным двориком и выцветшими тентами – с названием, к примеру, «Прорва», или, того лучше, «Перерва»: на каком-нибудь языке эти слова непременно хороши или хотя бы означают что-то хорошее. Но при дороге нет кафе «Прорва», да и вообще ничего хорошего нет.
Ах, если б рядом – розовый куст! Он почти доставал бы до полуоткрытого окна, из которого пахло бы гювечем, гиросом и чёрным смоляным кофе. Но – нет, здесь не цветут розы, здесь не варят кофе. Хер здесь варят! – да и того, в общем-то, не дождёшься к столу, ибо хер сыр, сыр хер, сколь долго его ни вари, особенно если нет его – как, впрочем, и воды, и котла, и стола, не говоря уж об очаге или открытом огне. Где всё это? Хер знает. Знает, но молчит – чтоб не сварили, а также по другим понятным причинам.
Ещё может знать Монтень. Но Монтеня не видно. Незаметно что-то и памятника Монтеню. Хотя он-то как раз должен быть, ведь где-то есть памятник Монтеню – ибо таким людям обычно ставят памятник-другой, а то и все четыре. Однако Монтень, по словам Честертона, не мыслил о еже. Почему сей снисходительнейший гуманист так пренебрегал ежом – решительно непонятно. А когда о человеке что-нибудь решительно непонятно, памятник ему лучше не ставить, вы не находите? Ну а если уж он стоит – не замечать его принципиально?
Не отчаиваемся, придумываем себе яблоню, полную мелкими жёлтыми китайскими яблочками, – которые, если тряхнуть ветви, сыплются градом и часто-часто стучат по земле, иной раз попадая по руке или в темечко. Их не нужно есть, их нужно слушать стук. Или уж если пробовать, то пихать в рот горстями – немытыми, ощущая вкус сладкой земляной гнили. В одном из яблочек должен был бы быть, наверное, маленький бурый червячок – но нет! Нет и его. А поскольку его нет – он никому ничего не должен, но никому низачем и не нужен.
Ох не повредила бы и вкопанная в землю бочка, к которой хорошо прислоняться бедром – тёплым вечером, когда небо уже отполыхало, а земля и вещи благодарно выдыхают тепло. Зажмурившись, слушать ветер, тайно надеясь различить в нём знакомые голоса – а потом пить ракию, настоянную на почечном камне злопипундрия, да палить люльку, да читать Астафьева или Белова, о далёких северных землях, где под звёздами ходят огромные ледяные рыбы. Но где ж бочка? Нет той бочки: сокрушили её сапоги солдат Муссолини, или она пошла на растопку гарибальдийского костра, а может, рассохлась тихо и бесславно в эпоху авиньонского пленения пап. Однако, вероятнее всего, её здесь не было. И в других местах тоже: там были другие бочки – а этой не было. Но это ничего, ибо бочка не повредила бы, но её отсутствие тоже ничему не вредит, ибо и повреждаться-то нечему.
Ну хорошо, пусть, пусть так! – но хотя бы след, просто след башмака в пыли! Я сам готов его оставить, если нет других вариантов. Однако – нет, земля не принимает моих следов. Они слишком легки, небрежны и оскорбительны для неё – привыкшей к толстым сапогам подёнщиков, к осязательным следам жизни, ненужной для себя самой.
Эти слова – чужие, заветные, из Сундука Мертвеца – шелестят у меня в голове, как морской песок на заброшенном пляже: сухое пришёптывающее «слишком», проскальзывающая стёртой щекой галька «подёнщиков», в «осязательным» застряло колкое бутылочное стекло – «с-з». И наплывающий гул прибоя. Я вижу этот звук, именно вижу звук, потом воображение дорисовывает волны. Как звери, бьются они мокрыми лбами о запретный берег – и с зубовным шипом мрут среди водорослевых ниток, комочков ила, плевочков-ошмёточков пены и прочей бессмысленно-мелкой хуйни, из которой и состоит жизнь. Если моя дорога ведёт к этому океану, я поверну назад.
Но не лучше ль и вовсе сойти с дороги? Углубиться в развалины пейзажа, в останки невысоких меловых гор, к лесам повернуть движеньем резким, войти под их немые своды и в них утонуть, исчезнуть – чтобы посреди зелёного бескраянья вдруг замереть, созерцая чудо: озерцо с прозрачной водой. Тайное око леса, оно собирает вокруг себя единство путей и связей, на которых и в которых рождение и смерть, проклятие и благословение, победа и поражение, стойкость и падение создают облик судьбы, прозреваемый смертными в его водах. Но нет здесь ни смертных, ни богов. Я же и вовсе не в счёт, ибо меня нет, нет, нет ни для кого.
Вот белеется отмель. Она простирается, чтобы луна чертила на ней свои дорожки – да, луна, луна: огромная, сырно-жёлтая, какая бывает только в безветренную ночь. Но нет безветренной ночи, не время для неё, разве только вечер затеплится синий; и, кстати, ещё не факт, что затеплится. Сколько уж было таких вечеров, которые гасли, не теплясь?
Зато ленивая стрекоза – как изысканно смотрелась бы она на краешке бокала! но увы, увы, у нас и с бокалами напряжёнка – оседлала острый лист и наблюдает за песчаной квакушкой. Наблюдает лишь затем, чтобы не видеть грозной тени, подымающейся из глубины: ибо в озерце водится огромножоп.
Огромножоп! Мутант, порождение тьмы, загадочный огромножоп, он так свиреп и дик, и нет в нём милосердия к живущим, и сочувствия к мёртвым тоже в нём нет ни на скрупул! Он – ужас мира, стыд природы, так что мир и природу извиняет лишь то, что и его нет.
Но эта мысль не успевает прийти нам в голову, ибо сверху, застилая облака радугой, падает из самого сердца небес извечный соперник огромножопа – прекраснохвост. Он так жарк, так ярк в неистовстве цветущей своей красы, он столь неудержимо пленителен, что смотреть на него невыносимо. Поэтому мы и не смотрим – а также и потому, что и его нет, а есть лишь томленье по прекраснохвостому прекраснохвосту, неутолимое, как танталова жажда. Да и томленья-то, в сущности говоря, тоже никакого нет, а то, что есть, томленьем быть никак не может, ибо всякое подлинное томленье утолимо – хотя бы самим собою. Значит, и томление – пшик, вздор, гиль, реникса, нонсенс и катахреза!
Что же есть? Лишь пустошь, заросшая травой. Белеется вдали маленькое стадо диких коз. Истошно орут цикады, утомлённые солнцем.
Может быть – никто не знает точно, ибо некому это знать – мимо бредёт усталый, одинокий путник вроде меня, бредёт мимо коз и цикад, вздыхая о ночлеге или хотя бы о минутном отдыхе. Но не видя вокруг ни дрожащих огней печальных деревень, ни случайной сторожки, ни даже сухого овражка.
Ну а если и того нет? Какие наши доказательства, что тут какой-то путник пробегал? Чесгря, никаких. Мы хотели бы верить – но мало ли чего мы хотели, шароёбясь вдоль и поперёк глухих, окольных троп, которые ведут исключительно друг к другу? Да, в общем, те желания столь же лестны, вздорны и не стоят внимания. Или хотя бы презрения. Ибо и оно истощилось в нашем мире, ну или стало невообразимой редкостью – как нефть, как честь.
Есть только огромножоп, есть только прекраснохвост. И то: ведь существуют они не для себя и не для нас, а лишь друг друга для. Ибо каждый из них – сон разума другого.
Второй ключик,
альтовый
Зовите меня
Читать после 29-й Главы Первого тома – хотя можно
и после 17-й, если совсем уж невтерпёж.
Санкт-Петербург (бывш. Ленинград). 1996 г. н. э. (от Р. X.).
Воскресенье
Малянов подступил к плите, взгромоздил чайник. Сунул под него спичку с маленьким горбиком пламени на спинке. Медленно кашлянул газ. Синие когти огня впились в старую, закопчённую жесть.
– Сначала зажги, потом ставь, – посоветовал Вечеровский.
– Я так привык, – Малянов осторожно, по сантиметру, развернулся, чтобы смотреть на Вечеровского.
Для покойника Вечеровский был неприлично молод. И одет по-молодому – кремовая водолазка, ремень, серые брюки. Жёлтые пижонские ботинки сидели на нём как убитые.
– Ты воды не налил, – сказал Вечеровский, закуривая.
– Знаю, – Малянов открыл крышечку и залил воду из кувшина. – Я так привык, – добавил он, не дожидаясь вопроса.
– Не стариковствуй, – предупредил Вечеровский, стряхивая пепел в пустую сахарницу. – Тебе вообще-то шестьдесят пять. По мировым меркам – самый расцвет.
– Это по мировым, у них медицина. – Малянов со стуком поставил кувшин на стол. – Знаешь, я ведь когда-то боялся сенильной деменции. Всё что угодно, только не сенильная деменция. Когда читаешь препринт своей статьи и не понимаешь, что написано.
– Ужас-ужас, – Вечеровский выдохнул, изо рта бестолково повалил серый дым. – И как?
– С чем смотря, – Малянов полез в кухонный шкафчик за стаканами. – Я всё ещё могу прочесть препринт своей статьи. И понять, что написано. Я даже могу прочесть препринт статьи Горькавого на английском. И понять, что это дрэк и вторичный продукт… Но вот этого всего я уже не понимаю, – он повернул голову к окну без занавески, за которым была ночь, деревья и крыша соседней пятиэтажки: когда-то знакомый мир, ставший чужим и опасным.
– И не надо, – Вечеровский взял салфетку, снял тяжкие роговые очки и принялся их протирать.
– Грязь размажешь, – сказал Малянов. – Кстати. Почему стало так грязно? Раньше такого не было. Я теперь всё время руки мою.
– У тебя чисто, – напомнил Вечеровский. – Оксана пидарасит всё до блеска. Дважды в неделю. Если схалтурит – ноги вырву.
– Пидарасит, ноги вырву, – задумчиво повторил Малянов. – Раньше так не говорили. Что, теперь можно?
– Нельзя. Но говорят, – Вечеровский поморщился. – А это что? – показал он на подоконник, где лежали какие-то бумаги.
– Из ящика, – сказал Малянов. – В смысле почтового. Всё время чего-то пихают. Я каждую неделю выгребаю.
– Тебе же сказали – не выходить из квартиры, – серьёзно сказал Вечеровский. – Никогда не выходи из квартиры. Ни-ког-да. Это – помнишь?
Он поднял палец и показал. На внешнем стекле белела точка, а вокруг – сложная система трещин, похожая на схему московского метрополитена.
– Оксана говорит – разборки какие-то. Так вроде со всеми разобрались? Нет? – с надеждой спросил Малянов.
– Не со всеми. Тебя убьют. За квартиру. Как Вальку Вайнгартена.
– Я только в подъезд, – начал оправдываться Малянов.
– Никуда не выходи, вообще никуда. Не веришь мне – поверь Бродскому. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Специально для тебя сказано. Хотя для меня там тоже есть полстроки. Заведу герб – сделаю девизом.
– Про уборную? – попытался вспомнить стихотворение Малянов.
– Нет, в середине предпоследнего, на латыни… Хотя зачем я говорю, ты забудешь. Ладно, сделаем по-другому. Где ключи?
– Ключи? – не понял Малянов. – Какие ключи?
– От входной двери. Извини, заберу.
– Я тогда не смогу дверь запереть, – пожаловался Малянов.
– И не надо. У Оксанки ключи есть, она запрёт.
– А как я скорпомощи открою?
– Забудь про скорпомощь, – Вечеровский рассердился. – Если вдруг чего – звони Оксане. Только ей. Больше никому.
– Ну вдруг мне плохо станет. Ведь надо скорую? – не понял Малянов.
– Скорая? Они приедут, посмотрят. А потом отзвонят кому надо, что нашли двушку в отличном состоянии с одиноким пенсионером. И всё.
– Ну не обязательно, – не согласился Малянов.
Вечеровский не снизошёл до ответа.
Дверь приоткрылась, из-за неё показался гладкий серый кот с аккуратной импортной мордой.
– Что, Калямушка? Рыбки хочешь? – Малянов наклонился к коту.
Тот не отреагировал.
– В прихожей корм, – напомнил Вечеровский.
– Да я насыпал. Ему бы рыбки, – Малянов жалобно прищурился.
– Нельзя ему рыбки. Он из шотландского питомника. На кормах всю жизнь. Ладно, это всё тоже Оксанке… – решил он.
Кот понял, что еды не будет, разочарованно сказал «мрюк» и ушёл.
– Погоди-погоди, – Малянов почесал под нижней губой. – У меня нет сенильной деменции. И я ещё не разучился думать. Если то, что ты мне рассказывал, действительно правда, то Оксанку ты нанять не мог. Она же должна забыть, что ты её нанял.
– Я и не нанимал, – Вечеровский закурил снова. – Нанимала Ирка. И она же с ней общается.
– Моя Ирка? – не понял Малянов.
– Нуда. Твоя. Я через неё иногда работаю. Она меня помнит. Тебя тоже, – быстро добавил он.
– А Бобка? – с надеждой в голосе спросил Малянов.
– Не знаю, – отрезал Вечеровский. – А с Иркой так. Звоню всегда у подъезда, по сотику. Она ойкает. Потом делает вид, что очень рада. Спрашивает, как у меня там в Америке. Все почему-то уверены, что ятам, в Америке.
– А почему ты не в Америке? – заинтересовался Малянов.
– У меня ещё здесь дела, – не стал развивать тему Вечеровский. – В общем, захожу к Ирке с цветами и шампанским. Сидим часа два, потом я говорю, что у тебя проблемы с обслуживанием и надо бы помочь, а я с тобой в ссоре и сам не могу. Она кобенится. Даю денег…
– Сколько? – неожиданно спросил Малянов, следя за чайником: тот уже шумел, но ещё не булькал.
– Ты про заварку забыл, – сказал Вечеровский. – Вооон в том ящике.
Малянов не пошевелился.
– Ладно, я сам, – Вечеровский решительно поднялся, достал из шкафчика жестянку и заварник и принялся над ними колдовать.
– И чего Ирка? – не отставал Малянов.
– Жадная она очень, – Вечеровский поморщился. – Обычно просит триста. Долларов, – добавил он.
– За что? – не понял Малянов.
– За всё. Ну то есть сделать звонки, распорядиться туда-сюда… И я не могу уйти – забудет. Когда мы Оксанку нанимали, пришлось у неё заночевать. Ничего такого, сам понимаешь, – на всякий случай добавил он.
– И что, ты ей платишь триста долларов за звонки? – не поверил Малянов.
– Нет, конечно. Оставляю сотню, остальное обещаю завтра. Хотя и сотню жалко. Она её прячет, а потом забывает где. Да, кстати – у тебя деньги как? Не кончились?
– В тумбочке которые? Вроде осталось, – Малянов остановился, пожевал губами. – Интересно. Я обычно думаю, что в тумбочке лежат деньги за дачу в Замостье. И никак не кончатся. Потому что у меня очень скромные потребности.
– Скромные? Знал бы ты, во что твои препринты обходятся, – усмехнулся Вечеровский. – Кхм, а это что? – он с неожиданной заинтересованностью полез в ящик, забренчал посудой.
– Можешь больше не заказывать, обойдусь, – обиделся Малянов.
– Кто обойдётся, а кто нет – это решаю я, – заявил Вечеровский. – Ты мне нужен живым и без сенильной деменции. Как можно дольше… Оппаньки! – Вечеровский вытащил широкий бумажный лист, засиженный мелкими буковками.
– У тебя на этом посуда стояла, – сказал он. – Чайник кипит.
Малянов принялся заваривать чай, Вечеровский вернулся на прежнее место.
– Советский журнал. Страница двадцать девять. «Корнелиус отсутствующе кивнул и сел, – зачитал он, держа бумагу перед глазами. – Кресло, как и вся мебель, приспособленное к условиям низкой гравитации…»
– Корнелиус? Гравитация? Постой-постой… Знанийсила, – уверенно сказал Малянов в одно слово. – Шестьдесят шестой год, четвёртый номер. Пол Андерсон. Фантастика. Там ещё такие иллюстрации… голубые с чёрным.
– Вот прям уверен? – недоверчиво выгнул рыжую бровь Вечеровский.
– Уверен. Шестьдесят шестой, как же. Ирка тогда выделываться начала. По-всякому. Среди всего прочего – из подписных журналов страницы вырывала. Для хозяйственных нужд, – в голосе Малянова прорезалась нотка застарелой ненависти, давно высохшей, но въевшейся намертво, как чернильное пятно на скатерти.
– Я эту страницу очень долго искал, – продолжал он. – А она на неё, оказывается, чашки поставила.
– Ну хоть потом прочитал? – поинтересовался без интереса Вечеровский.
– В библиотеку ходил, – продолжал Малянов, обиженно позвякивая чайным ситечком. – А пока ходил, она перед Снеговым хвостом крутила… Всё-таки – что с Бобкой?
– Сахар у тебя где? – Вечеровский отложил бумажку в сторону.
– Я же говорил: у меня нет сенильной деменции! – Малянов набычился. – Бобка жив? Здоров? Где он?
– Жив, здоров, не заставляй меня дальше врать, – сквозь зубы процедил Вечеровский. – Фантастика про что?
– Про Юпитер. Подожди, заварится.
– И что же там было на Юпитере? – Вечеровский немного повысил тон.
– Там люди не могли жить. Гравитация, давление. Посылали вместо себя специально выведенных существ. Синих таких, хвостатых. У них своих мозгов не было, они через радиоуправление с орбиты. А в операторы брали паралитиков. Чтобы им было по кайфу руками-ногами шевелить. Ну а потом у этих синих сформировался свой разум, и они всех послали… Как-то так. А называется по имени главного героя. То есть не по имени, наоборот. Он имя сменил. Ну, когда окончательно отделился от человечества и стал этим, синим. Книжка так и называется. Зовите меня… забыл, как он там себя назвал.
– Кстати, идея, – Вечеровский как-то совсем не пафосно шмыгнул носом. – Когда окончательно отделюсь от человечества – сменю имя. Назову себя по-новому. И никто не узнает как. Гносеологический парадокс. Канту бы понравилось.
– Вещь в себе, – вспомнил Малянов.
– Ну да. Что-то вроде того.
– Слушай… – Малянов подвигал нижней челюстью, формулируя вопрос. – А как это у тебя началось? Сразу? Ну вот заснул, проснулся – и никто тебя не помнит?
– Нет. Всё развивалось последовательно. Сначала перестали любить. Я решил – ну, значит, было за что. Потом перестали дружить. Тоже бывает. Перестали писать. Перестали звонить. Не сказали привет, не позвали с собой, не смотрели в глаза… Дверью хлопнули в нос, – он усмехнулся. – И не велели звонить. Я сначала думал – было за что, потом случайно встретился: нет, просто позабыли, как звать. Потом я потерял паспорт. Пошёл в милицию восстанавливать. И вот только тогда до меня потихонечку начало что-то доходить.
На кухне стало совсем тихо. Малянову пришло в голову, что сейчас была бы очень кстати большая жужжащая муха. Но мухи не было. Вместо неё во дворе загудела машина и зашевелился лифт за стеной.
– Да, ещё, – сказал Малянов. – Зачем я тебе всё-таки нужен?
– Чтобы ты жил как можно дольше и как можно лучше, – сказал Вечеровский. – В данных конкретных условиях. Кстати, я тебе лекарство поменял.
– Я не про это спросил, – Малянов посмотрел на заварочный чайник, что-то прикидывая. – Я спросил, зачем я нужен тебе.
– Ну если ты опять так ставишь вопрос, – начал Вечеровский, не собираясь заканчивать.
– Именно, – Малянов потёр щёку, седая щетина скрипнула под ладонью.
– Ну хорошо. Мне нужен человек, который меня узнает с первого звонка. И отнесётся ко мне как к хорошему старому знакомому, с которым давно не виделись.
– Понятно. И сколько нас таких осталось? – полюбопытничал Малянов.
– Не так чтобы очень. Один школьный приятель, мы с ним отношения поддерживали… двое с работы… Девушка одна. То есть она теперь, конечно, уже тётка. Я с ней когда-то плохо обошёлся. А вот она со мной – хорошо. Глухов ещё живой, но он в Америке и у него реально деменция. Ну и ты. Хотя ты меня каждый раз за покойника принимаешь. Кто тебе вообще сказал, что я умер?
– Кто мне скажет? Все же умерли, – Малянов пожал плечами.
– Но ты хотя бы не кидаешься от меня с воплями. И чтобы восстановить отношения, полчаса обычно хватает. А то я как-то к Алхазу Булатовичу зашёл… это мой начальник бывший в конторе, точно должен помнить. И вспомнил, кстати, по глазам видно. Но не показал. Дескать, что вам надо. А мог бы получить полмиллиона.
– Долларов? – уважительно спросил Малянов.
– Фунтов, – усмехнулся Вечеровский. – Кстати, нужно будет заехать в банк. На тебя у меня кое-что оформлено.
– И всё-таки, – Малянов помолчал, формулируя вопрос. – Что это было? Гомеостатическое Мироздание?
– С нами-то что было? В каком-то смысле, – Вечеровский почесал нос. – Я тогда с перепугу всё переусложнил. Насчёт гомеостатического Мироздания. Мироздание само по себе никакое. Гомеостатичны цивилизации. Они сначала устанавливают свои порядки. А потом боятся, что появятся другие, которые будут нарушать. Но кто-то успевает первым. Так вот, люди – не первые. Мы даже не стотысячные. Мы живём в мире, придуманном не нами. И те, кто придумал этот мир, приняли меры. Чтобы всё как шло, так и шло.
– Ну и что? – не понял Малянов.
– Ну и всё, – закончил Вечеровский. – Sapienti sat. Извини. Ты бы понял, если бы подумал. Но ты не успеешь. У нас мало времени. Допивай и поехали. У меня внизу машина с шофёром.
– Если вдруг ты знаешь, – Малянов впервые за весь разговор поднял глаза на собеседника. – Что с нами будет?
– С нами? А, в смысле вообще… Нет, не знаю. Думаю, всё будет как всегда, – Вечеровский отхлебнул. – Не надо в грядущее взор погружать. Не лучше ли жить и всей грудью дышать. Вдыхать прохладу вечернего края, где спят и мечтают, надежды не зная. Тогда приходит к нам раздвоенье, и мы ни о чём не мечтаем, – он запнулся, привычным жестом потёр висок.
– Слушай, прохожий, слушай, – продолжил Малянов. – А после, не зная друг друга, мы с тобою расстанемся. В путь отправляйся…
– Дорога пылится вдали, – закончил Вечеровский. – Гийом Аполлинер. Перевод Михаила Кудинова. Извини, приспичило. Отойду в дабл. Надеюсь, за это время ты меня не забудешь. Очень надеюсь.
Он вышел, плотно прикрыв за собой дверь. Вечеровский всегда отличался повышенной деликатностью в мелочах.
Малянов отпил из чашки. Решил, что чай получился в самый раз: крепким, но не горьким. Подумал, что надо бы сгонять Оксанку, как придёт, за едой. Надо бы свининки, только хорошей. Куриные ноги, конфеты, бельгийское печенье в круглой коробке. Капусту, молоко, специи – он в последнее время полюбил специи – и чего-нибудь выпить. Только не водку, не «Амаретто» и не коньяк. Вот покойный Вечеровский – что-то он о нём стал часто вспоминать, к чему бы? – любил «Ахтамар». Оксанка недавно принесла – это был не «Ахтамар» и не коньяк вообще, это была какая-то бурая краска со спиртом. Коньяк пропал. Всё настоящее куда-то пропало.
Из сортира донёсся шум спускаемой воды. Оксанка? Вроде бы она ходит по пятницам? Хотя она вроде забыла сумочку. Ну вот, пришла за сумочкой. Ключи у неё свои… всё просто. Как всегда – всё просто, будь оно неладно. Хотя оно и так неладно.
Когда всё пошло не так? Когда Ирка забрала Бобку? Когда развалился Союз? Когда на работе кончились деньги? Когда убили Вальку Вайнгартена? Захар вроде бы куда-то делся ещё раньше. Кажется, умер. Или уехал. Глухов… Вот Глухов точно уехал.
Скрипнула дверь. Он поднял глаза и увидел покойного Вечеровского.
Покойник смотрел на Малянова осуждающе – как будто тот в чём-то провинился, вот прямо только что.
– Опять двадцать пять, – раздосадованно сказал Вечеровский. – Ну ладно, по новой так по новой. Привет, что ли. Я живой. Просто ты меня не помнишь. Меня никто не помнит.
- «Горизонтальное положение» и другая крупная проза. Том 1. Горизонтальное положение. Черный и зеленый
- «Горизонтальное положение» и другая крупная проза. Том 2. Описание города. День или часть дня
- «Горизонтальное положение» и другая крупная проза. Том 3. Есть вещи поважнее футбола. Дом десять
- Певец боевых колесниц (сборник)
- Игра в пустяки, или «Золото Маккены» и еще 97 советских фильмов иностранного проката
- Воскрешение на Патриарших
- Яснослышащий
- Пролетариат
- Всё сложно
- Хождение по буквам
- Золотой ключ, или Похождения Буратины
- Ядерная весна (сборник)
- Русский охотничий рассказ
- Русские верлибры
- Удовольствие во всю длину
- Я буду Будда
- Пёс
- Двойное дно
- Ева-пенетратор, или Оживители и умертвители
- Морковку нож не берет
- Политическое животное
- Золотой ключ, или Похождения Буратины. Книга 2. Золото твоих глаз, небо ее кудрей. Часть 1
- Золотой ключ, или Похождения Буратины. Книга 2. Золото твоих глаз, небо ее кудрей. Часть 2
- Бестиарий
- Все рассказы
- Египетское метро
- Дорогая, я дома
- Об Солженицына. Заметки о стране и литературе
- Реприза
- Заговор головоногих. Мессианские рассказы
- Отто
- Трудный возраст века
- Инверсия Господа моего
- Токката и фуга
- Голуби
- Рутина
- Никто не вернётся
- Фистула
- Работа над фальшивками, или Подлинная история дамы с театральной сумочкой
- Покров-17
- Нить времен
- Бульвар рядом с улицей Гоголя
- Попакратия
- Карантин по-питерски
- В гостях у Берроуза. Американская повесть
- Неприятные тексты
- Исчезающее счастье литературы
- Дальше некуда
- 777
- Рождённый проворным
- Фонограф
- Державю. Россия в очерках и кинорецензиях
- Жить с вами
- Союз и Довлатов (подробно и приблизительно)
- Золотой ключ, или Похождения Буратины. Часть 3. Безумный Пьеро
- Золотой ключ, или Похождения Буратины. Несколько историй, имеющих касательство до похождений Буратины и других героев
- Под навесами рынка Чайковского. Выбранные места из переписки со временем и пространством
- Садовое товарищество
- Орфей! Орфей!
- Улица Некрасова
- Greatest Hits
- XX век представляет. Избранные
- Пьяный полицейский
- Мальчик. Роман в воспоминаниях, роман о любви, петербургский роман в шести каналах и реках
- Довлатов и третья волна. Приливы и отмели
- Факап
- Фашисты
- Флаги осени
- Вариант
- Девственность
- Музей «Калифорния»