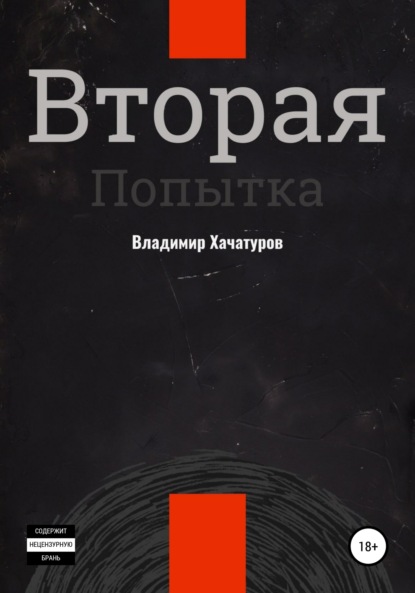Часть первая
Возвращение блудного сына
Пробуждение
…Что-то ему точно снилось. Но что именно – было не вспомнить. Возможно, то самое, что увидел, проснувшись.
Увидел же он то, что можно увидеть лежа в кровати, если кровать находится в застекленной лоджии, где справа тумбочка, напротив, у торцевой стены, – сработанный из досок ДСП письменный стол, над столом несколько книжных полок, поодаль, у окна в гостиную – едва угадываемый, погребенный под одеждой, стул… А еще плотные шторы слева, закрывающие всю наружную стену, сплошь состоящую из окон; всю, кроме одного-единственного, узенького, чуть ли не стрельчатого, расположенного в самом конце комнатки, по левую руку от письменного стола…
Ну да, признал он, это мой личный закуток площадью 2 на 4…
Из узенького окошка струился сумеречный свет, не столько настаивая на своем утреннем происхождении, сколько намекая на это обстоятельство.
Ну да, вроде как зима на дворе, не греша разнообразием в выборе слов, присовокупил он к единству места довесок времени. Какое-то там января… – и забуксовал, вспоминая порядковый номер наступившего года.
Да и фиг с ним, – решительно прервал он мнемоническую попытку. Какая разница, какими цифрами его обозначить. Бог весть который год по предполагаемом рождении незабвенного Христа, Иисуса Иосифовича…
Встав с постели, обнаружил себя в трусах и майке. Провел рукой по животу: до чего я исхудал!.. Нащупал тапочки, ступил к окошку и после непродолжительной схватки с двумя – верхней и нижней – ручками-шпинга-летами, отворил его. Отворил и… Все же не всегда это плохо, когда прожиточный минимум минимален. Будь иначе, лежать ему сейчас опрокинутым необычайной свежестью холодного воздуха. А так, с одной стороны угол письменного стола, с другой – спинка кровати поддержали его в нежданную минуту слабости. Честь им и хвала… Впрочем, головокружение отличалось приятностью ощущений, превозмогать его не хотелось. Само превозмоглось, рассосалось, подчинившись неизменному закону подлого бытия – привыканию… Но и с ним дышалось великолепно. Чистая, не засоренная носоглотка да пара легких – вот все, что человеку при наличии такого воздуха требуется. Стой да дыши, да вздыхай, да трепещи ноздрями от наслаждения… Но увы нам, теплокровным: прочие члены и конечности возроптали от переохлаждения. Как ни печально, но окошечко пришлось прикрыть, оставив дюймовую щель для вентиляции. Ничего, решил он для себя, оденусь и продолжу. Он щелкнул кнопкой настольной лампы и удивился идеальному порядку на столе. Книги аккуратной стопкой в одном углу, тетради в том же состоянии – в другом, посредине, у стены, стаканчик с карандашами и ручками: читай, пиши – не хочу! По всему видать, не его рук это дело, поскольку его руки, если ему не изменяет память, ни на что, кроме произведения художественного беспорядка, не пригодны.
– Ладно, не суть…
Верхней книгой в стопке оказался учебник русской литературы для 9-го класса средней школы, утвержденный Министерством Просвещения РФСФР, изданный в Москве в 1973-м году.
– С чего это вдруг? – подумалось ему. Подумалось совершенно безотчетно, неизвестно с чего, но тоже – вдруг.
Гончаров, Герцен, Тургенев, Чернышевский, Добролюбов, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Достоевский. Толстой, Чехов… Вот, значит, кого изучают в девятых классах средних школ. Знакомые все лица! Даже названия произведений мне явно о чем-то говорят, – бормотал он мысленно, наружно веселея. Судя по именам, девятиклассников зацикливают на второй половине XIX века. Однако список неполон. Где Лесков, Писемский, Тютчев, Боборыкин, Гаршин, Апухтин, оба Успенских, Мятлев, Майков, Полонский, Аполлон Григорьев, Дружинин, Фет, Страхов, Надсон, наконец? Не сподобились? Или приберегли для высшего образования?
Всех беднее, кто беден участьем.
Всех несчастнее нищий любви.
Всплыло вдруг из глубин памяти двустишие последнего по списку автора. Ишь ты! – изумился он едва ли не вслух: видать Мнемозина[1] не оставляет меня своими заботами. Ну-ну, давай, тетенька, сподобляй, – подбодрил он богиню в благих намерениях, чем, очевидно, и отвратил небожительницу. Богини, как известно, не терпят амикошонства и фамильярности. Ты б ее еще чувырлой назвал, нехристь. Надо же чего удумал: «тетенька»… Но нет, не отвратил: тетеньке, видимо, было наплевать, как ее назвали, главное, что вспомнили об ее существовании. А это нынче такая редкость, такое дежа вю!
Душа моя – Элизиум теней,
Теней безмолвных, светлых и прекрасных…
Нет, эта знойная любительница чабанов просто издевается! Эй, Мнемозина Урановна, Титанидочка ты наша ненаглядная, этот «отче наш» я и без тебя, помню. Ты бы меня еще моим костром, который в тумане светит, разодолжила…
Видимо, «любительница чабанов» оказалось уж слишком беспардонно. Все-таки Зевс – не обычный чабан, а божественный: от него парнасские музы родятся, а не пасторальные пастухи со пастушками. Дежа вю забуксовало, дальняя память уткнулась в тряпочку… Ну и хрен с ними, а он вот возьмет и на зло им всем вспомнит!
И он действительно – взял и вспомнил. Или почти вспомнил:
Жарко ей, не спится,
Сон от глаз гоня,
Чтой-то шевелится.
В попе у нея.
Матерь Божья! – ужаснулся он. – Это кто же у нас анальной-то фиксацией страдает? Апухтин, что ли? Рефлективные последствия многомесячного пребывания в мужском монастыре?.. Ой, не верится мне! Ой, наговор и клевета это! И я даже догадываюсь, кто их автор…
И тут вдруг, то ли в опровержение, то ли, наоборот, в подтверждение его догадок, на него обрушился перевод никому не известного Минского всем до боли известного гимна:
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Наша сила, наша воля, наша власть.
В бой последний, как на праздник собирайтесь.
Кто не с нами, тот наш враг, тот должен пасть.
Тьфу ты, Господи! – едва не осенил он себя крестным знамением. – Тоже мне, передаточное звено от Христа к Горькому: «Кто не со Мной, тот против Меня» – «Если враг не сдается, его уничтожают». Хорошо хоть свой вариант «Интернационала» додумался правдиво закончить: «В Интернационале сопьется род людской». Как там было у Ключевского насчет дурной трансформации великих идей в очумелых массах?.. Вспоминал, вспоминал, но так и не вспомнил, как там было… Тут его внимание привлек любопытный агрегат на стуле, которого он спросонку не заметил и в котором, после ряда мучительных попыток вспомнить, признал бобиновый магнитофон. Интересно, какая там музыка записана?.. Поискал глазами наушники окрест – ничего похожего не обнаружил. Ладно, послушаем так, тихонько, одним ушком к динамику приложившись… Однако все попытки вспомнить, каким образом сей агрегат приводится в движение, окончились неудачей. Так и подмывало с возмущением воскликнуть: Ну, Мнимая Зинка, ну ты даешь! В смысле, ни шиша не даешь, кроме грешащих неточностью поэтических обрывков… Но вовремя передумал и обратился к небожительнице так: Однако, госпожа Мнемозина, вы меня удивляете! Причем пренеприятно, мадам… Повременил, прислушался к себе, хмыкнул, зябко поежился, юркнул под одеяло, укрылся с головой, старательно задышал, свернувшись внутриутробным комочком. Встать – выключить лампу, или пусть себе пылает огоньком надежды в тоннеле непоняток?..
Дверь из лоджии в гостиную, вернее, наоборот, отворилась, явив его единственному выставленному наружу глазу огромный живот под теплым женским халатом.
– Вовочка, сынок, – позвал его кто-то явно материнским голосом. В голосе, правда, чувствовалось некоторое напряжение.
Он выпростал из-под одеяла в помощь единственному оку прочие органы чувств: второй глаз, уши, нос, рот и верхние конечности. Так и есть, не только голос, но и все остальное тоже оказалось маминым. Мама выглядела подозрительно молодо, лет на сорок, не больше.
– Проснулся? – сказала мама.
– Еще не знаю, – ответил он.
– Чего не знаешь?
– Проснулся твой сынок или нет, – не знаю, – сказал он серьезно и на всякий случай улыбнулся…
– В школу пойдешь? – построжела мать.
– А что, надо?
– Еще и шутишь, – вздохнула она с педагогической укоризной.
«Должно быть, чего-то натворил», – догадался он, и решил быть наперед осторожнее, потому как, сколько ни шарил в ближней памяти, ничего криминального за собой вспомнить не мог. В дальнюю же память лезть не спешил, – что-то его удерживало от столь опрометчивого шага.
– Давай, сынок, вставай, одевайся, умывайся и иди в школу, а то совсем отстанешь. Шутка ли, целую неделю пропустил…
– Так уж и неделю? – зная за матерью склонность к числовым преувеличениям, расчетливо усомнился он.
– Ну как же! – возмутилась мать столь беззастенчивому отрицанию очевидной истины. – Два дня вы бегали, три дня дома лежмя лежал, бука букой…
– Итого: пять дней, – подытожил он. – А в неделе, если я не ошибаюсь, на два больше…
– Буквоед! – сказала мать и стала протискиваться обратно в гостиную.
«Кажется, у нас ожидается прибавление семейства», – меланхолически подумалось ему.
Мать задержалась в дверях с вопросом:
– Так ты идешь в школу? Завтрак готовить?
– Завтракать в такую рань! – удивленно вырвалось у него.
– Какая рань! Полвосьмого! Бабуля уже и проснулась и умылась и чай с бутербродом съела…
– Чай, говоришь, съела, это хорошо, – пробормотал он неразборчиво, зато вдумчиво, подспудно удивляясь бабулиному наличию, потому что бабуля – это не бабушка, а бабушкина мать: древняя женщина на костылях. Ее походы в уборную по большой нужде напоминали торжественную процессию и, как правило, предварялись оповещением всех обитателей квартиры о готовящемся мероприятии, дабы каждый мог решить для себя, где ему сподручнее в ближайшие полчаса быть запертым: на кухне или в комнатах, с которыми кухня соединялась узким коридорчиком, с глухой стеной по одну сторону и дверями ванной и уборной – по другую.
Ноги, как он слышал, отнялись у нее сразу после нашей великой победы над фашистской Германией. Не иначе как от соответствующей событию радости… Впрочем, нет, не от соответствующей, сконфузился он, вспомнив действительную причину, приведшую к таким последствиям. И не от радости, естественно, а от горя. От радости даже икоты не бывает, тогда, как икота от горя есть счастливое недомогание, именуемое «легко отделался»… И не сразу после войны, но, кажется, в ее процессе. Везла сына-туберкулезника из кисловодсков домой, а он возьми и отдай Богу душу прямо в вагоне. Что делать? Ни зареветь, ни завыть, ни даже заплакать. Ссадят с поезда вместе с покойником да еще и схоронить невесть на каком полустанке заставят. Пришлось всю дорогу до дому делать вид, будто спит сынок не вечным сном, но обычным. Притомился в пути, к тому же нездоров, знобит его, сердечного, свет глаза режет, потому и укрылся с головой… И так далее. До станции назначения. А было сыну что-то около сорока. Матери своей пятнадцатью годами моложе. На станции назначения выяснилось, что ноги ее не слушаются: его вынесли на носилках, ее – на руках…
Мать вышла. Он встал с намерением одеться, справить утренний гигиенический обряд, откушать кофею, словом, выйти в люди и действовать по обстановке.
На спинке стула обнаружилось аж двое брюк. Серые и цвета хаки. Последние, судя по стрелке, являлись выходными. Да и материал у них был какой-то фактурный: лоснящийся, полубликами на что-то намекающий. И тут же вспомнил, что это дело зовется не то лафсаном, не то лавсаном. И любопытство разобрало его: что в оригинале это значит: солнечная любовь, солнце жизни или все же сыновнюю привязанность? Штаны любящего сына – звучит много скромнее, чем брюки солнечной любви, и куда менее кощунственно, чем панталоны сына жизни, способные завести в безбрежный лес евангельских ассоциаций… А пока он забавлялся английскими созвучиями, оказалось, что он уже миновал полутемную гостиную, освещенную электричеством прихожую, дверь ванной комнаты и стоит себе, мнется перед стеклянной дверью, занавешенной изнутри непроницаемо-матовой материей, и недоумевает на вполне законных основаниях показаниям собственных очей. Потому что, ежели это уборная, то почему дверь у нее стеклянная. А если это не туалет, то ведь и не чулан, и не кладовка, тем более, что кухня вот она, двери в нее всегда нараспашку…
– А, – мысленно изрек он про себя да в сторону, ибо память вновь сжалилась над ним, позволив извлечь из своих недр разгадку этого таинственного явления. Да, действительно, это вход в уборную типа ватерклозет, а стеклянная дверь – как прикалывался отец, когда они эту квартиру только-только получили, – телевизор в подарок от строителей…
Телевизор оказался занят. Должно быть, профилактика. Заглянул в кухню.
– Мам, а можно мне кофе… без сахара…
Мать отреагировала немедленно, по-матерински:
– Какой еще кофе! Вот чай с бутербродами. Сам ведь говорил… Рубашку наизнанку надел… А брюки почему домашние? Ты что, в школу не идешь?
– Иду.
– Тогда быстренько переодевайся, умывайся и ешь, а то опоздаешь, уже без пятнадцати…
– Карэнчик! – перебила она сама себя и с взыскательной ласковостью взглянула на стенку, отделяющую кухню от уборной. – Поторопись, сынок, а то Вова не успеет…
И, уже глядя на Вову, который действительно начинал не успевать и даже торопиться, поделилась наболевшим:
– То ничего читать не хотел, замучились тебя в пример ставить, а теперь без книги – никуда. Особенно – в туалет. Между прочим, с тебя пример берет…
– Кого ставили в пример, с того и берет, – рассудительно заметил старший брат. Затем шагнул к стеклянной двери и, воздержавшись от стука, строго уведомил:
– Так, Карэн, официально предупреждаю: ежели я обоссусь, стирать мои трусы, штаны и прочие аксессуары подмоченного туалета будешь ты!
– Вова! – возмутилась мать, – что за выражения! По губам тебе дать…
– Чем это тебе, маманя, аксессуары не угодили? – не скрыл своего удивления сынок.
– Я не аксессуары имела в виду, сам прекрасно знаешь что! – отчеканила, было, родительница, и вдруг вспомнила, а вспомнив, не смогла умолчать:
– И что это еще за «маманя»? С каких это пор ты стал меня «маманей» называть? Фу, терпеть не могу этих «мамань», а еще в особенности, когда «мать» называют…
– Твои антиматеринские идеи, маменька, несколько не вяжутся с твоим интересным положением, ты не находишь?
– Ты нарочно, да?
Стеклянная дверь открылась и выпустила Карэна, – мальчика лет 13-ти, губастого, ширококостного, все еще по-детски припухлого, – местами. В руках книжка. Разумеется. На устах – ехидца младшего брата.
– Идите писать, пожалуйста.
– Сударь, вы сама любезность, – не затруднился с благодарностью старший. И вдруг пригнувшись, чмокнул братца в щечку, юркнул в туалет, быстренько заперся и, переведя стесненный дух, смахнул слезу, ни черта при этом не понимая.
Предательски расцелованный брат исходил за дверью отнюдь не братскими эпитетами типа «дурак», «идиот», «скотина» и даже презренная «сволочь» (не запоздал ли я с кавычками, не словом ли раньше их следовало ставить?).
Телячьих нежностей Карэн терпеть не мог едва ли не с колыбели. Вечно приходилось выклянчивать у него разрешение на ласку, задаривая оторванными от сердца сладостями, задабривая обещаниями… А все от того, что этот тип наотрез отказывался считаться со своим социальным положением и семейным статусом самого маленького. «Подумаешь! Каких-то дурацких два года разницы!» «Не дурацких, а исполненных суровых испытаний взросления и возмужания. И не два года, а два года, один месяц и целых четыре дня!..»
– Ладно, брателло, не гони волну. Вот родится сестренка, соскучишься еще по моей суровой братской ласке. Еще приползешь ко мне на коленях умолять меня о поцелуе, но я останусь тверд и непреклонен…
Тут он, наконец, разобрался с ширинкой, извлек наружу свое хозяйство и не узнал собственного члена. Что-то было с ним не так. Не то чтобы чего-то не хватало, а скорее наоборот, что-то было явно лишним. Однако что именно – с наскоку не разобрать…
– Не дождешься, гад! – кричал между тем брателло за дверью, едва не плача от унизительных перспектив.
Но гад молчал, сосредоточенно исследуя свой причиндал, вертя его и так и этак, и довертелся в результате до того, что мочеиспускаться ему решительно расхотелось, а захотелось размножаться. Точнее, немедленно заняться тем, что способствует размножению. Вот только беда, что не с кем… Он попытался взять себя в руки и для начала спрятал их в карманы брюк. Затем, вспомнив кстати и к месту анекдот, вопросил у собственного члена:
– Чего стоим? Кого ждем?
Член в ответ обиженно промолчал, но стойкости не утратил.
– Будем ссать или глазки строить? – подбросила память еще один анекдот на ту же тему.
– Ты с кем там разговариваешь? – поинтересовалась мать из кухни.
– С унитазом, – соврал он на всякий случай.
– Нашел время болтать! Уже скоро восемь!..
– Слыхал? – обратился он с укоризной все к то же самой части своего организма. – Уже восемь почти, а ты ни бэ, ни мэ, ни кукареку!..
Пристыженный причиндал с мнимой покорностью брызнул струей мимо унитаза. Ну и вредина же он у него!..
Но вот, наконец, он в ванной, старательно мылит руки и разглядывает собственное отражение в зеркале. В отличие от предыдущей встречи в соседнем помещении, омраченной неузнаванием и непониманием, эта вроде бы не сулит никаких отрицательных эмоций. Лицо, отразившееся в зеркале, он сразу признал своим. Ничего лишнего, если не считать зубов. Во всем прочем даже ощущается какая-то нехватка. Ну, например, пушок над верхней губой мог бы быть погуще, пороскошнее, не говоря уже о щетине, роль которой пытаются исполнить несколько длинных разрозненных волосков на подбородке. Зато прыщи удались! Прямо не сопатка, а смоковница цветущая в неурочное время, – дабы взалкавший насытился, а насытившись, благословил, а не проклял…
Тут он решил, что достаточно тверд и психически устойчив, чтобы сейчас же, не сходя с места, узнать о себе всю правду, а не растягивать это сомнительное удовольствие гомеопатическими дозами. Неприятные сюрпризы следует по мере возможности из ближайшего будущего исключать, – насколько это в нашей власти, разумеется…
В его власти было стянуть с себя рубашку, майку и пересчитать ребра своей худобы: спереди без труда, со спины – едва не вывернув шею. То ли торс непропорционально длинен, то ли ноги коротковаты. Зато мускулисты, в отличие от рук и плеч. Длиновыее обличье юного футболиста. На груди ни волоска, на ногах многообещающие побеги. Ясно: верхней частью маменька одарила, нижней – папенька оделил. Физиономия свидетельствует о полюбовном вхождении Восточной Армении в состав матушки России. О рожа, кем вы были?..
– Вова! Ты до сих пор в ванной? Уже…
– Знаю, мамочка: уже двенадцать часов ночи, всем спать!
Ссыпался с лестницы, обогнул пятиэтажный блочный дом, в котором жил, здороваясь направо и налево (молодым – демократический «привет», взрослым – церемонное «здрассте»), догнал не шибко поспешающего брата, окликнул, поравнялся, озадачил вопросом.
– Слушай, Карэн, ты не в курсе, отчего это папаша на меня дуется? Я ему «привет, пап», а он в ответ только взглянул на меня, как вошь на лысину, вздохнул тяжко и – в ванную…
– А то ты не знаешь, – фыркнул скептически младший брат.
– Кабы знал, не спрашивал. А ты, если тебе не трудно, сначала ответь на вопрос, а уж потом давай волю своему скепсису…
– А ты не мог бы говорить со мной нормально, а не так… по-идиотски?
– Ладно, я не собираюсь открывать дискуссию о моем синтаксисе и лексиконе. Во всяком случае, не сейчас. Итак, что я натворил?
Карэн сделал по инерции несколько шагов и встал, как вкопанный. Владимиру тоже пришлось остановиться.
– Ты серьезно, Вов?
– Более чем.
– У тебя что, память отшибло от переживаний?
– Напрочь. От волненья, от осознанья и просветленья…
– Кто это сказал? – встрепенулся Карэн.
– Не сказал, а спел. Высоцкий. Ответишь, напою тебе по дороге всю песню. Называется «Милицейский протокол»…
– Ладно, идет. Ты ничего особенного не натворил: просто решил в Америку смыться на пару со своим одноклассником Еремом и еще одним парнем, не знаю, как его зовут, он не из нашей школы…
– И что, сержант Карацюпа со своим верным Индусом остановил нас на канадской границе?
– Ага, Карацюпа с Индусом, как же! Наши родственники нашли вас на ленинаканском вокзале. Вы вроде как в Москву собирались двинуть…
– Изумительный план: пересечь границу по воздуху в багажном отделении лайнера «Панамерикэн»! Причем зимой! Предполагается, что коварные капиталисты не только герметизируют багажные отделения своих самолетов, но и оснащают их центральным отоплением: для удобства нелегальных перебежчиков… Ты не в курсе, братишка, нас психиатрически освидетельствовали?
– Вов, а вас в КГБ били?
– Ты же сказал, нас родственники нашли…
– Ну да, нашли, а потом вас в КГБ забрали…
– Спасение утопающих – дело рук самих утопающих! Вы нам только разыщите всех шпионов, предателей и вредителей, а уж мы с ними разберемся.
Замечательно устроились, господа чекисты!..
– Вов, а зачем ты в Америку бежал?
– Что называется, вопрос на засыпку, засолку и закатку. Хотел бы я знать, чего я в этой Америке не видел.
– Отцу ты сказал, что вы собирались поднять американский пролетариат на борьбу с американским империализмом, для чего с собой и Маркса прихватили…
– Одного? Или вместе с Энгельсом?
– Ну, если «Коммунистический манифест» они вместе сочиняли, значит, обоих.
– И что отец?
– Сказал, что хотя вы и дураки, но не безнадежные…
– Он нам польстил. Из педагогических соображений, наверное…
– Слушай, а ты, правда, ничего не помнишь или придуриваешься?
Они вышли из пределов своего микрорайона, пересекли оживленную мостовую и углубились в следующий, в котором и находилась школа.
– Нет, кое-что я все-таки помню. Помню, что собирался в Америке встретиться с Джоном Ленноном и строго спросить у него, за каким хреном ему понадобилось портить «Белый альбом» своим ужасным «Revolution Nine»…
– А это которая вещь? Напомни мелодию…
– Слушай, Карэн, если бы у нее была мелодия, я бы не имел к Джону никаких претензий. Да и вообще может быть ни в какую Америку не побежал бы… Кстати, эти широченные штаны, это что, мода такая? Ни фига себе ветрила: ходишь как яхтсмен под парусом…
– Опять?! Кончай придуриваться!
– Ладно, не шуми, прости, братик. Придуриваться – мой крест. А крест в наших социалистических краях эмблема запрещенная. Как в Штатах красная пятиконечная звезда. Вот я и мечтал, чтобы меня с моим крестом обменяли на Гесса Холла с его звездочкой…
– А кто этот Гесс Холл?
– Двоюродный папа Анджелы Дэвис. Стыдно не знать платных мучеников коммунизма, особенно американских!
– Да ну тебя, Вовка! Сволочь ты…
– Сволота я сволота, сволочь безобразная. Сволота и гопота хвори незаразные… Карэн, а ты стихов еще не пишешь?
Смущение брата было минутным, но искренним. Он не стал настаивать на ответе, зачастил обещанное с характерной хрипотцей: «Считай по нашему мы выпили немного. Не вру, ей-богу; скажи, Серега. И если б водку гнать не из опилок, то чтоб нам было с пяти бутылок?..»