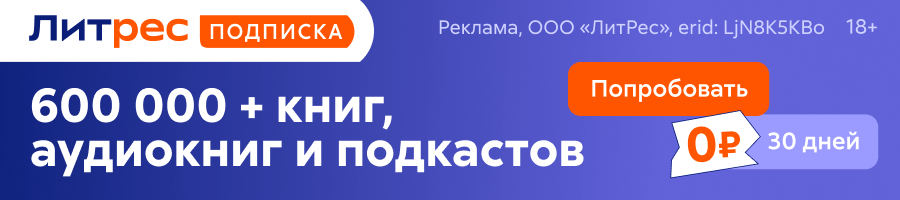ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава 1.
Приглашение принять участие в императорской охоте не столько польстило, сколько насторожило. Граф не был особенно близок ко двору, за что благодарить следовало, скорее всего, одного вольнодумного родственника, в свое время имевшего неосторожность перейти в лютеранство. Случилось это еще при покойном Максимилиане, когда смена конфессии не рассматривалась как покушение на священные устои Империи, но с тех пор многое изменилось – его величество Рудольф Габсбург не унаследовал веротерпимости августейшего родителя. Не только протестанту, но и его потомку трудно было теперь рассчитывать на сколько-либо завидную синекуру.
Сам Варкош пребывал в лоне римской церкви и никогда даже в мыслях не склонялся к виттенбергской ереси, однако род был непоправимо запятнан вероотступничеством. Не исключено, что это и было косвенной причиной назначения графа с дипломатической миссией к московитам – схизматикам почище зловредного Лютера.
Уж этот пост никак нельзя было назвать синекурой. Московия порой представлялась ему попросту домом умалишенных, а порой подобием открытой Колумбусом Западной Индии – изобильной и щедрой (несмотря на суровый климат) на дары природы, и так же населенной дикими аборигенами, не имеющими аналога в цивилизованном христианском мире. В самом деле, московиты определению поддавались с трудом и в поступках своих бывали непредсказуемы. К иноземцам были доброжелательны и охотно брали их на государственную службу, щедро наделяя землями; и в то же время повседневное общение с ними затруднялось подозрительностью и недоверием, очевидно сохранившимся от времен Иоанна. Судя по рассказам старожилов, тогда иметь дело с иноземцами позволялось лишь купцам, да и то с особого позволения; теперь таких строгостей не было, но все равно чувствовалось, что в каждом иноземце русские видят скрытого недруга, прибывшего сюда с недобрыми намерениями…
Поэтому работать в Москве было непросто даже обычному резиденту, Варкоша же прислали с четким заданием – позондировать возможность заключения военного союза против турок, которых никак не удавалось угомонить в Венгрии, или хотя бы добиться от Москвы ощутимой материальной помощи. Как и следовало ожидать, воевать с османскими полчищами русские не хотели, а помочь обещали – правда, не пушками и порохом, а мехами. Варкош, когда впервые услышал обо всех этих соболях и куницах, решил было, что над ним просто издеваются; но ему назвали стоимость этого товара, и он успокоился. Соболей и прочее русские обещали поставить в огромных количествах, на общую сумму в полсотни тысяч рублей. Сомнительно, правда. было, удастся ли их продать в Европе так выгодно.
Принципиальная договоренность о поставке куниц и была, собственно, единственным достижением графа Варкоша. О военном союзе с Веной Москва и слушать не хотела, да оно и понятно: ей хватало своих забот со Швецией, с Польшей, которая теперь, подписав, наконец, долгожданную Люблинскую унию, объединилась с Великим княжеством Литовским и образовала единую Речь Посполиту – государство весьма бестолковое по внутреннему укладу, но превращенное воинственным королем Стефаном в едва ли не самую грозную потенцию Восточной Европы. Московским схизматикам от нее, во всяком случае, досталось крепко. Ливонская война, сдуру затеянная Иоанном без малого полвека назад, еще при его жизни закончилась сокрушительным поражением – русские хотя и сумели отстоять от Батория Псков, все же потеряли в конечном итоге куда больше, чем успели захватить вначале, пока Беллона им благоволила.
Но Иоанн был безумец, одержимый захватнической манией (привыкший к легким победам над азиатами, он и на Запад ринулся в самонадеянном убеждении, что Литва и Ливония окажутся не прочнее Казани или Астрахани). Теперь же на московском престоле сидел Феодор – полная противоположность родителю. Тот, хотя и исчадие ада, был личность яркая и талантливая, Феодора же недоброжелатели считали попросту скудоумным. Сам Варкош так не думал, царь представлялся ему скорее человеком не от мира сего – в России таких немало, их зовут «юродивые». Австрияк не вполне понимал значение этого слова, но догадывался в общих чертах; конечно, молодого царя трудно было представить себе появившимся на Красной площади босиком и в веригах, но граф не удивился бы, узнав, что он на досуге беседует с птицами наподобие Франсиска Ассизского.
Юродивый, скудоумный или просто человек, преисполненный несвойственной правителям христианской кротости, Феодор во всяком случае не представлял прямой опасности для окружающих. У графа Варкоша, правда, не было уверенности, что правление кроткого царя окажется в конечном счете таким же безопасным для Московской державы; ибо чем ближе он ее наблюдал, тем труднее было ему отделаться от мысли, что московитам мягкая и избегающая принуждения власть вообще противопоказана.
Когда гонец привез повеление прибыть в Прагу, он воспринял этот отзыв (неясно было, временный или окончательный) как лишнее указание на то, что им недовольны – скорее всего именно потому, что он до сих пор никак себя не проявил. Однако неудовольствие выражено не было, канцлер принял его с обычной для него равнодушной любезностью, не проявив особого интереса к московским делам, и порекомендовал пока отдыхать и ждать новых инструкций. Хорошо зная, как неспешно эти инструкции обдумываются и составляются, граф Варкош настроился на длительное безделье и решил было воспользоваться им, чтобы попытаться навести хотя бы видимость порядка в своих безбожно расхищаемых управляющими имениях; но оказалось, что отлучиться из Праги нельзя, ибо его императорское величество однажды высказал интерес к положению в Москве и осведомился, как скоро прибудет отправленный туда эмиссар. Следовательно, в любой день может последовать приглашение на высочайшую аудиенцию.
И вот приглашение последовало – но не в Градчаны, как можно было ожидать, а на участие в охоте. Варкош, не будучи искушен в толковании тонкостей придворного этикета, остался в недоумении – следует ли это рассматривать как проявление высочайшего благоволения, или наоборот. Его величество, явно не собираясь давать ему личную аудиенцию, предпочел побеседовать на досуге – может быть, уединенно?
Все оказалось совсем не так. Охота была по обыкновению многолюдная, шумная и пышная, и граф скоро увидел, что император вообще не намерен отвлекаться от любимого развлечения ради какой-то скучной политики. Хотя Рудольфа Габсбурга скудоумным и не называли, главным его интересом были лошади и все с ними связанное; нудные же вопросы государственного управления он предоставил решать своим министрам и даже не стремился узнать, как они с этим справляются. Как-то справлялись, коль скоро государство продолжало существовать и налоги худо-бедно поступали в казну. На привале граф позаботился о том, чтобы попасть на глаза его величеству, и в том преуспел – был увиден, узнан в лицо и даже удостоен милостивого приветствия (правда, будучи вместо Варкоша назван «Фаркашем»; виною тому могла быть плохо расслышанная подсказка). Но о намерении узнать, как шли в Москве переговоры о создании антиосманской коалиции, император даже не заикнулся. Так что смысл приглашения остался еще более загадочным.
Впрочем, граф не жалел, что принял его. Он не был большим любителем охоты, тем более такой помпезной, всегда превращаемой в великосветский церемониал, но верховые прогулки были ему в радость, день выдался погожий, и после уныния подмосковных лесов живописные холмы и долины Южной Богемии пленяли поистине сказочным великолепием. Королевские охотничьи угодья изобиловали красной дичиной, и к вечеру было истреблено немалое количество косуль и оленей, добыли даже нескольких вепрей – правда не из матерых. За ужином в замке местного магната его величество то и дело восхищался столь удачным днем.
Когда гости, отягощенные съеденным и выпитым, с трудом выбирались из-за столов, следуя примеру удалившегося первым императора, к Варкошу подошел паж с известием, что графа ждет его светлость господин канцлер. Наконец-то! Граф мысленно похвалил себя за предусмотрительность, подсказавшую ему не пить за ужином более самого необходимого, князь Дитрихштейн был, всем на изумление, великим трезвенником, и предстать перед ним в подвыпитии было самым верным способом поставить крест на своей карьере.
Из-за множества наехавших охотников небольшой замок был переполнен, и даже для канцлера нашлась лишь тесная комната, куда ухитрились втиснуть походную койку. На ней Дитрихштейн и возлежал в непринужденной позе, закинув руки под голову.
– Простите, дорогой Варкош, что я несколько неглижирую правилами политеса, но мне уже просто невмоготу, – сказал он. – День в седле и еще несколько часов за столом превратили меня в развалину, эти забавы мне уже не по возрасту… Садитесь вон туда и чувствуйте себя свободно. Я позволил себе пригласить вас не для официального отчета, это было бы жестоко после такого дня… тем более, что мне о московских переговорах все известно, у меня ведь свои источники информации. Я хочу спросить о другом. От своих информаторов я приблизительно представляю себе – в общих чертах – доминирующие тенденции внешней политики Москвы. Но что там происходит внутри? Донесения, поступающие через Краков, во многом противоречат тому, что сообщают московские резиденты. Кто, собственно, правит сегодня в Москве – царь Феодор? Или шталмейстер Годунов? Кстати, он действительно в родстве с супругой Феодора?
– Он ее родной брат.
– Ах, даже так. И там еще есть некий «ближний дьяк» Щелкалов – насколько я понимаю, мой коллега, канцлер?
– Да, он возглавляет Посольский приказ.
– И, говорят, пытается забрать в свои руки многое другое. Это все по одну сторону барьера, так? По другую изготовилась к бою боярская оппозиция – все эти Шуйские, Милославские и кто там еще, мне не удержать в памяти их имена. При таком расположении сил схватка неизбежна; вы не задавали себе вопроса – кто выйдет победителем?
– В Москве нет сейчас человека, который бы его не задавал. Мнения очень разные, ваша светлость. Лично я поставил бы на царя Феодора.
Дитрихштейн поднял брови и, не поворачивая головы, искоса бросил на собеседника удивленный взгляд.
– Странно. Он же, говорят, совершеннейший дурак… и к тому же слаб здоровьем?
– Насчет умственных способностей царя ничего сказать не могу, мне не довелось беседовать с ним на высокие темы, а здоровье – да, телосложением он не могуч, но что из того? Время королей-рыцарей миновало, сейчас от государя не требуется уменье вышибить противника из седла…
– Но он должен уметь сокрушить его дипломатическим искусством, а московский царь, насколько мне известно, не блещет талантами и в этой области. И все же вы считаете, что он способен одержать победу в схватке с боярами?
– Да. Дело в том, что за его спиной стоит Годунов.
– И что же?
– Ваше превосходительство, будущее Европы за людьми этого типа.
– Простите, не совсем улавливаю вашу мысль.
– Борис Годунов, если я верно понимаю его характер, олицетворяет идею автократического правления… которая, как ваше превосходительство несомненно видит, все настойчивее – какую бы страну мы ни взяли – оттесняет унаследованные от прошлого попытки рассматривать государство как некий конгломерат крупных феодов, лишь номинально подчиненных сюзерену. Европа вступает в эпоху, когда верховная власть в государстве будет все решительнее принуждать вассалов к подчинению не номинальному, но фактическому.
– Ну, не так уж это ново, во Франции Людвиг Одиннадцатый занимался этим уже сто лет назад.
– Разные страны приходят к этому разными темпами, у одних получается скорее, у других медленнее. Попробуйте-ка навести автократический порядок в этом литовско-польском бедламе!
– Стефану это удавалось… отчасти.
– Едва ли это можно было назвать порядком. Ему подчинялись просто потому, что он сумел убедить и поляков, и литовцев в выгоде такого временного подчинения: вместо того, чтобы бесчинствовать на своей земле, где не осталось уже ничего неразграбленного, Баторий повел их грабить московитов. И потом это вообще не показатель, во время войны верховная власть всегда крепнет.
– Тут позвольте с вами не согласиться, – возразил канцлер. – Она крепнет во время успешной войны, военные неудачи приводят ее к катастрофе. Впрочем, это не существенно; вы, значит, считаете, что будущее за автократическими режимами, и именно в этом видите силу Годунова?
– Он ее уже имеет – ему официально дан титул «правителя», для России это вещь неслыханная. Там издавна считалось, что в стране может быть лишь один правитель – великий князь, царь. Словом, венценосец.
– Ну, это уже игра слов. Думаю, «правителем» Годунова нарекли лишь в некотором переносном смысле.
– Несомненно. Но власть этого человека в том, что Феодор ничего не может сделать без его одобрения. Или вопреки его желаниям.
– Это власть временщика, не следует переоценивать ее прочность. Меня интересует, может ли Годунов когда-нибудь оказаться на московском троне?
– Помилуйте, ваша светлость, каким же образом? Феодор слаб здоровьем, но его жизни пока ничто не угрожает… насколько мне известно. Кроме того, у него есть брат, сейчас ему лет семь, и случись что с Феодором, право на трон перейдет к Димитрию. В этом случае, разумеется, Годунов может стать регентом… хотя и это сомнительно. Превратившись из царского шурина в брата вдовствующей царицы, он сразу потеряет свое влияние. Бояре его ненавидят, горожане уже дважды поднимали в Москве бунт и осаждали кремлинскую цитадель, требуя истребить всех Годуновых…
– Да, я об этом слышал. За что их так не любят?
– Трудно сказать. Горожан, похоже, науськивали бояре, а те просто завидуют фантастической способности Бориса извлекать выгоду из любого оборота судьбы. Он был в фаворе у Иоанна, ухитрился выдать сестру замуж за царевича, сам женился на дочери ненавистного всем Скуратова-Бельского – начальника сыскного ведомства при Иоанне, человека настолько свирепого, что москвичи дали ему прозвище «Малюта»…
– Даже звучит жутко, – с содроганием заметил Дитрихштейн. – Малюта! И этот зверь еще жив?
– Нет, его давно убили в Ливонии. Так что у Годунова, в сущности, нет иной опоры, кроме Феодора и царицы Ирины.
– Но, это тоже немало… пока. – Канцлер помолчал, потом сказал доверительным тоном: – Граф, нам необходимо как можно полнее представлять себе размах замыслов и дел московского «правителя». Я не берусь сейчас судить, правы ли вы в своей оценке его как выразителя неких исторических доминант, но что он человек незаурядный – это несомненно. И, может быть, судьба не случайно поставила его рядом с таким безвольным и, в сущности, недееспособным царем. Скажите откровенно, вас очень тяготит пребывание в Москве?
Варкош помедлил с ответом, не совсем уловив смысл такого вопроса.
– Временами, да… бывало трудно. Да и вообще московская жизнь во многом убийственно действует на восприятие человека, выросшего и воспитанного здесь. Но там… не знаю даже, как лучше объяснить, и понятно ли это будет тому, кто там не побывал. В России есть что-то притягательное, хотя убейте меня, если я знаю, что это такое. Мне во всяком случае, там было… интересно. Причем понял я это в полной мере только теперь, уже уехав оттуда.
– Словом, насколько понимаю, вы не отказались бы туда вернуться.
– Не отказался бы, но зачем? Если мне не удалось выполнить то, для чего меня посылали…
– Дело не в этом. Я, кстати, никогда и не возлагал особых надежд на военный союз с Москвой… против турок, во всяком случае. Москва – или, скажем шире, Московия как сложившееся государственное единство – интересует меня не как возможный союзник в той или иной войне; я хотел бы иметь более ясное представление о ней самой. Вас мои слова могут удивить, но мне угадывается в этой стране какая-то скрытая потенция, способная когда-нибудь радикально изменить весь баланс сил в Восточной Европе…
– Меня, ваша светлость, ваши слова не удивили, – заметил Варкош.
– Значит, мы друг друга понимаем – тем лучше. Это мое мнение разделяют немногие, большинство в своих представлениях о России опираются на Гваньини, на Штадена… не желая понять, что с тех пор многое изменилось. Помнится, вы однажды сказали мне, что Иоанн был, по сути дела, сумасшедшим; такие же отзывы о нем я слышал и от других, однако нельзя отрицать, что политик это был превосходный… Свою страну, во всяком случае, он передал сыну не такой, какую получил от отца.
– Хотя я не уверен, что перемены пойдут ей на пользу… в конечном счете, – заметил Варкош. – Тирания разлагает общество, разрушает мораль…
– Ну, это уж у вас рассуждения в духе итальянских гуманистов! По части морали вполне с вами согласен, истинно нравственным может быть только свободный человек, но что из того? Политика и мораль вообще несовместимы, это понятия взаимоисключающие, и горе тому государю, которому взбрело бы в голову управлять по заповедям Нагорной проповеди. А насчет того, что больше разлагает страну, – тирания или безвольная власть вроде той, которую сегодня осуществляет ваш Феодор…
– Ваша светлость ошибается, – почтительно сказал Варкош. – В России есть безвольный царь, но безвольной власти нет, ибо реальную власть осуществляет Годунов, а его можно обвинить в чем угодно, но только не в безволии.
– Не зря же он был клевретом Иоанна. Кстати, верно ли то, что мне говорили, будто в Москве до сих пор его оплакивают?
– Бояре – нет, но простой народ поминает добром. В памяти горожан Иоанн остался как государь суровый, но справедливый и могучий.
– Вот видите! И, насколько помнится, был случай, когда он в припадке раскаяния объявил, что слагает с себя власть, и удалился из Москвы; так вся эта публика умоляла его вернуться и не оставить их сиротами. После чего он вернулся и учредил эту жуткую оприш… – как называли его преторианцев, что украшали себя песьими головами?
– Опричники, ваша светлость.
– Да, что-то в этом роде. В общем, насколько я понимаю, Иоанна любили, хотя он был не просто тиран, но еще и безумец. А вы говорите, тирания вредна обществу!
– Обществу, но не государству. Государство, тут я не посмею вам возразить, тиранией укрепляется. Вопрос лишь – надолго ли? Мне трудно представить себе прочное государство, в котором общество безнравственно. Ваша светлость помнит историю заката Римской империи – все-таки по-настоящему он начался с цезарей, со всех этих Тибериев и Неронов…
– Он начался с появления христианства, но не будем отвлекаться. Я говорил о потенциальной возможности превращения России в весомый фактор восточноевропейской политики, и как раз правление Иоанна, мне думается, доказало эту возможность. Следовательно, с ней мы должны будем считаться. Из того триумвирата, что сегодня правит в Москве, Феодора можно исключить сразу, как фигуру декоративную и, скорее всего, недолговечную. Остаются Щелкалов и Годунов, но они уже не в ладах между собой, и нетрудно предугадать, кто одержит верх. Годунов же, в какой бы форме он ни получил реальную власть – он может оставаться «правителем» при нынешнем царе, или стать регентом при несовершеннолетнем царевиче, – в любом случае Годунов будет делать то же, что делал Иоанн. Иными словами, крепить верховную власть в ущерб привилегий и феодальных вольностей боярской аристократии. Это воспрепятствует сближению Москвы с литовско-польским союзным государством, где доминирует как раз обратная тенденция. А такое сближение, как вы понимаете, было бы весьма опасно и, к сожалению, еще недавно могло стать реальностью – когда после смерти короля Стефана они чуть было не отдали корону московиту. Только представьте себе, что будет, объединись эти три славянских народа в единое государство!
– Едва ли это возможно, ваша светлость, – возразил Варкош, – И слишком разделяет церковный вопрос – русские так же нетерпимы к католикам, как поляки к православным.
– Что из того? Умеет же Империя держать под одним скипетром народы и католической, и лютеранской конфессий, а там нетерпимости не меньше. Нет, нет, граф, русско-литовско-польский союз вполне возможен, хотя бы в отдаленном будущем, вот почему меня так интересует, что же происходит в этой загадочной Москве. Вам придется там еще поработать, причем хорошо бы с надежным помощником… Я имею в виду человека, способного наладить с русскими более тесные и доверительные отношения, чем это сможете сделать вы – иностранец.
– Увы! – сказал Варкош. – Я сам давно о таком мечтаю, но где его взять? Любой московит будет не до конца доверять мне, так же как и я ему… А привезти кого-то отсюда – он будет там таким же иноземцем, как и я сам. Разве что…
Он помолчал, потом сказал нерешительно:
– Мне только сейчас пришло в голову… Я тут познакомился в Вене с одной молодой дамой, у ее мужа имение рядом с моим, в сущности мы соседи. Выяснилось, что она по крови русская, родители бежали в Литву много лет назад, примерно в одно время с Курбским – помните такого? Так вот, зашел разговор о ее братьях – старший унаследовал какое-то баронство в Пруссии и совсем, говорит, онемечился, а младший, напротив, мечтает если не вернуться в Москву, то хотя бы там побывать…
– В качестве кого? – спросил Дитрихштейн. – Он что, занимается коммерцией?
– Нет, нет. Я не совсем понял, чем он занимается, но он вроде поездил по свету, знает языки…
– Ну, что ж, – подумав, сказал канцлер и подавил зевок. – Свяжитесь с этой вашей русской приятельницей, пусть сведет вас со своим братом. Не исключено, что он и впрямь сможет вам пригодиться.
Глава 2.
Боярин был не в духе, и известие о пришедшем в неурочный час госте не улучшило его настроения. Однако не принять Вельяминова было нельзя – тот, несмотря на невысокий (в сравнении с самим Салтыковым) род, был близок к верхам и занимал в Посольском приказе довольно видное место, пользуясь труднообъяснимым расположением самого Щелкалова. Пришлось взять посох, идти встречать – не на крыльцо, понятно, слишком много было бы чести.
По озабоченному и даже чуть ли не встревоженному виду гостя боярин сразу понял, что тот явился не попусту; поэтому повел Петра Афанасьевича сразу в особый свой укромный покой, где – как он знал – подслушать было нельзя и где он принимал некоторых своих особо доверенных единомышленников. Туда же мановением руки велел выскочившему домоправителю подать все для угощения.
Стол накрыли во мгновение ока, но Вельяминов от яств отказался, пригубил лишь рейнского. Поскольку были наедине, обошлись без положенных здравиц (при свидетелях не выпить, скажем, за многолетие и благоденствие великого государя Феодора Иоанновича было небезопасно; теперь это, конечно, не могло уже навлечь на дерзновенных всю грозу державного гнева, как было при блаженныя памяти Иоанне Васильевиче, но навредить могло). Потом, не тратя времени на пустой разговор, Салтыков спросил гостя, с добрыми иль худыми вестями тот пожаловал.
– Да ведь оно, Василий Андреич, как поглядеть, – сказал Вельяминов. – Весть, вроде бы, и худая, а обернуться может добром. Тут наши из Кракова вернулись, а пред тем были в Вене, при кесарском дворе. И приехал с ними Якубка Заборовский, толмач наш приказный, я вроде бы тебе про него говорил…
– Заборовский, Якубка? Не припоминаю.
– Ну, то и Бог с ним. Невелика птица, чтобы про него помнить. Якубка тот у меня вроде как на службе – сколько ему ефимков от меня уже перепало, боюсь и не счесть. Мыслю, не только от от меня… Голову могу прозакладывать, что он и с ляхами снюхался, и им свои тайные весточки сбывает не без корысти.
– А вот это уже опасно, – заметил Салтыков. – Схватят твоего Якубку с поличным, может и к тебе ниточка потянуться.
– Ко мне-то за что? Я не литвин, не лях, а что плачивал ему порой – так может просто скудости его ради. Жалобился, мол, что жалованье вовремя не выплачивают, я ему и выделил – от щедрот.
– Там тоже не дураки сидят. Так тебе и поверят, что от щедрот, «скудости ради»… Ну ладно, поведай, что тебе твой толмач на сей раз сбыл, какую такую тайную весточку.
– Такую, Василь Андреич, что ты и ушам своим не поверишь. У меня тоже была сперва мысль – не ложно ли доносит. Да нет, вроде непохоже, ему ж самому то было бы не с руки. Лжецу-то кто же платить станет? Так вот, донес он мне вот о чем. Помнишь, государь зимою занедужил? Еще этот лекарь аглицкий говорил – худая, мол, у него хворь, как бы беды не случилось…
– Ну, помню, помню. И что же?
– А то, что Бориска Годунов послал тогда в Вену своего человека с тем известием, что великий государь, мол, помирает. И он, Бориска, кесарю бьет челом – буде царица Арина овдовеет, чтобы прислали сюда из кесарских земель какого ни есть ихнего прынца, дабы того кесаренка женить на Арине и, окрестивши в православную веру, венчать на царств…
– Ну, это уж загнул твой Якубка, – недоверчиво вымолвил Салтыков. – Чтобы кесаренка нехристя – на московский престол? Прости, Петр Афанасьич, до такого даже Бориска не додумается…
– Ан додумался, Василь Андреич, хочешь верь, хочешь не верь. Не верить оно конечно отраднее, да что толку. Да и чего ты опасаешсья? Бориска, при всем своем уме, тут оплошал, видно его нечистый попутал такое замыслить. Кесарцы на его богопротивный замысел не польстились, а тут еще и государь выздоровел благополучно, так что австрияку – хоть бы и выкресту – на нашем престоле не сидеть. А вот службу нам это может сослужить большую: коли государь проведает, как его женушку при живом-то муже – да еще болящем! – за нехристя сватали… Да тут не только государь Феодор Иоаннович, тут ведь и ляхи вознегодовали, как про это дознались…
– А что, дознались уже?
– Якубка говорит – да, им про то ведомо.
– От него же и узнали, – проворчал Салтыков. – Да это неважно, от кого… Однако ты прав, Борискина эта промашка может обернуться для нас изрядным добром… коли умело за нее взяться. Нет, но он-то каков, а? Сестрицу, значит, за австрияка, тот в русских наших делах ни уха ни рыла, а царицын братец тут как тут – главным советником, вроде как великий визирь при турецком салтане… Ну, пакостник, ну, татарское отродье!
Салтыков прошелся по палате, пропуская бороду сквозь пальцы, Вельяминов допил свой кубок и, все же соблазнившись, взял с торели ломоть севрюжины, стал лениво жевать.
– А австрияки что ж, – сказал Салтыков, – про царевича Димитрия и не вспомнили – когда Борискин человечек заговорил о венчании на престол ихнего прынца?
– Шел разговор и про царевича. Про него Борискин посланец сказал так: у Димитрия, мол, нету права наследования, понеже сей отрок рожден не от законной жены, но от женщины – православная де церковь седьмого брака не признает, а посему он может считаться лишь бастардом, сиречь ублюдком.
– Нагие им покажут «ублюдка», – проворчал боярин, снова присев к столу и наливая еще вина. – Однако насчет седьмого брака он прав, тут не возразишь…
– Государевых жен не считают, – возразил Вельяминов, – вон их сколько было у Инрика, отца аглицкой Лизаветы.
– То-то он из-за них с папежем разодрался… Римская церковь хотя и безблагодатная, однако же закон тоже блюдет.
– Да наша-то православная не больно блюдет. Небось с Марьей Нагой Васильич не в блуде жил, а был с нею обвенчан. А вспомни-ка, отца его как женили на Глинской – при живой-то жене! С царевичем получиться может по-всякому… Одолеет Бориска – быть Димитрию в ублюдках, да это ведь еще бабушка надвое сказала, кто кого пересягнет…
– А это уж наша забота, чтобы Бориска не одолел, – хмуро сказал Салтыков.
Вельяминов помолчал, вертя в пальцах двузубую вилку немецкой работы, с богато украшенным резьбой костяным черенком. Хозяин дома, хотя и придерживался старых обычаев, охотно перенимал от иноземцев разные новшества, которых дотоле не знали в русском быту. За это чужебесие Вельяминов его не одобрял – к чему было, скажем, заводить вилки? Измышление явно сатанинское (достаточно глянуть на любую икону с картиной Страшного суда), да к тому же небезопасное в употреблении. Брать яства руками куда способнее, и можно не опасаться, что второпях – проголодавшись – пронзишь себе язык…
– Тут, Василь Андреич, иной раз не знаешь, чего и хотеть, – проговорил он негромко, отложив вилку в сторону. – Годуновым воли давать нельзя, и Бориска из них самый зловредный… поистине лев рыкающий, ищаху кого пожрать. Однако, ежели у власти окажутся Нагие…
– На тех управу легче найти, это тебе не Годуновы.
– А найдем ли потом управу на Димитрия – когда он из царевича царем станет? Про него уже теперь такое иной раз услышишь, что не по себе становится…
– Да, нравом он в батюшку, – согласился Салтыков. – Тот ведь, сказывают, тоже в отрочестве еще нрав стал проявлять. Но про Димитрия что тут гадать, каким он станет на царстве… До этого еще далеко, да и доживет ли… Слыхать, падучая у него? Да-а… худой оказался корень у блаженныя памяти Иоанна Васильича – Феодор хил и скудоумен, у Димитрия падучая… Один лишь Иоанн Иоаннович был телом и умом крепок, так с ним вишь какое приключилось…
– Не приключись тогда с ним, приключилось бы потом с нами. Из нашего брата многих бы давно уж в живых не было, взойди он на отцовский престол… Это уж, видно, сжалился Господь над Русью, коли попустил Иоанна Васильича самому руку наложить на свирепого своего наследника. Феодор-то Иоаннович разумением хоть и не блещет, да при нем – дай ему Бог здоровья – людишки хоть дышать стали вольготнее. А вот как оно при Димитрии будет…
– Говорю тебе, до этого еще далеко, – с досадой повторил Салтыков. – А Годунов вот он, рукой подать… он же на Феодора Иоанновича походить не станет, коли до прямой власти дорвется. Этот ведь из таких, сладкоречивых… стелет мягко, а каково спать-то будем? Мыслю, не зря был он в милости у покойного государя… видать, свойственную душу угадал в нем Иоанн Васильич, коли остатние годы неотлучно держал возле себя. Да что про него толковать! Дядька евонный, Димитрий Иваныч – он тогда постельничим был, как опричнина-то устроилась, одним из первых ведь стал кромешником, а после и племянничка своего к ним же приписал. А заодно и с Малютиной дочкой его сосватал. Вот и понимай, каков он есть, этот Бориска… в ты говоришь – «не знаю, мол, чего и хотеть»! Твоя же весточка, что нынче принес – про австрияцкого-то прынца, – это уж и вовсе сущее воровство! Про такое и государю-то не донесешь – не поверит. Облыжный, скажет, извет на любезного шурина…
– Государю донесут, – заверил Вельяминов. – Якубка сказывал, в Варшаве ноту готовят по сему поводу. Затеянное Бориской сватовство ляхи приняли как великую для себя обиду – мы де после кончины Баториевой едва не вручили корону царю Феодору, в сейме по сему поводу была великая пря – избрать ли Феодора, или австрийского Максимилиана, или шведского Вазу; а в Москве и не подумали подыскать если не поляка, так хотя б литвина в мужья царице, буде овдовеет…