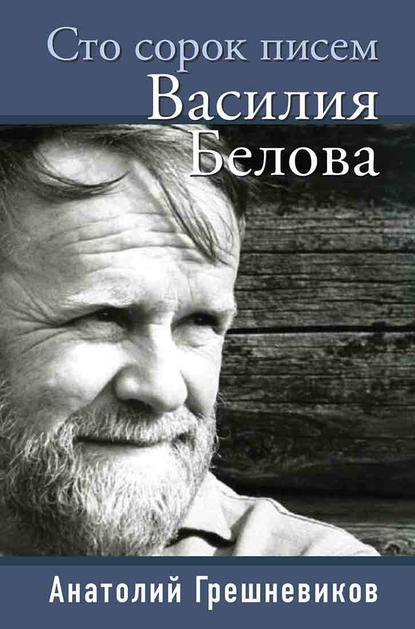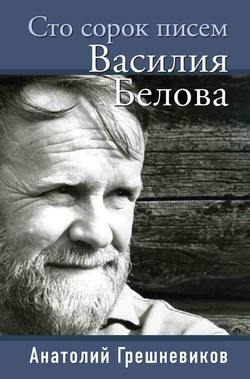
000
ОтложитьЧитал
Письмо третье
Толя, поздравляю с Новым 1996-м, с Рождеством Христовым и с новой твоей победой на выборах!
Ты молодец, что успеваешь еще и книги выпускать. А я то ли лентяй, толи неудачник (книгу в «Голосе», новую, пока придерживают). Не знаю, соберусь ли сделать статью на твой «Букварь», так как письмо брату и то написать проблема… Бывают времена полного отвращения к листу чистой бумаги.
Слушай, поздравь от меня Глотова! Надеюсь, от сербской темы он не отступит, как и ты, и Бабурин. Как, какими способами лезут в Думу гдляны и старовойтихи? Мне это не ясно абсолютно.
И брось называть меня на «вы», а то поругаемся.
Будь здоров и дорожи вдохновением. Устареешь – оно будет являться реже и реже.
Белов.
31 декабря 1995 г.
В конверт вложено другое письмо. Оно адресовано Белову от С.Н. Тетерина.
На чужом конверте Белов пишет мне:
Толя!
Погляди, пожалуйста, эти бумаги. Может, подсобишь восстановиться на работе Сергею Николаевичу Тетерину (моему земляку)?
Поздравляю с победой на выборах и с началом третьего «тайма»! Белов.
«Новая победа на выборах», как пишет Белов, далась мне слишком тяжело. Против меня конкуренты использовали миллионы рублей, криминал, продажную полицию, административный ресурс, фальсификации. Белов хорошо знал подноготную выборной кампании, подбадривал меня, давал советы, потому не случайно использовал в письме слово «победа».
Безусловно, понимая, как трудно завоевать доверие людей на выборах, ему непонятно было, каким образом в Думу прошли одиозные политики Гдлян и Старовойтова. Дать нелицеприятную, но объективную оценку деятельности того или иного политика может не каждый человек, а лишь тот, кому свойственны прозорливость и житейский опыт. Белов мог в один миг распознать характер человека, ибо нутром чувствовал его сущность. Бывшего следователя Гдляна ругал за карьеризм, Старовойтову – за русофобию. Мне приходилось общаться с этими депутатами. Мои оценки мало чем отличались от беловских. На сессиях парламента я критиковал Старовойтову и ее коллег-демократов за приверженность идеям расчленения России, за брезгливое отношение к русскому крестьянину. А с Гдляном я ездил в Сербию и, послушав его длинные и менторские рассуждения о жизни, понял, что он не только карьерист, но и беспринципный человек.
В 1995 году московское издательство «ЭКОС-информ» выпустило в свет мою новую книгу «Экологический букварь». Она вышла в рамках Федеральной целевой программы книгоиздания и при содействии «Гута-банка». Тираж был большой – 10 тысяч экземпляров. И чтобы это научно-познавательное пособие не затерялось на книжных полках магазинов, а дошло до средних школ, готовых заняться обучением экологической грамоте ребят средних и старших классов, нужна была добрая реклама в виде газетной статьи. Директор издательства Виктор Руденко попросил Белова написать отзыв о «Букваре». К сожалению, несмотря на то, что Белов прочел мою книгу с интересом и назвал ее весьма нужной и полезной, написать рецензию не смог – не нашел времени.
Издательство «Голос» выпустило в 1994 году сразу две книги Белова из его знаменитой трилогии, посвященной трагедии коллективизации, – «Кануны» и «Год великого перелома». С выпуском задерживалась третья книга «Час шестый». Она вышла в 1999 году. Однако если первые две книги изданы общим тиражом 20 тысяч экземпляров, то из-за безденежья третья книга – тиражом всего лишь 3 тысячи экземпляров.
Помочь Сергею Николаевичу Тетерину, чье письмо прислал Белов, мне не удалось. Прокуратура на мой запрос дала ответ, что он был уволен по закону. Данное письмо земляка свидетельствует о том, что обращения к Белову за помощью продолжали идти даже после того, как он перестал быть депутатом. Видимо, в нем, как в большом писателе, видели защитника. По нашей с ним договоренности, часть серьезных писем он передавал мне, и я подключался к решению проблем его земляков.
Разговор о Сергее Глотове, моем коллеге-депутате, не случаен. Именно на его долю ложилась после поездок в Сербию самая тяжелая, нудная, черновая работа – писать отчеты, сочинять проекты постановлений, направлять протесты в министерства и посольства. Выполнял он эту обязанность безропотно и весьма качественно. Белов видел в нем дипломата с профессиональной закваской. Потому часто беспокоился о нем, просил прислать его документы, передавал ему приветы. Когда я посылал запросы Председателю правительства страны и Министру иностранных дел о поставках сербам российского газа в обход санкций, то Глотов аккуратно редактировал текст, вычеркивая из него гневные слова. А я не мог сдержать эмоций, так как в ответах-отписках министров содержались оправдания и запреты, мол, представители зарубежных стран выступают против поставок нашего газа, так как «природный газ может быть использован в промышленных и военных целях». Я давал Белову читать свои запросы и выступления на совещаниях и «круглых столах», он всегда в знак согласия с моей жесткой аргументацией жал крепко руку, скромно похваливал, но Глотов все равно мои тексты правил.
Организация в Государственной Думе межфракционной депутатской группы «АнтиНАТО» на все сто процентов принадлежит Сергею Глотову. Вместе с Бабуриным он предлагал сербским властям вступить в Союз России и Белоруссии. Документооборот на эту тему проходил опять же через канцелярию Глотова. По приезде Белова в Москву я сопровождал его в кабинеты Глотова и Бабурина, так как вологодский трибун и подвижник жаждал быть в курсе всех сербских дел. Письменное пожелание Глотову, Бабурину и мне не отказываться от сербской темы орначало одно: это сам Василий Иванович в первую очередь не хотел оставлять данную тему. Его болезнь бедами и трагедиями сербов была острой и очевидной.
Письмо четвертое
Толя, поклон, брат, тебе из Вологды. (Хотел добавить: и из Сербии, да вовремя одумался.) Бумаги получил, благодарю. В Сербию я больше не ездок (Хайрюзов знает, почему).
Да, не обольщайся и ты.
Например, беседами с бывшими радикалами вроде Солженицына.
А не знаешь ли, кто финансирует газетку, которую выпускает Черных? Как он попал в Ярославль из Иркутска? За что сидел и как столкнулся с А.Н. Яковлевым?
Видишь, как сыплются из меня вопросы…
Для «Руси» и рад бы дать что-то, да нечего. Старею. Силы уходят на повседневную борьбу с нуждой. Рукопись Игоря Саначева (знаком ли ты с этим интересным человеком?) я отвез в «Наш современник», а они куда-то затолкали.
Пиши больше, пока не устал сердцем. Я вот уже устал… Впрочем, погляди мою пьесу во МХАТе.
Будь здоров и удачлив, как всегда. Пока. Белов.
28 мая 1996 г.
Интерес Белова к войне в Сербии не только не угасал, но возрастал с каждым днем и месяцем. Когда он приходит ко мне в кабинет, то подолгу изучал думскую информацию о положении дел на сербской земле. Находясь в Вологде, звонил, писал и требовал свежих документов. Он погружается в них настолько глубоко, что порой ему казалось, будто он находится не в Вологде, а в Сербии. Я отбирал нужную информацию из служебной почты, формирующейся из двух источников – наших и сербских, – и слал ее Белову. Он читал о том, как близ Сараево были арестованы военнослужащими правительственных (мусульманских) войск 6 сербских офицеров, направлявшихся для переговоров по поводу разведения войск противоборствующих сторон. Читал о том, как Милошевич в Дейтоне соглашается с передачей Сараево мусульмано-хорватской федерации и тем самым совершает преступление против сербов. Читал о том, как все двадцать тысяч сербов покинули родное сараевское предместье Илиджу и, выкопав гробы предков, вытащив двери из своих домов, стали искать новое пристанище, а Запад не заметил ни этот, ни другой массовый исход сербов. Читал, как госсекретарь США Уоррен Кристофер требовал от Милошевича восстановить в республике деятельность Фонда Сороса.
И вот Белов срывается и звонит мне по телефону… Его интересует, что предпримем я и Бабурин, чтобы защитить уволенного полковника-миротворца Андрея Демуренко и донести результаты его правдивого расследования до мировой общественности. Та история тогда действительно натворила много шума. Поскольку нашему бывшему начальнику штаба ООН сектора Сараево Демуренко удалось раскрыть провокацию и преступление боснийских мусульман и их покровителей из Америки, его быстро уволили. Суть той провокации проста. Поводом для разжигания войны стал взрыв на сараевском рынке, унесший жизни сорока человек. Но кто его устроил?.. Демуренко доказал, что взрыв произвели не сербы, а боснийские мусульмане. Оказывается, нельзя из одного и того же орудия, одним и тем же снарядом предельно точно попасть в одно и то же место.
Мне удалось добыть материалы расследований Демуренко и выслать их Белову. После этого он написал, что передает мне привет из Сербии. В том, что он жил в те дни и месяцы, а может и больше года, страданиями сербов, конечно, есть и моя вина. Но я не мог отказать ему в запрашиваемых документах.
Секрет моего друга и писателя Валерия Хайрюзова, который знает, почему Белов охладел к поездкам в Сербию, раскрыт и описан мною в книге «Хранитель русского лада». Однажды Василий Иванович, стоя в сербских окопах, не выдержал и дал очередь из пулемета в сторону моджахедов. Хайрюзов тогда спросил Белова, а вдруг он в кого-нибудь попал? И тут раздался виновато-смущенный ответ: «Да ни в кого я не попал. Разве мне попасть куда…». В другой поездке, при встрече в окопах русских добровольцев, Белов сказал уже мне, что в молодости он бы сам поехал воевать за сербскую правду. Видимо, ощущение беспомощности, вернее, ощущение того, что он не может чем-то реально помочь братьям-славянам, и стало сдерживающим фактором.
Совет, высказанный мне Василием Ивановичем в письме, – «не обольщаться беседами с Солженицыным», связан с тем, что я в то время встречался с этим широко известным писателем. Темами нашего продолжительного разговора были не только политика, но и охрана природы. Мне импонировали и вопросы Александра Солженицына, и его умение слушать. Но Белов, видимо, забыл, кто был инициатором нашей встречи. Им был он сам. Однажды Белов в разговоре с Солженицыным укорил его, что тот не знает правды о расстреле российского парламента и для подтверждения своих аргументов подарил ему мою книгу «Расстрелянный парламент». Книга взволновала Солженицына, развеяла те мифы, которые доносились из его окружения, и, чтобы докопаться до истины, он пригласил меня 2 апреля 1996 года к себе в кабинет – поговорить по душам. И разговор получился. Удивительно, но с его стороны не прозвучало ни возражений, ни реплик, ни замечаний. Он согласился с моими аргументами. А когда я рассказал о том, какая жесткая борьба идет в парламенте за сбережение лесных и водных ресурсов, как Ельцин отказался подписывать мой закон об экологическом образовании, Солженицын горячо пожал мне руку и подарил несколько своих пластинок и книг. На одной из них – на книге «По минуте в день» – он написал: «Анатолию Николаевичу Грешневикову с сердечным сочувствием и восхищением его активностью в защите русской природы», на другой – на книге «Бодался теленок с дубом», изданной в Париже, – начертал: «Анатолию Николаевичу Грешневикову с симпатией».
Мне повезло: у меня состоялись еще одна беседа с Солженицыным, правда, короткая, в помещении Государственной Думы России. Другая не состоялась, так как из-за болезни он не пришел на вручение собственной премии поэту-земляку Юрию Кублановскому. После смерти великого писателя-гуманиста его супруга Наталья Дмитриевна пригласила меня с женой Галей на памятный вечер и, встретив в холле, сказала, как высоко ценил ее муж мои творческие труды.
Каким ветром занесло сибирского писателя Бориса Черныха в Ярославль я не знал. По одним разговорам в литературной среде, его пригласили друзья того самого видного политика, бывшего члена Политбюро ЦК КПСС А.Н. Яковлева, о котором упоминает в письме Белов. По другим – он женился на ярославской женщине. При нашем разговоре Черных всячески открещивался от презираемого в народе предателя-перевертыша Яковлева. Слухи эти связаны были с тем, что бывший матерый идеолог коммунизма был родом из ярославских мест, к тому же умудрился издать в 1994 году в местном Верхне-Волжском издательстве свою книгу «Горькая чаша», в которой он попытался покаяться за служение большевизму.
Пятилетний тюремный срок Борис Черных получил за обсуждение и пропаганду книг, вышедших самиздатом. Обсуждение шло в организованном им книжном Товариществе, названном в честь драматурга Александра Вампилова. До ареста он был исключен из партии за письмо, адресованное XV съезду комсомола, в котором критиковал положение дел в комсомоле и предлагал демократизировать политическое устройство страны. Недремлющее око КГБ, увы, не могло пройти мимо молодого бунтаря. На диссидента Черных не тянул, да и сам он себя не велел называть этим бранным словом, но это клеймо к нему пристало надолго.
Приехав после Пермских лагерей в Ярославль, он, пересмотрев прежние взгляды, активно пропагандировал себя как патриота. Издаваемая им литературная газета русской провинции «Очарованный странник» должна была служить тому подтверждением. И газета его во многом придерживалась патритической тематики. На страницах публиковались материалы в разных жанрах, но в основном о краеведении, экологии, православии. Удачным обретением для газеты было появление в редколлегии двух моих друзей, жителей Борисоглеба – поэта Константина Васильева и московского философа Виктора Тростникова. В газете была опубликована моя повесть «И реки умирают». Константин Васильев сделал со мной интервью… Скандалы вокруг газеты начались с приходом в редколлегию борисоглебского дачника, литератора из Москвы Сергея Щербакова. Его возмущали очерки Тростникова, особенно о творчестве Чехова, в которых он видел то, чего другие не видели и не могли видеть, – антиправославный подтекст. Но газета самоликвидировалась не из-за потери Щербакова, а из-за неожиданного и таинственного убийства спонсора издания предпринимателя Поволяева. После просьбы Бориса Черныха помочь с финансированием, я пошел к губернатору с протянутой рукой, но он не дал ни копейки. Тогда Черных уехал на Дальний Восток и там стал издавать газету «Русский берег». Но и она закрылась из-за нехватки финансов.
О творчестве поэта и публициста Игоря Саначева я узнал от самого Белова. Как только он сообщил мне о нем, я прочел его статьи «Троянский конь», «И не будет ни эллина, ни иудея», сборник стихов «Рожденный в Советском Союзе». Затем нашел и ознакомился с повестью «Великоросска». Мне по душе была его публицистика – острая, содержательная, отвечающая на все социально-политические беды страны. Саначев в то время публиковался в патриотических журналах «Наш современник», «Молодая гвардия» и даже в нашем ярославском журнале «Русь».
Письмо пятое
Толя, извини, пишу на рождественской открытке (кто-то поздравил меня, а я тебя).
Какой разговор, печатай статейку. Можешь присобачить к ней и еще что-нибудь (например, статью «Окопы 3-й Отечественной») из «Советской России». Ты меня шпаришь на «Вы» – посему в Борисоглеб не заеду (шучу). Ехать надо в Тимониху, пока ноги ходят и аденома не доконала… Обнимаю. Белов.
1 июня 1997 г.
Через пятнадцать лет после того, как Верхне-Волжское книжное издательство прекратило выпуск популярнейшего сборника «Любитель природы», я решил его возродить. Издание дорого мне было тем, что в нем поднимались серьезные темы взаимоотношений человека и природы. К тому же на страницах книги публиковались мои единомышленники – Олег Отрошко, Василий Бочарников, Сергей Хомутов, Светлана Мартьянова.
Мою идею искренне поддержала в издательстве редактор Лидия Леонидована Шаматонова, человек с удивительно добрым и отзывчивым характером, тонко чувствующая слово, обладающая энциклопедическими знаниями. Мне посчастливилось издать под ее редакторством одну из первых своих книг «Копье Пересвета», посвященную истории родной Борисоглебской земли, а затем чудесную книгу замечательного художника Вячеслава Стекольщикова «Изумрудные купола», воспевающую красоты все той же Борисоглебской земли.
Первый выпуск экологического сборника «Любитель природы» быстро нашел свою аудиторию и завоевал сердца большой армии защитников природы. Будучи составителем, я решил сделать сборник ежегодным. Основными авторами его стали все те же мои друзья – Олег Отрошко, Сергей Хомутов, Владимир Гречухин, Ирина Ривьер, Наталья Михайлова, Константин Васильев. Однако готовя второй выпуск, я решил расширить круг авторов, то есть печатать рассказы и статьи не только ярославских природолюбов, но и тех, кто живет за пределами региона… Сборник должен был выиграть от того, что на его страницах появятся статьи великих русских писателей и ученых, таких, как Василий Белов, Валентин Распутин, Анатолий Онегов, Вячеслав Стекольщиков.
Во время подготовки выпуска книги ушла из жизни редактор Лидия Шаматонова. Пришлось редактором стать Сергею Хомутову. А так как он был директором издательства «Рыбинское подворье», то издание стало выходить у него.
Первый крупный писатель, который откликнулся на предложение о сотрудничестве с экологическим сборником, был Василий Иванович Белов. Писать специально для него новый очерк он не стал, предложил взять что-нибудь из опубликованного.
Мне понравилась статья «Гримасы двуликого Януса». Я спросил разрешения напечатать именно ее. Белов тотчас отозвался, разрешил и посоветовал вместе с ней разместить еще и статью «Окопы третьей Отечественной», вышедшую в этот же 1997 год 13 февраля в газете «Советская Россия». Наш сборник боролся за чистоту рек, сохранение сосновых боров, вскрывал причины глобального потепления климата. А предлагаемая Беловым статья перечисляла признаки колонизации страны. При этом он делал ссылки на ведущих ученых: «Академик И.Р. Шафаревич называет нынешнее состояние России третьей Отечественной войной. Конечно, демократы, обладающие тотальной властью не только в нашей стране, а чуть ли не во всем мире, сделали все возможное, чтобы слова всемирно известного математика остались никому не известными».
Если бы автор затронул в статье еще и тему экологической безопасности, обострение международных отношений вокруг борьбы за питьевую воду, обладание Арктикой, то я бы согласился ее напечатать. Но в статье про это ни слова, зато подробное расследование механизмов и способов уничтожения России. Белов в своей отважной манере писал: «Банковский капитал ощерил перед Россией острые зубы. И он не брезгует никакими иными средствами. Захватчику все равно, как покорить Россию: экономическим, этническим ли, административным или идеологическим способом. Или просто военным, на который наши враги пока лишь только прилаживаются. Но драконовы зубы русофобии сеют как раз пресловутые СМИ… Всходы после такого посева ужасны».
Пришлось публиковать только одну статью «Гримасы двуликого Януса». В ней Белов тоже демонстрировал мужественный подход к обозначению бед и проблем государства. Кажется, он первым в нашей стране заговорил о том, что научно-технический прогресс истощает не только природные ресурсы, но и души людей. Техника, урбанизация, стремление к комфорту создают общество потребления. Нравственный прогресс в этих условиях отстает. Белов ставит перед обществом вопрос: «Может ли опытная наука, не переступив собственные границы, признать свое бессилие, осознать безнравственность безудержного комфорта и опасность научно-технического прогресса, который так стремительно истощает естественные возможности планеты?».
Планируемый приезд Василия Белова на мою родину в Борисоглеб связан был с тем, что мы хотели провести в местном Доме культуры презентацию экологического сборника «Любитель природы», а заодно устроить творческий вечер известного и всенародно любимого писателя. Увы, Белов так скучал по своей Тимонихе, он так душевно там отдыхал, с удовольствием творил, писал, что отказаться от поездки туда, тем более летом, не мог.
Письмо шестое
Дорогой Толя, привет!
Книгу я получил, а где время читать? Я не успеваю дочь прокормить, не только питаться духовно самому…
Кажется, книга твоя получилась, хоть и пестра по жанру.
Все к месту, когда речь о природе.
Спасибо.
Выпуск № 3 ЛенБм меня потряс… Кто автор? Не ты ли сам? Это срочно буду читать.
Посоветуй что-нибудь, чтобы издаться. У меня поставлен крест на четырех давно готовых книгах. Две отброшены по цензурным соображениям, две – по денежным.
Передай привет единомышленникам. Может быть, зайду в Думу в следующий московский вояж.
До свидания.
Белов. 27 января 1998 г.
К моему юбилею администрация области расщедрилась и выделила деньги на издание сборника моих избранных повестей, очерков, статей под общим названием «Зеленый посох». Вышел он в 1998 году в «Рыбинском подворье» у Сергея Хомутова. На обложке художник по моей просьбе нарисовал любимое животное – рысь, симпатичную кошку с кисточками на ушах. Главной темой книги, конечно же, стала тема охраны природы, взаимоотношения человека с заповедным миром, журавлями, медведями, малыми реками, морями, лесами.
Белову понравилась книга. Но прочел он лишь выборочные очерки и статьи. Мне хотелось, чтобы он ознакомился хотя бы с повестью «Журавли из небытия» (ее переиздали потом на английском языке и презентовали в Министерстве экологии Великобритании). Это документальное повествование о моем друге-орнитологе, директоре Хинганского заповедника Владимире Андронове, открывшем станцию реинтродукции, где он размножал редкие виды журавлей – даурских и японских, спасая их от полного исчезновения. Я позвонил ему днем, прочтя письмо, и попросил пролистать повесть… Вечером он отзвонился и сказал, что прочел ее полностью, никогда бы не подумал, что в наше время разгрома экономики, деревни, миропорядка на планете есть еще люди, посвятившие жизнь спасению каких-то журавлей, пусть и красивых… В дневнике я записал короткий отзыв писателя: «Достоинство твоей книги и твоего героя Андронова в том, что они дают бой равнодушию. Сегодня пассивность и равнодушие стали национальным бедствием, угрозой существования России».
Серьезно царапнула по душе Белова и брошюра ЛенБМ. Кто ее автор я, к сожалению, забыл.
В очередной приезд в Москву мы много говорили о чувстве патриотизма. Белов гневался по поводу того, что в прессе, на телевидении да и с чиновничьих трибун часто слышалась словесная брань в адрес писателей-патриотов, а патриотизм называли не иначе как «прибежищем негодяев». Во время нашей беседы Белов достал из сумки газетную вырезку и дал ее мне. По его просьбе я прочитал вслух подчеркнутые им слова актера, лауреата Государственной премии СССР В. Иванова, сыгравшего роль Олега Кошевого в фильме «Молодая гвардия». Заметка сохранилась у меня по сей день. Актер сказал верные слова о необходимости любить родину: «Самое главное в человеке – чувство патриотизма. Если человек хочет принести пользу своей родине, он не будет замыкаться на мелком, он не будет сердце себе рвать, доказывая, например, что любит вот такую музыку, а не другую. Пожалуйста, люби, это – твое дело, но все-таки, наверное, твое существо достойно более высоких целей, достойных твоего народа. Нужно ставить перед собой принципиальные, гражданские задачи, к решению которых всегда стремились передовые люди нашей страны. И на краснодонцев, как на высокий пример духовности, здесь можно и нужно равняться».
– Василий Иванович, почему при слове «патриотизм» ельцинские демократы Гайдар, Чубайс, Немцов впадают в истерику, злобу, ненависть?
– Все просто: патриотизм – чувство деятельное, созидательное… Демократы Чубайсы и Немцовы разрушают устои страны, культуру ее, традиции, а значит, и само государство. Ну, какое государство выстоит без традиций?.. У патриотов другие задачи: они из любви к стране занимаются строительством, строят экономику, культуру, музыку…
– Но ваш «молодогвардеец» Иванов не против того, чтобы молодежь слушала любую музыку, а нынче это – рок-музыка, та опустошающая душу музыка, о которой вы столько критических статей написали.
– Да, я убежден, что рок-музыка в руках нынешних демократов – это инструмент разрушения той культуры и тех традиций, которые соединяют государство.
Наша беседа о музыке закончилась только после того, как я набрал номер телефона губернатора Пензенской области Бочкарева и переговорил с ним о его обещании издать книгу Белова. Он пообещал оказать содействие, выделить деньги.