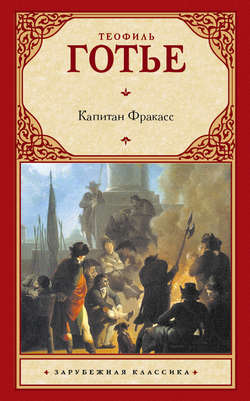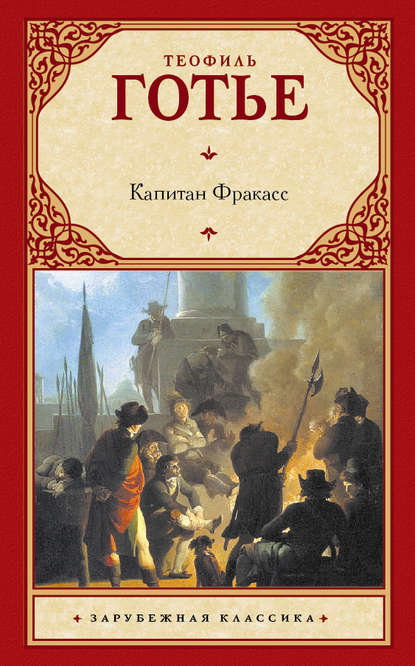© Перевод. Н.Г. Касаткина, наследники, 2011
© Перевод стихов. М.Н. Ваксмахер, наследники, 2011
© ООО «Издательство Астрель», 2011
I
Обитель горести
На склоне одного из безлесных холмов, горбами вздымающих ланды между Даксом и Мон-де-Марсаном, расположена была в царствование Людовика XIII дворянская усадьба – из тех, что так часто встречаются в Гасконии и среди крестьян высокопарно именуются замками.
Две круглые башни, увенчанные остроконечными крышами, с обоих концов замыкали здание, а два глубоких желоба на его фасаде говорили о том, что первоначально здесь был подъемный мост, ныне ставший бесполезным, ибо время упразднило ров; тем не менее сторожевые вышки на башнях и флюгера в виде ласточкина хвоста придавали строению чуть что не феодальный вид. Ковер из плюща наполовину окутывал одну из башен и темной зеленью своей оттенял камень, успевший к этому времени посереть от старости.
Издалека увидев замок, поднимавший в небо над зарослями дрока и вереска свои островерхие кровли, путник счел бы его вполне пристойным жилищем для дворянина средней руки, но, приблизясь, изменил бы мнение. Мох и сорные травы завладели аллеей, ведущей от большой дороги к дому, оставив лишь узкую серую полоску, подобную потускневшему галуну на потертом плаще. Две колеи, наполненные дождевой водой и населенные лягушками, свидетельствовали о том, что некогда здесь проезжали экипажи. Однако невозмутимость лягушачьего племени показывала, что оно издавна, не зная помех, обосновалось тут. На тропинке, проложенной среди густой травы и размытой недавними ливнями, не виднелось следа человеческих ног, и ничья рука, очевидно, давно уже не раздвигала веток частого кустарника, унизанных блестящими капельками.
Почерневшие, изъеденные широкими желтыми подтеками черепицы расползлись в разные стороны, а стропила местами совсем прогнили; заржавленные флюгера перестали вращаться и все показывали разное направление ветра; слуховые окошки были закрыты покоробленными и растрескавшимися ставнями, амбразуры башен засорены щебнем; из двенадцати фасадных окон восемь были заколочены досками, а вспученные стекла остальных дребезжали в своих свинцовых переплетах при малейшем натиске ветра. В промежутках между окнами штукатурка облупилась и сыпалась, как чешуйки с пораженной болезнью кожи, обнажив разошедшиеся кирпичи, которые крошились под вредоносным воздействием луны; входная дверь была обрамлена каменным наличником с правильными выпуклостями – следами былого орнамента, выветрившегося от времени и непогоды, а венчал ее полустертый герб, который не под силу было бы разобрать опытнейшему знатоку геральдики; завитки над шлемом изгибались самым причудливым образом, то и дело обрываясь. Дверные створки еще сохранили поверху красноватый колер, словно краснели за свой неприглядный вид; гвозди с остроконечными шляпками, набитые в строгой симметрии, нарушенной временем, скрепляли их разошедшиеся доски. Открывалась лишь одна створка, что было вполне достаточно для приема явно немногочисленных посетителей, а у дверного косяка догнивало полуразломанное колесо – жалкий остаток кареты, окончившей свой век в прошлое царствование. Верхушки труб и углы карнизов были облеплены ласточкиными гнездами, и если бы над одной из этих труб не завивалась штопором тонкая струйка дыма, точь-в-точь как над домиками, какие школьники рисуют на полях своих тетрадей, всякий счел бы жилище необитаемым; и, верно, очень скудную трапезу изготовляли на этом очаге, – из солдатской трубки дым валил бы куда гуще. Этот дымок был единственным признаком жизни в замке, как одно лишь легкое облачко пара из уст умирающего свидетельствует о том, что он еще жив.
Не без ропота и явного неудовольствия повертываясь на ржавых и визгливых петлях, дверь давала доступ в самую старую часть замка – портал со стрельчатым сводом, разделенным четырьмя нервюрами голубоватого гранита и ключевым камнем в точке их пересечения, где повторялся сохранившийся лучше, чем на входных дверях, герб с тремя золотыми аистами на лазоревом поле или чем-то в этом духе, – полумрак, царивший под сводом, мешал точно разглядеть их. В стену портала были вделаны кованые гасильники, закопченные пламенем факелов, а также железные кольца, к которым некогда привязывались лошади гостей, что, судя по слою пыли на кольцах, случалось теперь крайне редко.
Из портала одна дверь вела в покои нижнего этажа, другая – в помещение, возможно, бывшее когда-то оружейной залой, и далее во двор – унылый, пустой и холодный, обнесенный высокими стенами, на которых зимние дожди оставили длинные черные полосы. По углам двора, среди щебня, упавшего с карнизов, пробивалась крапива, овсюг, цикута, и трава зеленой рамкой окаймляла плиты.
В глубине, за каменной балюстрадой, которую украшали увенчанные шпилями шары, террасой спускался сад. Поломанные ступени шатались под ногами в тех местах, где не были скреплены волокнами мха и вьющихся растений; подпоры террасы обросли трилистником, желтыми левкоями и дикими артишоками.
Самый сад мало-помалу вновь превратился в первобытную чащу. Кроме одной грядки, где виднелись кочны капусты с ярко-зелеными в прожилках листьями и красовались звезды подсолнечников с черными сердцевинками, свидетельствуя о некотором уходе, надо всем остальным заброшенным пространством брала верх природа и, казалось, с особым удовольствием стирала следы человеческого труда.
Давно не подстригавшиеся деревья во все стороны раскидывали буйные ветви. Буксовые бордюры вдоль аллей и газонов, давно не ведая ножниц, превратились в заросли высокого кустарника. Случайно занесенные ветром семена, по обычаю сорных трав, дали мощные всходы, вытеснив садовые цветы и редкие растения. Покрытые колючками ветки терновника переплетались посреди дорожек, вцепляясь в проходящего и не пуская его дальше, чтобы он не мог проникнуть в этот заповедник скорби и запустения. Тишина не любит быть застигнутой врасплох и сеет вокруг себя всяческие преграды.
Но кто не побоялся бы, что его будут царапать колючки кустов и бить по лицу ветви деревьев, и дошел до конца заглохшей старинной аллеи, заросшей не хуже лесной тропы, тот очутился бы перед нишей, выложенной ракушками наподобие естественного грота. К посеянным первоначально между камнями растениям – ирисам, шпажникам, черному плющу прибавились другие – спорыш, стоног, дикий виноград, – они свисали пасмами, наполовину закрывая мраморную статую, изображавшую мифологическую богиню, не то Флору, не то Помону, которая в свое время была, надо полагать, весьма изящна и делала честь своему создателю, ныне же, став курносой, уподобилась смерти. Незадачливая богиня держала корзинку, но не с цветами, а с плесневелыми, на вид ядовитыми грибами; казалось, и сама она отравлена, – ее тело, некогда столь белое, пестрело пятнами бурого мха. У ее ног в каменной раковине под зеленой ряской загнивала темная лужица – остаток дождей, ибо из львиной пасти, которую можно было разглядеть с грехом пополам, давно уже не извергалась вода, не поступавшая из засоренных или уничтоженных временем труб.
Этот, по тогдашнему наименованию, сельский приют, как ни был он разрушен, свидетельствовал о бывшем благосостоянии и о тяге к искусству прежних владельцев замка. Если бы статую богини отчистить и подправить как следует, в ней обнаружился бы стиль флорентийского Ренессанса в духе тех итальянских скульпторов, которые приехали во Францию вслед за художником Россо или за Приматиччо в эпоху, по-видимому, совпадающую с процветанием захиревшего ныне рода.
Грот примыкал к замшелой и просыревшей стене, на которой переплетались еще обрывки трельяжа, должно быть, когда-то густо увитого ползучими растениями и скрывавшего каменную кладку. Еле заметная теперь за раскидистыми ветвями непомерно разросшихся деревьев, старая стена замыкала сад с этой стороны. Дальше до самого края низкого и сумрачного горизонта тянулись ланды с курчавыми кустиками вереска.
Когда вы поворачивали вспять, перед глазами вставал дворовый фасад замка, еще более жалкий и обветшалый, чем описанный ранее, так как последние владельцы употребляли свои скудные средства на то, чтобы хоть мало-мальски поддержать внешнее благообразие.
На конюшне, достаточно просторной для двадцати лошадей, стояла одна тощая кляча с выпирающими под кожей мослаками; обнажив длинные желтые зубы, она выбирала в пустой кормушке считанные соломинки и время от времени бросала на дверь косые взгляды из глазниц, в которых монфоконские крысы не выискали бы ни крупицы сала. На пороге псарни единственный пес, чье дряблое тело болталось в непомерно широкой шкуре, дремал, уткнувшись носом в лапы, служившие ему отнюдь не пуховой подушкой; казалось, он настолько привык к безлюдью, что не настораживался от шума, как это свойственно собакам даже во сне.
В верхние этажи замка вела огромная лестница с точеными деревянными перилами и двумя площадками – по одной на каждом из этажей. До второго лестница была каменной, а дальше кирпичной и деревянной. По стенам вдоль нее, сквозь пятна плесени, видна была декоративная живопись в серых тонах, изображавшая пышные архитектурные рельефы со светотенью и перспективой. Здесь смутно можно было различить также ряд Атлантов, поддерживавших карниз на консолях, откуда ниспадал орнамент из виноградных листьев и лоз в виде арки, за которой проглядывало выцветшее небо, а на нем – неведомые острова, нанесенные подтеками от дождей. Между Атлантами в нарисованных нишах красовались бюсты римских императоров и других исторических личностей, но все это было до того смутно, блекло, истерто, испорчено, что представлялось не настоящей, а призрачной живописью, о которой нужно рассказывать тенями слов взамен обычной человеческой речи, слишком плотской для нее. Казалось, эхо этой пустынной лестницы с удивлением отзывается на шум шагов.
Дверь, обитая линялой зеленой материей, висевшей клочьями на гвоздях с облезлой позолотой, открывалась в залу, которая, по-видимому, служила столовой в те легендарные времена, когда в этом безлюдном доме еще вкушали пищу. Потолок был перерезан пополам толстой балкой, от которой в обе стороны полосами отходили фальшивые брусья, а промежутки когда-то были окрашены в голубой цвет, ныне затянутый слоем пыли и паутины, добраться же щеткой на такую высоту явно никто не пытался. Над старинным камином оленья голова раскинула свои ветвистые рога, а по стенам с закопченных полотен смотрели воины в кирасах, – шлем был рядом, на столе, или в руках у пажа, – со жгуче-черными живыми глазами на мертвых лицах, вельможи в мантиях с круглым крахмальным воротником, на котором голова покоилась, как покоятся отсеченные главы Иоанна Крестителя на серебряных блюдах; почтенные матроны в старомодных нарядах пугали своей мертвенной бледностью; из-за пожухлых красок они превратились в ламий, вампиров и оборотней. Грубая мазня провинциальных живописцев придавала этим портретам особенно жуткий и зловещий вид. Некоторые были без рам, другие окаймлены потускневшим и порыжевшим золотым багетом. В углу каждого портрета имелся фамильный герб и был обозначен возраст оригинала; но, независимо от эпохи, особой разницы между ними не замечалось; на всех полотнах, потемневших от лака и покрытых слоем пыли, свет был желтый, а тени черные, как уголь; два-три портрета от плесени и цвели приобрели окраску разлагающихся трупов, наглядно доказывая полное равнодушие к изображению своих славных предков со стороны последнего отпрыска этого знатного и доблестного рода. Вечером при зыбком свете ламп немые и неподвижные образы, должно быть, превращались в страшные и смешные привидения.
Ничего нет печальнее, чем забытые портреты в пустынных покоях, полустертые воспроизведения тех форм, что давно распались под землей.
Но в таком виде эти рисованные призраки вполне подходили к печальному безлюдию замка. Обитатели из плоти и крови показались бы чересчур живыми для этого мертвого дома.
Середину залы занимал стол почерневшего грушевого дерева, с витыми ножками, наподобие колонн Соломонова храма, в которых древоточцы пробуравили множество отверстий, не встречая помех в своих скрытных трудах. Серый налет, на котором можно было чертить вензеля, покрывал доску стола, из чего явствовало, что обедают за ним не часто.
Два поставца или буфета того же дерева с резьбой, приобретенные, по всей вероятности, вместе со столом во времена процветания, стояли на противоположных концах залы; фарфоровые щербатые вазы, разрозненные бокалы, несколько керамических фигурок работы Бернара Палисси, изображающих змей, рыб, крабов и раковины, покрытые глазурью по зеленому полю, служили убогим украшением пустых полок.
Бархатная обивка пяти-шести стульев, в прошлом, возможно, пунцовая, от времени и употребления стала рыжей, из дыр ее торчал волос, а сами стулья хромали на непарных ногах, как разностопные стихи или покалеченные вояки, бредущие восвояси после сражения. Пожалуй, только бесплотный дух мог без большого риска усесться на такой стул, да и употреблялись они, должно быть, лишь в тех случаях, когда предки, выходя из облупленных рам, рассаживались вокруг пустого стола и за воображаемым ужином в долгие зимние ночи, столь благоприятные для дружеской встречи привидений, вели беседы об упадке своего славного рода.
Из этой залы был ход в другую, несколько меньшую. Здесь стены были украшены фландрскими шпалерами. Но не надо при этом представлять себе несообразное с окружающим роскошество, – шпалеры были протертые, изношенные, выцветшие, и полотнища расползались по всем швам, держась на стенах только считанными нитями и силой привычки. Слинявшие деревья были желтыми с одной стороны и синими с другой. Цапля, стоящая на одной ноге посреди тростника, порядком пострадала от моли. Фламандскую ферму с колодцем, увитым хмелем, почти уже нельзя было различить, а на мучнистой физиономии охотника за чирками только красные губы и черные глаза, очевидно, более стойкой окраски, сохранили первоначальную яркость, точно нарумяненные губы и наведенные брови на восковом лице покойника. Ветер ходил между стеной и отставшими шпалерами, отчего они весьма подозрительно колыхались. Если бы Гамлет, принц Датский, был занят беседой в этой комнате, он выхватил бы шпагу и с криком: «Крыса!» – пронзил бы Полония сквозь ткань шпалер.
Бессчетные шорохи, еле уловимый шепот тишины, делая безлюдие еще ощутимее, смущали слух и душу посетителя, достаточно отважного, чтобы сюда проникнуть. Мыши с голоду выгрызали шерстяную основу ткани. Древоточцы под сурдинку пилили балки потолка, точно часы смерти отстукивая время о доски панелей.
Всякий невольно вздрогнул бы, когда внезапно раздавался треск мебели, как будто тишина, наскучив неподвижностью, расправляла суставы. Один из углов комнаты занимала кровать с колонками и парчовыми занавесками, которые из белых с зелеными разводами стали грязно-желтыми и посеклись на сгибах; их боязно было раздвинуть, чтобы, чего доброго, не увидеть притаившееся в темноте страшилище или застывшую под простыней фигуру с очертаниями заостренного носа, костлявых скул, сложенных рук и вытянутых ног, как у статуй на крышках гробниц, – настолько призрачным становится сразу все, что сделано для человека и где нет самого человека. Можно бы также представить себе, что тут, наподобие спящей красавицы, спит вечным сном заколдованная принцесса, но зловещая таинственность неподвижных складок исключала фривольные мысли.
Стол черного дерева, где отстали медные инкрустации, косое и мутное зеркало, откуда, истосковавшись по отражению человеческого лица, сошло олово, кресло с вышивкой крестом, плод терпения и досуга какой-нибудь прабабки, где теперь среди выцветшей шерсти и шелка блестели лишь отдельные серебряные нити, – вот что составляло убранство этой комнаты, на худой конец пригодной в качестве жилья для человека, который не боится ни духов, ни привидений.
Слабый зеленоватый свет проникал в эти две комнаты через два незаколоченных фасадных окна, тусклые стекла которых, не мытые уже лет сто, казались посеребренными снаружи. Свисавшие с ржавых прутьев и протертые на сгибах драпировки, которые порвались бы в клочья при попытке их задернуть, еще скрадывали этот сумеречный свет и углубляли уныние, царившее тут.
Дверь в глубине второй комнаты открывалась во мрак, в пустоту, в неизвестность. Однако мало-помалу глаз привыкал к этой тьме, прорезанной белесыми бликами из щелей между досками на окнах, и смутно различал целую анфиладу пришедших в запустенье комнат с выкрошившимся паркетом, с осколками стекла на полу, с голыми стенами, кое-где покрытыми лоскутьями обтрепанных шпалер, с обнажившейся дранкой на потолках, пропускающих дождевую воду, – словом, великолепное помещение для синедриона крыс и конгресса летучих мышей. Кое-где даже небезопасно было ступать, так как пол качался и гнулся под ногами, но никто не отваживался проникнуть в эту юдоль тьмы, пыли и паутины. С самого порога в нос бил затхлый запах плесени и запустения, пронизывающая сырость, как в склепе над ледяным мраком могилы, с которой сдвинут надгробный камень. И правда, в этих залах, куда не заглядывало настоящее, медленно обращался в прах остов прошлого, и почившие годы дремали по углам в колыбелях из паутины.
На чердаках в течение дня гнездились совы, филины и сипухи с перьями на ушах, с кошачьими головами и круглыми светящимися зрачками. Крыша, продырявленная в двадцати местах, давала свободный доступ этим приятным птичкам, и они чувствовали себя здесь не менее вольготно, чем в развалинах Монлери и замка Гаяр. Каждый вечер их запыленная стая с пронзительными криками, которые привели бы в содрогание человека суеверного, улетала вдаль на поиски пищи, ибо в этой цитадели голода нельзя было раздобыть ни крошки съестного.
В комнатах нижнего этажа не было ничего, кроме нескольких охапок соломы, маисовой ботвы и кое-какого садового инструмента. В одной из них лежал тюфяк, набитый сухими кукурузными листьями, и серое шерстяное одеяло, – это, очевидно, была постель единственного в замке слуги.
Полагая, что читателю наскучила прогулка среди тишины, убожества и запустения, приведем его в то место пустынного дома, которое еще подавало признаки жизни, а именно в кухню, – над ней-то и подымалось из трубы легкое белое облачко, упомянутое при описании наружного вида здания.
Чахлый огонь желтыми языками лизал доску очага, время от времени достигая чугунного котелка, нацепленного на крюк, а слабый отблеск этого огня зажигал красноватые искорки на боках двух-трех кастрюль, висевших на стене.
Дневной свет, проникая с крыши через широкую, без колен, трубу, голубоватыми бликами застывал на тлеющих углях, отчего и самый огонь казался бледнее, словно коченел в этом холодном очаге. Не будь котелок накрыт, дождь капал бы прямо в него, разбавляя мясной навар.
Постепенно нагреваясь, вода наконец забурлила, и котелок стал хрипеть среди глухой тишины, как человек, страдающий одышкой: капустные листья, поднимаясь на поверхность вместе с пеной, явно показывали, что возделанный участок огорода внес свою лепту в эту более чем спартанскую похлебку.
Старый черный кот, тощий, облезлый, как выношенная муфта, с сизыми плешинами, постарался сесть возможно ближе к очагу, лишь бы только не спалить усов, и с видом заинтересованного наблюдателя вперил в котелок круглые зеленые глаза, пересеченные столбиком зрачка; уши и хвост были у него отрезаны до основания, отчего он напоминал то ли японских химер, которых ставят в витрины вместе с другими редкостями, то ли фантастических чудовищ, которым ведьмы, отправляясь на шабаш, поручают снимать накипь с волшебного варева в чугуне.
Этот кот, сидевший в одиночестве на кухне, казалось, варил похлебку сам для себя, и он же, конечно, поставил на дубовый стол тарелку в зеленых и красных цветах, оловянный кубок, весь исцарапанный, конечно, его же когтями, и фаянсовый кувшин с грубо намалеванным сбоку голубым гербом, тем же, что на портале, на выступе свода и на фамильных портретах.
Для кого был поставлен этот скромный прибор в этом замке без обитателей? Быть может, для домашнего духа, для genius loci, для кобольда, верного избранному жилищу, и черный кот с непроницаемо загадочным взглядом ждал его, чтобы прислуживать ему, перекинув через лапу салфетку.
Котелок продолжал кипеть, а кот сидел все так же неподвижно на своем посту, точно часовой, которого забыли сменить. Наконец раздались шаги, тяжелые и грузные шаги пожилого человека; послышалось покашливание, звякнула щеколда, и в кухню вошел старик, с виду не то крестьянин, не то слуга.
При появлении старика черный кот, очевидно, давний его приятель, покинул свое место у очага и стал по-дружески тереться о его ноги, выгибая спину, выпуская и пряча когти и издавая то хриплое урчание, которое у кошачьей породы служит знаком наивысшего удовлетворения.
– Ладно, ладно, Вельзевул, – сказал старик и нагнулся, чтобы отдать коту долг вежливости, погладив шершавой рукой его облезлую спину, – я знаю, ты меня любишь, и мы с моим бедным господином слишком здесь одиноки, чтобы не ценить ласки животного, хоть и лишенного души, но как будто все понимающего.
Покончив со взаимными любезностями, кот засеменил впереди старика, направляя его шаги к очагу, как бы для того, чтобы передоверить ему присмотр за котелком, на который он взирал с умильнейшим вожделением, ибо Вельзевул заметно старел, стал туг на ухо и утратил прежнюю зоркость глаз и сноровку в лапах, чем день ото дня сокращались те возможности, которые давала ему охота на птиц и на мышей; потому-то он не сводил взгляда с похлебки, надеясь получить свою долю и заранее облизываясь.
Пьер – так звали старого слугу – подбросил хворосту в еле тлеющий огонь, ветки, извиваясь, затрещали, и вскоре яркое пламя взвилось вверх под веселую перестрелку искр. Казалось, это резвятся саламандры, отплясывая сарабанду в языках пламени. Жалкий чахоточный сверчок, обрадовавшись теплу и свету, попытался было отбивать такт в свои литавры, но издал лишь какой-то сиплый звук.
Пьер сел на деревянную скамейку под колпаком очага, обитым по краю старым зеленым штофным ламбрекеном с фестонами, бурым от дыма; кот Вельзевул пристроился рядом.
Отблеск пламени освещал лицо старика, которое, если можно так выразиться, было выдублено временем, солнцем, ветром и непогодой и стало темней, чем у индейцев-караибов; пряди седых волос, выбившихся из-под синего берета и прилипших к вискам, только подчеркивали смуглый, почти кирпичный цвет кожи, а черные брови являли резкий контраст с белой как лунь головой. У него был характерный для басков удлиненный овал лица и нос, похожий на клюв хищной птицы. Глубокие морщины, точно сабельные рубцы, сверху донизу бороздили его щеки. Обшитое тусклым галуном подобие ливреи такого цвета, который был бы головоломкой для самого опытного живописца, наполовину прикрывало песочную замшевую куртку, местами залоснившуюся и почерневшую в свое время от трения кирасы, что придавало ей сходство с пятнистым брюшком куропатки; Пьер некогда был солдатом, и остатки военного обмундирования составляли часть его штатского платья.
В его полудлинных штанах проглядывали и уток и основа, ткань их до того истончилась, что стала похожа на канву для вышивания, и невозможно было определить, сшиты они из сукна, из саржи или шерсти с начесом. Всякий ворс давно сошел с их плешивой поверхности, ни один евнух не мог бы похвалиться таким гладким подбородком. Весьма приметные заплаты, сделанные рукой, более привычной к шпаге, чем к иголке, укрепляли самые ненадежные места, показывая заботу обладателя штанов об их предельном долголетии. Подобно Нестору, эти престарелые панталоны прожили три человеческих века. Есть веские основания предполагать, что они были малиновыми, но эта важная подробность ничем не обоснована.
Веревочные подошвы, привязанные синими шнурками к шерстяным чулкам без ступни, служили Пьеру обувью по образцу испанских альпаргат. Предпочтение этим грубым котурнам перед башмаками с помпонами или высокими сапогами, несомненно, было отдано только ввиду их дешевизны, ибо во всех мельчайших подробностях одежды старика и даже в позе его, исполненной угрюмой покорности, чувствовалась бедность, стойкая, суровая и опрятная.
Прислонясь к боковой стенке очага и сложив на коленях большие руки того фиолетового оттенка, какой бывает у виноградных листьев в позднюю осеннюю пору, он неподвижно сидел напротив Вельзевула. А кот с жалким голодным видом примостился на остывшей золе, сосредоточив весь свой интерес на хриплом клокотании котелка.
– Что-то запаздывает нынче наш молодой хозяин, – пробормотал Пьер, вглядываясь сквозь закопченные желтоватые стекла единственного кухонного окна в даль, где на краю неба под грядами тяжелых дождевых туч угасала последняя полоска заката. – Что за охота бродить одному по ландам? Впрочем, по правде сказать, вряд ли где может быть тоскливее, чем здесь, в замке.
Радостный сиплый лай послышался со двора; лошадь на конюшне стала бить копытом и лязгать о край кормушки цепью, за которую была привязана; черный кот, совершавший свой туалет, проводя смоченной слюной лапкой по бакенбардам и остаткам ушей, прервал это занятие и направился к двери, как положено приветливому и воспитанному животному, сознающему свой долг.
Дверь распахнулась; Пьер поднялся, почтительно снял берет, и вновь прибывший показался на пороге в сопровождении пса, о котором уже была речь, – пес этот пытался прыгать, но грузно оседал, отяжелев от старости. Вельзевул не проявил к Миро той неприязни, какую коты обычно питают к собачьему племени, даже наоборот, поглядывал на него очень дружелюбно, поводя круглыми зелеными глазами и выгибая спину. Видно было, что они знакомы не первый день и часто коротают вместе время в здешнем уединении.
Вошедший был барон де Сигоньяк, владелец этого полуразрушенного поместья, молодой человек лет двадцати пяти, хотя на первый взгляд он казался старше, настолько строгий и сосредоточенный был у него вид. Сознание бессилия, сопутствующее бедности, согнало улыбку с его лица и стерло со щек бархатистый пушок юности. Вокруг померкших глаз уже залегли тени, и над впалыми щеками явственно выступали скулы; усы не закручивались лихо кверху, а свисали вниз, словно плача над скорбной складкой губ. Небрежно расчесанные волосы спускались вдоль бледного чела прямыми черными прядями, указывая на полное отсутствие кокетства, что так редко в молодом человеке, который легко бы прослыл красивым, если бы совершенно не отказался от желания нравиться. Давнишняя затаенная печаль наложила страдальческий отпечаток на лицо барона, которое могло бы стать очень привлекательным, если бы его скрасило немножко счастья и естественная в такие годы уверенность в себе не поколебалась бы под напором непреоборимых неудач.
От природы ловкий и сильный, молодой барон двигался с такой вялой медлительностью, как будто отрешился от жизни. Каждым своим сонным машинальным движением, всей своей равнодушной повадкой он явно показывал, что ему безразлично, куда идти, где быть.
Непомерно большая старая шляпа из помятого, прорванного серого фетра спускалась ему до бровей, вынуждая задирать нос, чтобы видеть окружающее; общипанное перо, смахивающее на рыбий скелет, вздымалось над тульей шляпы с намерением изобразить султан, но, устыдясь своей дерзости, бессильно опадало сзади к полям. Воротник из старинного гипюра, где ажурные просветы были не только делом рук искусной кружевницы, но и приумножились от ветхости, окружал шею поверх широченного камзола, который явно был сшит на человека более рослого и плотного, нежели тонкий и хрупкий барон. Руки его тонули в рукавах камзола, как в рукавах рясы, а ботфорты с железными шпорами доходили ему до живота. Это причудливое одеяние принадлежало покойному отцу барона, умершему несколько лет тому назад, а теперь сын донашивал платье, которое созрело для старьевщика еще при жизни первого владельца. В таком наряде, надо полагать, весьма модном к началу прошлого царствования, барон имел смешной и вместе с тем трогательный вид, – он казался своим собственным предком. Хотя к памяти отца он питал чисто сыновнее благоговение и ему нередко случалось прослезиться, облачаясь в дорогие реликвии, как будто запечатлевшие в своих складках движения и позы усопшего, однако молодому Сигоньяку не так уж нравилось ходить в отцовских обносках. Просто другого платья у него не было, и он обрадовался, найдя на дне сундука наследство такого рода. Его собственная отроческая одежда стала ему мала и узка, а отцовская по крайней мере не стесняла движений. Крестьяне, привыкнув чтить эту одежду на старом бароне, не находили ее смешной и на сыне и смотрели на нее с тем же почтением; они одинаково не замечали ни дыр на полах кафтана, ни трещин на стенах замка. При всей своей бедности Сигоньяк в их глазах по-прежнему был владетельным господином, и упадок этого знатного рода не поражал их так, как поразил бы посторонних, а между тем поистине странное, и грустное и забавное, зрелище являл молодой барон в старых отрепьях на старой кляче, в сопровождении старого пса, точь-в-точь рыцарь смерти с гравюры Альбрехта Дюрера.
Ответив приветливым движением руки на почтительный поклон Пьера, барон молча сел к столу.
Старик снял с крюка котелок, вылил содержимое в глиняную миску на покрошенный заранее хлеб и поставил ее перед бароном – такую деревенскую похлебку до сих пор едят в Гасконии, – потом достал из шкафа кусок студня, дрожавшего на салфетке, посыпанной маисовой мукой, и водрузил на стол дощечку с этим излюбленным здесь кушаньем, которое вместе с похлебкой, куда был брошен кусок сала, – судя по малому своему объему украденный из мышеловки, – составило скудную трапезу барона. Он ел с рассеянным видом, а Миро и Вельзевул расположились по обеим сторонам его стула, в экстазе подняв морды и ожидая, не перепадет ли им что-нибудь с пиршественного стола. Время от времени барон бросал Миро кусок хлеба, от соприкосновения с ломтиками сала приобретшего мясной запах, и пес ловил кусок на лету. Кожица от сала досталась коту, который выразил удовольствие глухим урчанием, подняв при этом лапу с выпущенными когтями, вероятно, чтобы защитить драгоценную добычу.
Кончив этот убогий ужин, барон погрузился в тягостное раздумье или отвлекся далеко не веселыми заботами. Миро положил голову на колено хозяину и устремил на него старческие глаза, подернутые голубоватой дымкой, в которых, однако, мерцала искра почти человеческого разума. Казалось, он понимает мысли барона и пытается выразить ему свое сочувствие. Вельзевул то мурлыкал так громко, что заглушил бы прялку большеногой Берты, то жалобно мяукал, желая привлечь рассеянное внимание хозяина. Пьер стоял поодаль, застыв в неподвижности, напоминая те вытянутые в длину гранитные статуи, что украшают соборные порталы, и почтительно выжидал, когда господин его, очнувшись от дум, соблаговолит дать какое-нибудь распоряжение.