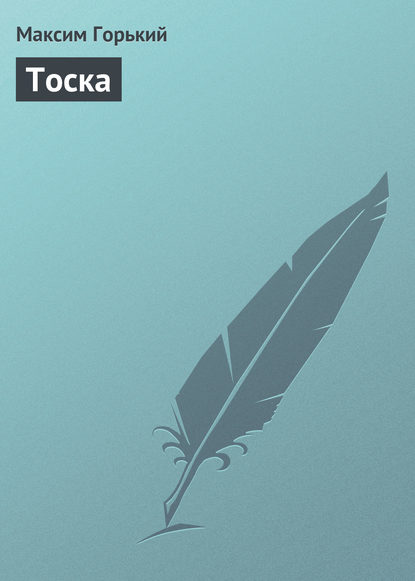I
…Помолившись богу, Тихон Павлович медленно разделся и, почёсывая спину, подошёл к кровати, наглухо закрытой пёстрым ситцевым пологом.
– Господи, благослови! – прошептал он, затем широко зевнул, перекрестив рот, отдёрнул полог и стал смотреть на мощную, покрытую мягкими складками простыни, фигуру жены.
Сосредоточенно и подробно рассмотрев эту неподвижную, задавленную сном кучу жирного тела, Тихон Павлович сурово нахмурил брови и вполголоса сказал:
– Машина!..
Потом отвернулся к столу, погасил лампу и снова заворчал:
– Сказал ведь я тебе, чёрту: идём спать на сенницу; нет, не пошла! Колода дубовая!
Ну-ка, подвинься малость!
И, ткнув жену кулаком в бок, он улёгся с ней рядом, не покрываясь простынёй, а затем ещё раз крепко толкнул жену локтём. Она замычала, завозилась, повернулась к нему спиной и снова захрапела. Тихон Павлович огорчённо вздохнул и уставился глазами сквозь щели полога в потолок, где дрожали тени, рождённые луной и неугасимой лампадой, горевшей в углу перед образом Спаса нерукотворенного. В раскрытое окно лился из сада, вместе с тихим и тёплым ночным ветром, шелест листьев, запах земли и сырой кожи, сегодня утром содранной с Гнедка и распяленной на стене амбара. Доносился мягкий звук падения капель воды с мельничного колеса; в роще, за плотиной, гукала выпь; мрачный, стонущий звук плавал в воздухе; когда он пропадал – листва деревьев шумела сильнее, точно испуганная им, и откуда-то доносилась звонкая песнь комара.
Последив за тенями, что дрожали на потолке, Тихон Павлович перевёл глаза в передний угол комнаты. Там, колеблемый ветром, тихо мигал огонёк лампадки; от этого лицо Спасителя то прояснялось, то темнело, и оно показалось Тихону Павловичу думающим большую, тяжёлую думу. Он вздохнул и истово перекрестился.
Где-то прокричал петух.
– Неужели двенадцать уж? – спросил сам себя Тихон Павлович. Прокричал другой петух, третий… Ещё и ещё. Наконец где-то за стеной во всю мочь гаркнул Рыжий, из птичника ему ответил Чёрный, и весь птичник всполошился, громко возвещая полночь.
– О, черти, – сердито завозился Тихон Павлович, – заснуть не могу… чтоб вам треснуть!
Когда он обругался, ему стало как-то легче: проклятая, непонятная грусть, одолевшая его с последней поездки в город, меньше давила его, когда он сердился, – а когда он сердился сильно, так и совсем пропадала… Но за эти дни дома всё шло так ровно, гладко, что и поругаться-то хорошенько, чтоб полностью отвести душу, было нельзя – не с кем и не за что, – все подтянулись, заметив, что «сам» сильно не в духе. Тихон Павлович видел, что домашние боятся его и ждут грозы, и – чего раньше с ним никогда не было – чувствовал себя виноватым пред всеми. Ему было стыдно за то, что все такие хмурые и бегают от него, и ещё больше овладевало им тяжёлое, непонятное чувство, привезённое из города.
Даже Кузьма Косяк, новый засыпка, орловец, зубоскал и задира, молодой парень, могучий, с весёлыми и синими глазами и ровным рядом мелких белых зубов, всегда оскаленных задорной улыбкой, – даже этот Кузьма, с которым всегда было за что всласть поругаться, стал почтителен и услужлив; песен, на которые был большой мастер, больше не пел, меткими прибаутками во все стороны не сыпал, и Тихон Павлович, замечая за ним всё это, недовольно думал про себя: «Хорош, видно, я, чёрт, стал!» И, думая так, всё более подчинялся чему-то, неотвязно сосавшему его сердце.
Тихон Павлович любил чувствовать себя довольным собой и своей жизнью, и когда чувствовал так, то намеренно и искусственно усиливал своё настроение постоянным напоминанием себе о своей зажиточности, об уважении к нему соседей и обо всём другом, что возвышало его в своих глазах. Домашние знали за ним эту слабость, которая могла и не быть честолюбием, а только желанием сытого и здорового существа как можно полней усладить себя ощущением своей сытости и здоровья. Это настроение, порождая у Тихона Павловича добродушную точку зрения на вещи, хотя не позволяло ему упускать своего, но создало среди знакомых репутацию сердечного человека. И вот вдруг стойкое, жизнерадостное чувство куда-то провалилось, улетело, погасло, а на место его явилось нечто новое, тяжёлое и тёмное.
– Фу ты, господи! – прошептал Тихон Павлович, лежа рядом с женой и прислушиваясь к мягким вздохам ночи за окном. От согретой пуховой перины ему стало жарко; он беспокойно повозился, предал супругу анафеме, спустил ноги на пол и сел на кровать, отирая потное лицо.
В Болотном, селе верстах в пяти от мельницы, раздались звуки сторожевого колокола.
Унылые медные звуки, слетая с колокольни, тихо плавали в воздухе и бесследно таяли. В саду хрустнула ветка, а в роще снова загукала выпь, точно смеясь мрачным смехом.
Тихон Павлович встал, подошёл к окну и сел в глубокое кожаное кресло, недавно купленное им за два рубля у разорившейся соседки, старушки-помещицы. Когда холодная кожа прикоснулась к его телу, он вздрогнул и оглянулся.
Было жутко. Сквозь цветы на подоконнике и ветви клёна перед окном проникли в комнату лучи луны и нарисовали на полу теневой, дрожащий узор. Одно из пятен, в центре узора, очень походило на голову хозяйки кресла. Как и тогда, при торге, эта голова, в тёмном, мохнатом чепце, укоризненно качается, и старческие губы шамкают ему, мельнику:
– Побойся бога, батюшка! Кресло покойник Фёдор Петрович перед самой смертью купил, восемнадцать рублей дал. А давно ли он умер-то? Совсем новая вещь, а ты полтора рубля даёшь!..
И покойник Фёдор Петрович тут же, на полу: вот его большая, кудластая голова с густыми хохлацкими усами.
– Господи, помилуй! – вздохнул Тихон Павлович. Потом он встал с кресла, составил цветы с подоконника на пол, а сам уселся на их место.
За окном было тихо, грустно. Деревья сада стояли неподвижно, слитые ночью в сплошную, тёмную стену, за нею чудилось что-то страшное. А с колеса мельницы звонко и монотонно капала вода, точно отсчитывая время. Под самым окном сонно покачивались длинные стебли мальвы. Тихон Павлович перекрестился и закрыл глаза. Тогда в его воображении стала медленно формироваться городская история, выбившая его из колеи.
По пыльной, залитой знойными лучами солнца улице тихо двигается похоронная процессия.
Ризы священника и дьякона слепят глаза своим блеском; в руках дьякона позвякивает кадило, маленькие клубы голубого дыма тают в воздухе.
– Свя-я… – тоненьким тенором выводит маленький, седенький священник.
– …тый! – громовым басом гудит высокий дьякон в густой шапке чёрных волос.
– Бо-о-же, – сливаются оба голоса вместе и уносятся в безоблачную высь к ослепительно сверкающему солнцу, где так пустынно и спокойно.
– Бессме-е-ртный! – ревёт дьякон, покрывая своим могучим голосом все звуки улицы, – дребезг пролёток, шум шагов по мостовой и сдержанный говор большой толпы, провожающей покойника, – ревёт и, широко раскрывая глаза, поворачивает своё бородатое лицо к публике, точно хочет сказать ей:
«Эхва! Как я здорово вывел ноту-то?!»
В гробу лежит господин в сюртуке, с худым и острым лицом. На этом лице застыла важная, спокойная мина. Гроб несут неровно, и голова покойника сосредоточенно покачивается с боку на бок. Тихон Павлович взглянул на лицо усопшего, вздохнул, перекрестился и, увлекаемый толпой, пошёл за гробом, посматривая на дьякона, заинтересовавшего его массивностью голоса и фигуры. Дьякон шёл и пел, а если не пел, то разговаривал с кем-нибудь из шедших рядом с ним. Очевидно, человек в гробу не возбуждал у дьякона печальных дум о том, что и дьякон подлежит этой натуральной повинности, что придёт время, и его вот так же понесут по улице для того, чтобы зарыть в землю; а он, лёжа в гробу, будет вот так же потряхивать головой и не возьмёт уж в то время ни одной, даже самой лёгкой ноты.
Тихону Павловичу стало неприятно смотреть на весёлого дьякона; он остановился и, пропустив мимо себя много публики, спросил у какого-то гимназиста:
– Кого это хоронят, милой?
Тот взмахнул на него глазами и ничего не сказал в ответ. Это обидело Тихона Павловича…
– Такой молоденький мальчишка, а не имеет никакого внимания к старшим! Драть бы вас!
Ты что думаешь, я не узнаю, что мне надо? Фря какая!
Он пошёл дальше и снова очутился около гроба. Гроб несли четверо, причём шли очень быстро и не в ногу. У одного из несших всё сваливалось с носа пенсне, и он, вскидывая его снова на переносицу, непременно взмахивал при этом густой гривой рыжих волос.
«А покойник-то, видно, лёгонький, – подумал Тихон Павлович, – чиновник, надо думать, – они больше поджарые…»
Шли так быстро, точно человек, лежавший в гробу, ещё при жизни успел всем страшно надоесть и все старались как можно скорее отделаться от него. Тихон Павлович заметил это.
«Эк их гонят! Куда торопятся? Тоже люди божии! Чай, поди-ка, как жив был человек, так и то и сё, а умер – вали скорее в яму: нам некогда!»
Мельнику стало грустно: будет время, и его вот так потащат. Может быть, скоро уж – ему сорок семь лет.
«А это что такое?» – спросил сам себя Тихон Павлович, увидев на крышке гроба венки, ленты с надписями золотыми буквами и цветы. «Н-да… Значит, персона всё-таки важная. А вот провожатые – оборвыш-народ». – Кого это хоронят? – спросил он поравнявшегося с ним благообразного господина в очках и с курчавой бородой.
– Писателя… – тихо ответил тот и, окинув фигуру Тихона Павловича взглядом, вразумительно добавил: – Сочинителя…
– Понимаем, – быстро откликнулся Тихон Павлович. – «Ниву» выписываем, доченька читала насчёт их. Из важных будут покойные-то?
– Н-нет… Не из важных… – улыбнулся его собеседник.
– Так… Ничего… Всё-таки заслуженный миру человек. Ина слава солнцу, ина слава луне… звезда бо от звезды разнствует во славе… Однако – венки…
У Тихона Павловича неизвестно почему щемило сердце, скверно так щемило – то будто ущипнёт его, то как-то сдавит.
А голосистый дьякон всё пел:
– Свя-тый бессмертный!..
И дребезжащий тенор священника, чуть пробиваясь сквозь гущу дьяконова баса, робко и тихо просил:
– По-омилуй на-ас…
Глухо топала ногами толпа провожатых, поднимая с дороги пыль; покойник всё качал головой, и надо всем этим бесстрастно сияло знойное, июльское небо.
Тихона Павловича охватило какое-то угнетение – не хотелось ни думать, ни разговаривать. Охваченный общим смутным настроением толпы, шёл, чувствуя надоедливое нытьё где-то глубоко в груди и не находя ни сил, ни желанья отделаться от него.
Пришли на кладбище, остановились у ямы и поставили гроб на бугор вынутой из ямы земли. Сделали это как-то неловко, неумело. Покойник подвалился к боку гроба, потом снова принял прежнюю позу; казалось, он посмотрел вокруг и остался доволен тем, что его перестали трясти и скоро перестанут жарить на солнце. Дьякон всё усердствовал, сотрясая воздух; священник не отставал от него; кто-то из толпы подпевал глухим голосом. Звуки носились по кладбищу и, путаясь между крестами да чахлыми деревьями, давили Тихона Павловича.
И вот оно – самое главное.
Благообразный господин, у которого Тихон Павлович спрашивал о покойнике, подошёл к краю могилы и, проведя рукой по волосам, сказал:
– Господа!..
Он так это сказал, что мельник даже вздрогнул и уставился на него. Глаза у господина странно сверкали. Он то опускал их в гроб, то оглядывал публику, и пауза между его восклицанием и началом речи была так длинна, что все, кто был на кладбище, успели притихнуть и замереть в ожидании. И вот раздался мягкий, грудной, такой вдумчивый и печальный голос. Говоривший плавно помахивал рукой в такт своим словам; его глаза горели под очками, и хотя Тихон Павлович плохо понимал то, что говорил этот господин, однако он узнал из его речи, что покойник был беден, хотя двадцать лет он неустанно трудился на пользу людей, что у него не было семьи, что при жизни никто им не интересовался и никто его не ценил и что он умер в больнице, одинокий, каким был всю свою жизнь. Тихону Павловичу стало жаль покойника, ноющая боль в груди усилилась. Он пристально уставился на него, измерил глазами его худое, измождённое лицо, маленькую, тонкую и прямую фигурку и вдруг нашёл, что этот покойник похож на гвоздь. Он улыбнулся своей мысли. И в то же время благообразный господин, повысив голос, произнёс:
– Удары судьбы один за другим падали на его голову, и вот они, наконец, забили этого человека, посвятившего всего себя неблагодарной, чёрной подготовительной работе по устройству на земле хорошей жизни для людей! Для всех людей, без разбора…
Как раз в это время глаза оратора остановились на лице Тихона Павловича и, поймав его улыбку, сурово сверкнули. Мельник смутился и попятился назад, чувствуя себя виноватым и пред покойником, и пред тем человеком, который рассказывал о нём.
Солнце пекло беспощадно, синее небо смотрело спокойно на ниву мёртвых, на толпу вокруг свежей могилы, а голос оратора всё звучал, печальный и задушевный.
Тихон Павлович вертел головой, разглядывал сумрачные лица слушателей и чувствовал, что не его одного, – всех охватывает тоска.
– Засыпали мы наши души хламом повседневных забот и привыкли жить без души, до того привыкли, что и не замечаем, какие все мы стали деревянные, бесчувственные, мёртвые. И люди такие, как он, непонятны нам… – слушал Тихон Павлович.
«Верно! – сказал он тогда про себя. – Это так… Разве я не забыл про свою душу?!
Господи!»
Он вздохнул и открыл глаза. Струя тёплого воздуха влилась в окно из сада и обдала замечтавшегося человека запахом росистой травы, цветов и затхлой воды из пруда. Тени на полу дрожали сильнее, точно пробуя подняться и улететь. Мельник встал с подоконника, снова придвинул кресло к окну и подошёл к кровати. Разметавшись по перине, жена сопела и всхрапывала, широко раскинув пухлые руки. Эти руки и обнажённая грудь показались Тихону Павловичу чем-то неуместным в эту ночь и как бы задиравшим его. Сердито набросив на тело жены простыню, он взял подушку и, снова подойдя к окну, сел в кресло, положил подушку на подоконник, облокотился на неё и стал думать.