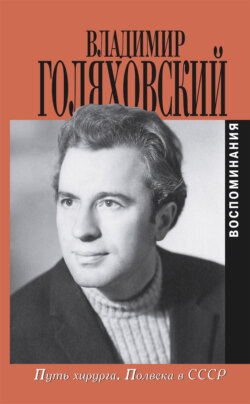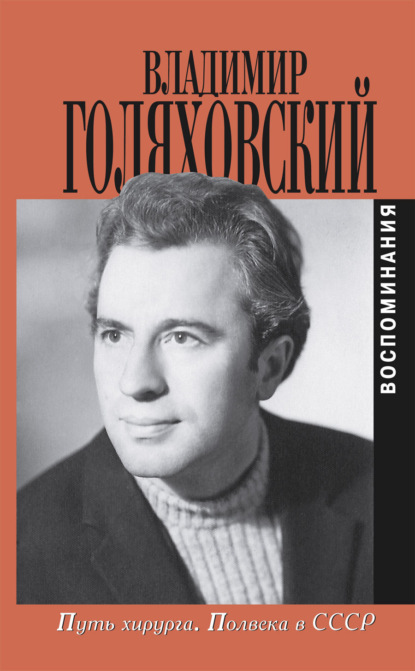Любой факт нашей жизни ценен не тем, что он достоверен, а тем, что он что-то значит.
ГЁТЕ (из книги Эккермана «Разговоры с Гёте»)
Текст печатается в авторской редакции
© Владимир Голяховский, автор, 2006
© Игорь Захаров, издатель, 2006
Предисловие
Нужно мыслящему человеку пожить в то время, чтобы понять, какой силы протест исподволь копился в душах против порядков, заставляющих немо и бессильно мириться с ложью и лицемерием, безнаказанно расцветших в обстановке, не допускающей, чтобы прозвучало правдивое слово… Не дали русскому человеку распрямиться во весь рост…
Олег ВОЛКОВ «Погружение во тьму»
Стать хирургом непросто, и быть хирургом очень нелегко – нужно много решимости, терпения, сил и выносливости. Я прошел эту гору – «Хирургия» – от подножия до вершины еще в советской России. Много написано о том времени, но почти ничего о тогдашней хирургии. Моя жизнь в ней была насыщена интересными событиями и поучительными наблюдениями. Но зерно любых истин кроется в деталях. Я веду рассказ о парадоксах прошлого в медицине, об иронии обстоятельств жизни советского доктора. Интерес любых воспоминаний кроется в социально-бытовом описании времени, основанном на личном опыте автора. Жанр мемуара имеет цель показать, что в каждой отдельной судьбе может отражаться картина жизни общества, как в капле воды может отражаться все небо.
Самое важное, что нам остается от прошлого, – это идеи и амбиции. Основы морали людей моего поколения были заложены советской властью, но как она ни подминала под себя все личное, в нас все-таки оставались наши врожденные и семейные качества. Вопреки общественным условиям и бытовым трудностям мы были озарены надеждами своей молодости. А молодость, как росток, находит в себе силы пробиваться через любые препятствия. Я пробивался в хирургии и сумел добиться многого, только идиотия коммунистической реальности заставила меня разувериться в России ив 1978 году покинуть ее на вершине моей хирургической карьеры. Тогда я не мог себе представить, что через тринадцать лет Россия исторгнет власть коммунистов над собой. Почему – это точно отразил в стихах поэт Булат Окуджава:
Вселенский опыт говорит,
Что погибают царства
Не оттого, что тяжек быт
Или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
Что люди царства своего
Не уважают больше.
Людям не за что было уважать «советское царство», и оно распалось. Такой же процесс распада происходил и в медицине, потому что медицина – очень чувствительный нерв развития государства и общества, в ней отражаются все их достижения и все недостатки. Об этих достижениях и недостатках я и веду свой рассказ.
Первая книга моих воспоминаний о советском периоде вышла в Америке в 1984 г. на английском языке под названием «Russian Doctor – A Surgeon’s Life in Contemporary Russia and Why He Chose to Leave» – «Русский доктор. Жизнь хирурга в современной России и почему он решил ее покинуть». Книга имела успех, была переведена на иностранные языки и опубликована в нескольких странах. Но тогда шла «холодная война» двух миров, советская Россия была за «железным занавесом», и русские читатели не могли ее прочитать. Продолжение той истории я описал в двух следующих книгах – «Русский доктор в Америке» и «Американский доктор из России». Они вышли в издательстве «Захаров» в 2001-м и 2003-м годах.
Теперь, через двадцать лет и через призму всех личных и глобальных перемен, я освежил свои ранние воспоминания для жителей новой России.
Доктор Владимир Голяховский, Нью-Йорк, 2005
Часть первая
2-й Московский медицинский институт имени И.В.Сталина
Я становлюсь студентом-медиком
Майскими короткими ночами,
Отгремев, закончились бои,
Где же вы теперь, друзья-однополчане,
Боевые спутники мои?..
Из песни послевоенных лет
Я сидел за длинным деревянным отполированным столом в «Мраморном зале» для Совета профессоров 2-го Московского медицинского института и сдавал последний вступительный устный экзамен по химии. Шел август 1947 года, мне было семнадцать лет, и я только что окончил среднюю школу.
Тогда по всей стране еще ощущалось веяние завершенной недавно – в мае 1945 года – Великой Отечественной войны против фашистской Германии (которую в мире называют Второй мировой войной). Среди нас, абитуриентов, было около 20 % демобилизованных ветеранов войны. Для них условия приема были льготные: их принимали в первую очередь, с любыми оценками за вступительные экзамены, несмотря на конкурс – четыре претендента на одно место.
Экзаменационные билеты, каждый с тремя вопросами, лежали на краю стола. Мы по очереди брали по одному билету, показывали экзаменатору номер и садились за стол – продумывать ответы. Ветераны, хотя еще молодые, но уже с сединой и утомленные войной, с трудом старались припомнить какую-нибудь формулу Бойля – Мариотта или закон сохранения вещества Ломоносова – Лавуазье.
После грохота пушек и взрывов бомб это давалось им с большим трудом: война готовила их не к академическим экзаменам.
Некоторые из преподавателей-экзаменаторов тоже лишь недавно демобилизовались из армии и вернулись к своей мирной профессии. Почти все они, ветераны-преподаватели и ветераны-экзаменуемые, еще носили военную форму, хотя и без погон, но со всеми боевыми наградами. На всех были довольно выцветшие зеленые гимнастерки со стоячим воротником, подпоясанные широкими военными ремнями с большими пряжками. Все были в брюках-галифе, заправленных в сапоги. В этих сапогах они прошагали половину Европы – от Москвы до Берлина, Праги, Будапешта и других городов. Купить гражданские костюмы и обувь было тогда непросто и дорого, да фронтовики и отвыкли от пиджаков с галстуками. По наградам можно было определить – как долго, как успешно и даже где человек воевал: за каждую взятую с боем европейскую столицу награждали медалями с названием города.
Моим соседом по экзаменационному столу был молодой худой ветеран с седыми кудрями, на груди у него висели восемь боевых орденов и медалей. Он, бедняга, вздыхал и старался ответить по билету хоть что-нибудь, но ничего не мог припомнить. Я искоса подглядывал в вопросы его билета и, когда экзаменатор на секунду куда-то отвлекался, я шепотом подсказывал ему ответы, пользуясь запасом своих свежих школьных знаний. Он послушно повторял за мной слово в слово, но мы оба побаивались экзаменатора: видно было, что он слегка скептически улыбался, слушая мой шепот и заикание соседа, и делал вид, что ничего не замечает. Но как-никак, а подсказывать и подслушивать не полагалось. Ведь черт его знает – вдруг рассердится и выгонит нас обоих.
Наш экзаменатор вполне мог бы служить зеркальным отображением моего соседа: он тоже был в выцветшей гимнастерке и с такими же наградами, только выглядел вдвое старше. Неожиданно он задал ему вопрос, не относящийся к химии:
– Вы где закончили войну?
– В Праге, – бодро ответил молодой ветеран, явно довольный понятным ему вопросом, и добавил с гордостью. – Я был танкистом, старшим лейтенантом.
– Из какой части? – живо наклонился к нему экзаменатор.
– Третья Гвардейская танковая армия генерал-полковника Рыбалко, – отрапортовал молодой.
– Чего же ты мне раньше не сказал, а? – воскликнул тот. – И я ведь из той же армии – майором был в штабе бригады генерала Якубовского.
– Так я же в соседней бригаде взводом командовал, – обрадовался молодой, – мы, значит, рядом воевали.
– Бок о бок! – наш экзаменатор взволновался, вскочил с места и через стол потянулся обнять своего однополчанина, тоже вставшего ему навстречу.
В большом зале от других экзаменационных столов все повернулись в их сторону, на минуту прекратился гул голосов, отвечавших по билетам. Оба ветерана оглянулись и снизили голоса.
– Слушай, я ставлю тебе «пятерку», высшую оценку, и пошли вместе куда-нибудь в ресторан – пить водку за нашу встречу, – сказал бывший майор и закрыл свою тетрадь для оценок.
Я понял, что в своей радости он забыл про меня, и если уйдет, то мне придется брать другой билет и садиться за стол к другому экзаменатору. Я неуверенно спросил:
– А со мной что будет?..
– С тобой? – переспросил он удивленно. – С тобой?
Потом, очевидно, понял мое разочарование, открыл свою тетрадь, написал там что-то напротив моей фамилии и с улыбкой протянул мне руку:
– Я тебе тоже ставлю «пятерку» – за помощь боевому фронтовику, попавшему в трудную мирную обстановку. С тобой вот что будет – ты станешь доктором.
И они оба ушли, стуча сапогами, – пошли вспоминать войну и живых и мертвых друзей.
Я стал студентом-медиком.
Первая лекция – марксизм-ленинизм
1 сентября 1947 года наш курс будущих врачей слушал первую лекцию – по марксизму-ленинизму. В общем, нам дела не было – какая лекция, по какому предмету. Семьсот молодых ребят и девушек собрались вместе в первый раз и с интересом разглядывали друг друга. Тут же происходили первые знакомства и стоял шум звонких голосов.
Но марксизм-ленинизм был выбран руководителями института специально – тогда было время высокого накала идеологического воспитания. В Советском Союзе была однопартийная система коммунистов; их идеологии придавалось важное государственное значение во всем – и в медицине тоже.
Двадцать рядов большой аудитории поднимались кверху амфитеатром, внизу перед нами висел обрамленный красным бархатом портрет Сталина. Мы с шумом усаживались и долго не успокаивались. На кафедру внизу медленно и грузно взошел лектор солидного вида, в хорошо пошитом сером костюме – сразу видно, что профессор. Несколько минут он ждал прекращения общего шума. Это был заведующий кафедрой марксизма-ленинизма по фамилии Дубинин, и правда – говорил он тоже дубовато.
– Поздравляю вас, товарищи студенты, с поступлением во Второй медицинский институт имени товарища Сталина! Все вы, товарищи, будущие советские врачи, и вы все должны быть политически грамотны и идейно устойчивы. Без передовой советской идеологии, товарищи, нельзя стать хорошим советским специалистом.
Чтобы объяснить, почему нельзя стать хорошим специалистом без идеологии, он раскрыл «Правду» – газету Коммунистической партии (тогда она называлась Всесоюзная коммунистическая партия большевиков – ВКП(б)):
– Вот что говорил на Семнадцатом съезде ВКП(б) великий вождь и учитель всех народов товарищ Сталин…
Тут я увидел на скамейке впереди себя, немного наискось от прохода, хорошенькую блондинку, – когда она повернулась в профиль, то показалась мне просто красавицей. Мне сразу больше всего на свете захотелось рассмотреть ее получше, я впился в нее глазами – когда она опять повернется. Это так меня заняло, что я не расслышал и так до сих пор не знаю, что говорил великий вождь об идеологической подготовке советских специалистов.
Хотя однокурсники сидели в терпеливой тишине, но было видно, что многие тоже крутили головами. Правда, было несколько таких, которые разложили перед собой тетради и записывали за лектором его высказывания. А он просто-напросто, что называется, сыпал цитатами. «Чего они записывают? – удивлялся я. – Читали бы газету».
Время от времени, когда блондинка отворачивалась, мое внимание отвлекалось на голос лектора. Он зачитывал по газете все новые цитаты. Я даже поразился – как, оказывается, много основатели марксизма-ленинизма сделали высказываний по поводу важности идеологии для специалиста. Лекцию он закончил обобщением:
– Товарищи студенты, углубленно изучайте марксистско-ленинское учение – оно самое верное, потому что самое правильное.
«Верное, потому что правильное» – масло масляное. Но все равно: мне, семнадцатилетнему юнцу, из первой лекции лучше всего запомнилась блондинка. Ее звали Лена Козак. И кажется, я сразу в нее влюбился.
Вторая лекция – по анатомии – была в старом анатомическом корпусе бывших Высших женских курсов, построенном еще в XIX веке. Туда надо было переходить по двору, и у нас был перерыв. Я старался не потерять из вида блондинку и всматривался в толпу своих новых соучеников. Почти все были очень юные, но лица у большинства худые и бледные – послевоенное время было еще голодное. Большинство одеты были во что-то поношенное, не по размеру. Девушки в красивых платьях попадались редко. То тут, то там мелькали зеленые гимнастерки ветеранов.
Аудитория для второй лекции была меньше и круче, нас разделили на два потока, и мы сидели тесней. Внизу стоял обитый металлом секционный стол для вскрытия трупов, сильно пахло формалином. Профессор анатомии Петр Петрович Дьяконов в распахнутом белом халате смешными мелкими шагами стремительно ворвался в аудиторию через узкую боковую дверь. Это был худощавый седой старик с растрепанной бородой и лохматой прядкой редких волос. Вид у него был почти карикатурный, многие невольно захихикали. Ассистенты внесли за ним скелет и ящик с костями. Не обращая внимания на наши улыбки и смешки, он сразу заговорил, почти закричал высоким фальцетом:
– Начнем с основы анатомии – «остеологии» – с учения о костях…
Два часа он, не глядя, доставал одну за другой разные кости из ящика, вертел их в руках, подбрасывал, как жонглер, и сразу по-латыни называл – какая это кость, ее назначение и разные бугорки и впадины на ней. Латинскими терминами он жонглировал так же, как и самими костями. Мы ничего не понимали, но много смеялись: молодые – смешливые. Он был веселый и тоже усмехался, но в конце строго сказал:
– Так я и мои ассистенты будут вас спрашивать на зачетах: берете, не глядя, кость из ящика и на ощупь называете ее и ее строение по-латыни. Назубок знать надо!
Ого! – это уже не показалось нам смешным.
После лекции все собрались по группам – около двадцати студентов в каждой. К моему огорчению, блондинки в нашей группе не оказалось. Но ничего – все-таки были две-три хорошенькие девчонки. Ветеранов армии среди нас тоже не было. Половина группы были москвичи, остальные из разных республик и мест. Мы знакомились: Муся, Софа, Инна, Марьяна, Ивета, Таня, еще одна по имени Нега. Трое были из Грузии: Вахтанг, Автандил и Ира. Один высокий курчавый парень – Борис, москвич, – все время острил и явно старался смешить девушек. Два парня – Коля и Вася – были, наоборот, тихари из провинции. Девушки-москвички хихикали над остротами Бориса и вели себя свободно. Более чопорные девушки из провинции смотрели на него с укоризной – задается. Им такая свободная манера общения не нравилась. Почти с первого дня сама собой наметилась разница и незримое разделение между москвичами и провинциалами. По еврейским фамилиям списка группы, да и по лицам, было ясно, что многие москвичи – евреи.
Появился представитель комитета комсомола:
– Поднимите руки – кто комсомольцы?
Подняли все, кроме двоих. Я тоже был комсомольцем.
– Поднимите руки – кто члены партии?
Таких не было. Таню, из русской провинции, тут же выбрали старостой группы, Иру из Грузии – комсоргом, москвичку Инну, еврейку, звонко хихикавшую больше всех, – физоргом группы. Так был установлен порядок на шесть лет вперед. Завтра начинались регулярные практические занятия. Расписание: два часа – латинский язык, два часа – анатомия, два часа – марксизм-ленинизм. Как же без него?
Настроение ожиданий
Став студентом, я, конечно, был полон радости и ожидания больших перемен в моей жизни. И это мое настроение по времени полностью соответствовало настроению всех моих соотечественников. Вынеся тяжелые испытания войны, в которой погибли двадцать миллионов человек и десятки миллионов остались инвалидами, одинокими и сиротами, поголовно все советские люди жили тогда в предвкушении всеобщих улучшений. Когда и как они наступят, эти улучшения, никто не знал. Но все верили, что Советский Союз недавно пережил кульминацию своих страданий за все тридцать лет от революции 1917 года и, наконец, подходит время для экономических облегчений и морального отдыха. Это настроение поддерживалось правительством Сталина и партийной прессой – мажорный тон политических выступлений и статей помогал людям мириться с трудностями и надеяться. Все были патриотами и все ждали. И наша семья тоже.
Мы с мамой были счастливы, что отец невредимым вернулся с войны, на которой провел все 4 года. Он был военным врачом, полковником, главным хирургом танковой армии, получил четырнадцать боевых наград. Теперь он вернулся к своей мирной работе – главного врача Института хирургии Академии медицинских наук. Хотя положение его было достаточно высокое, жили мы в одной комнате коммунальной квартиры, в двухэтажном деревянном бараке на краю Москвы – за станцией метро «Сокол». Тогда это по-старинному называлось «Село Всехсвятское», по имени церкви «Всех святых» (эта 300-летняя церковь стоит до сих пор).
В те годы в пригороде у москвичей были маленькие личные огороды для картофеля – основного продукта питания. Возле дома и у нас был огород, на котором мы растили картошку и немного других овощей – морковь, редиску, петрушку. Мне с соседями приходилось по очереди охранять огороды по ночам. В квартире с нами жили еще две семьи, всего девять взрослых. На всех была одна уборная и одна маленькая кухня. В ней – единственный железный умывальник, а на столах постоянно шумели керосиновые примусы, газа и горячей воды не было. Правда, была ванная комната с колонкой для дровяного отопления, но вода туда не была подведена, да и дров для отопления все равно не было. Поэтому в ванну мы высыпали картошку – запас на зиму.
Несмотря на тяжелые условия, жили мы довольно легко и весело. Жизнь семьи в одной комнате была тогда общим правилом, все жили тесно. Строительство жилых домов было редкостью, квартиры давали только большим начальникам и партийным руководителям.
Отец зарабатывал хорошо, мама немного подрабатывала надомной работой – красила шелковые платки анилиновой краской (которая очень едко пахла). Но из-за товарного голода тратить деньги было почти не на что. Моим родителям было 47 и 46 лет, еще полные энергией, они радовались жизни, которую временно придавили годы войны. Очень общительные люди, родители любили приглашать гостей на званые обеды и даже умудрялись в тесной комнате танцевать под заграничный патефон – трофей, который отец привез с фронта. На время этих приемов я уходил в единственное тихое место – в ванную с картошкой и занимался по учебникам или читал русских классиков.
Семья наша была смешанная еврейско-русская, в советское время было очень много смешанных браков. Отец— из бедной еврейской семьи, сам пробил себе дорогу в медицину, хороший хирург, не очень образованный за пределами профессии. Мама, наоборот, из старинного дворянского рода терских казаков, очень интеллигентная. И гости наши тоже были интеллигенты: доктора, артисты, писатели, юристы. Многие из них евреи. Положение евреев во время войны и сразу после нее улучшилось: в те годы стране нужны были образованные и активные работники, и режим коммунистов мирился с выдвижением евреев. Они занимали средние посты в государстве, особенно в Москве, и выдвигали своих детей, надеясь, что государственному антисемитизму пришел конец. Эта надежда была особенно сильна после войны, когда весь мир ужаснулся уничтожению шести миллионов европейских евреев фашистами гитлеровской Германии.
Все были уверены: после войны Советскому Союзу некого опасаться – мир увидел нашу силу. Соединенные Штаты Америки, Англия и Франция были нашими союзниками, Германия должна была платить нам громадную контрибуцию за разрушенные города и производства. Интеллигенция надеялась, что пришел конец изолированности Советского Союза от Запада. Как-никак, впервые лидеры этих стран приезжали в Москву, впервые о них писали в газетах и печатали их портреты, а не карикатуры на них. И впервые люди перестали бояться контактов с иностранцами и открыто рассказывали о них другим.
Первое привыкание
Московские институты превосходили периферийные во всем, но особенно – своим профессорским составом. Столица долгие годы вбирала в себя всех лучших ученых со всей страны, зачастую сильно обедняя провинцию. Только Ленинград мог соперничать с Москвой. Среди наших профессоров были ученые, знаменитые на весь Союз и на весь мир. И многие другие преподаватели были опытные и интеллигентные люди. То, что называется «столичным блеском», было видно во всем – лекторы часто поражали высоким классом своих лекций, и оборудование для занятий тоже было лучшее для того времени и тех условий, хотя не всегда самое передовое (а что было передовое – мы не знали).
Еще в самом начале нашей учебы мы поняли, что одним из лучших лекторов был профессор кафедры биологии Бляхер – эрудит и интеллектуал, автор учебника, по которому учились студенты всей страны. У него была строго-чопорная наружность – в застегнутом обтягивающем пиджаке, с крахмальным воротничком под подбородок, в пенсне, он выглядел, как интеллигент начала века. И лекции он читал строго-чопорно, суховато. Но зато это был каскад интересных сведений, с яркими примерами и тонкими сравнениями. От него мы впервые услышали, что хороший врач любой лечебной профессии должен уметь мыслить биологически, – это даст нам кругозор в понимании болезней. Меня эта мысль поразила, я запомнил ее на всю жизнь и всегда ей следовал.
Другой блестящий лектор был профессор кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Геселевич, тоже автор самого популярного учебника. Хотя его предмет был относительно скучный и отвлеченный от практики, но его лекции были всегда очень живые, насыщенные мыслями и остроумными комментариями. Он оживлял аудиторию примерами и рассказами и сам много смеялся. К нему на лекцию ходили не только слушать, но и посмотреть на него, особенно – влюбленные студентки. Геселевич, около пятидесяти лет, выглядел моложаво – с небольшой бородкой-эспаньолкой французского типа, стройный, подвижный, держался всегда очень прямо, двигался свободно и сверкал лучезарными карими глазами. На войне он был полковником и до сих пор носил элегантно сшитую форму с погонами, а на груди сверкал орден Ленина – высшая награда, которую редко давали врачам.
Но самым знаменитым ученым был почетный академик Гамалея, прямой ученик великого Луи Пастера – французского создателя науки бактериологии. Гамалея учился у него во Франции еще в XIX веке и сам сделал много открытий. Теперь ему было восемьдесят девять лет, он был слишком стар и слаб и редко появлялся в институте. Один раз его привезли на защиту какой-то диссертации. Он сидел и дремал, не проявляя интереса. Диссертантка, молодая женщина, не знала, кто он такой и что сидит в зале, но сослалась на его труд, написанный еще в прошлом, XIX веке, такой фразой:
– Еще покойная Гамалея писала…
Все вздрогнули, посмотрев на него, он сидел спокойно и дремал, а под конец сказал:
– Ну, что я уже не мужчина, я согласен, и меня можно называть с женским окончанием слов, но почему же – «покойная»?
Это потом стало ходячим анекдотом.
Вторым знаменитым ученым была профессор физиологии Лина Соломоновна Штерн – единственная женщина – член Академии наук СССР и еще и Академии медицинских наук.
Она была известна во всем мире открытием «гематоэнцефалического барьера» (особого строения сосудистой системы мозга). И еще все знали, что она была приятельницей самого Ленина. Она до революции жила и работала в Швейцарии. Там в начале века познакомилась с Лениным во время его европейской иммиграции, они подружились, и она прониклась его идеями. После революции ее пригласили переехать в Москву, она согласилась. Штерн тоже была уже стара и редко появлялась в институте, но мне и Борису из моей группы довелось беседовать с ней. Она зашла в лабораторию, где мы делали опыты на лягушках, и заговорила с нами. Робея, мы все-таки задали ей вопрос о физиологических переменах в людях разных эпох. Как ни велика была дистанция в наших с ней положениях и возрасте, она говорила с нами серьезно, добавляя к речи интересные обороты и даже пикантные остроты.
Еще один великий ученый был академик Давыдовский, один из основателей морфологии – науки о строении тканей. Это был эрудит редкостно большого масштаба, автор лучших книг и учебников. Когда он всходил на кафедру, то казалось, будто над его высоким голым черепом светился нимб святой чистоты науки. А когда он говорил, то каждое его слово было истиной науки. Мы, свежие юнцы, всего этого еще не могли понять и оценить, но по примеру старших благоговели перед этими профессорами.
От старшекурсников мы знали, что есть несколько известных профессоров-клиницистов: Гельштейн, Зеленин, Гринштейн, Этингер. Пока мы могли только предвкушать, как в будущем станем учиться у этих корифеев.
Но даже и в Москве в те годы было мало учебников, а купить их – почти невозможно.
В институтской библиотеке выдавали одну книгу по каждому предмету на двух-трех студентов. Мы группировались и стояли в длинных очередях на их получение. Некоторые старшекурсники давали или продавали нам свои старые учебники. Но им они тоже были нужны – для справок.
И вот мы уже зубрили латынь и на занятиях по анатомии вскрывали трупы. В большой секционный зал с десятью столами для вскрытия трупов набивалось более ста студентов. Привыкать к мертвецам и к голым телам многим молодым было нелегко. Недостатка в трупах не было – в те голодные годы от истощения и инфекций умирало много людей, немало кончали жизнь самоубийством, да и лечить болезни зачастую было нечем – антибиотики еще не получили распространение. По разным причинам родственники хоронили не всех умерших. В каменных ваннах подвала анатомического корпуса плавали в формалиновом растворе сотни истощенных трупов, им не хватало мест, и между ваннами на полу их сваливали десятками, так что приходилось буквально перешагивать через них. В растворе они не гнили, не коченели и не пахли трупной вонью, зато от них исходил густой формалиновый запах. Трупы хранили там месяцами, пока студенты на занятиях не рассекут все их ткани до основания. Мы должны были сами приносить их на носилках из подвала в секционный зал. Девушки боялись туда спускаться, да и носить трупы по лестнице им было тяжело. Это приходилось делать молодым мужчинам. Некоторые даже бравировали этим. Борис всегда вызывался идти в подвал первым, я шел за ним. Однажды он сыграл со мной грубую шутку: когда я вошел в комнату с трупами, он снаружи захлопнул металлическую дверь и погасил свет, – я остался в темноте один на один с десятками покойников. Но Борис сам за меня испугался, быстро включил свет и открыл дверь.
Дразня наших девушек, он говорил:
– Эх, вы, слабый пол!.. Сейчас пойду, облюбую себе мертвую девицу, раздвину ей ноги и проверю, чтобы она была целочка. Хочу увидеть хоть одну в мире целочку.
Девчонки наши, конечно, стеснялись и дулись. Москвички махали на него руками:
– Борька, дурак! Как ты можешь говорить такое?!
Провинциалки злобно переглядывались:
– Уж если он нас не стесняется, то хоть бы имел уважение к покойникам!
Вообще привыкание к трупам и работа на них – это очень трудное и специфическое дело для начинающего студента-медика. Многие из нас нервничали – мы были слишком молоды для такого испытания. Но наши ветераны-фронтовики были в секционном зале спокойней других – уж они-то на смерть насмотрелись.
Преподаватели распределяли – кому какую часть трупа вскрывать для изучения. Мы подходили робко, впервые скальпелем рассекая тело. Хоть и мертвое, но все-таки – тело же! Особенно неловко было вместе с девушками рассекать и изучать половые органы.
Тут у Бориса вырывалось особенно много сальных острот.
– Девчонки, девчонки, скорее сюда! – звал он.
Они заинтересованно подходили:
– Что ты нас звал?
– Глядите – какой громадный член у этого мужика. Представьте себе, какой длины он был в состоянии эрекции!
– Ну тебя к черту!
В другой раз, разрезая ткани, он говорил:
– Ого, а эта дамочка хоть и молодая, а была игривая – от девственной плевы совсем ничего не осталось. Представляете себе, сколько мужских членов скользило по этому влагалищу?
Опять были упреки, злоба и обвинения в нахальстве. Есть поговорка: «Курица – не птица, медичка – не девица», но наши были такие молодые и выглядели такими невинными, что я не решался шутить развязно – это было не в моем духе. Я позволял себе пикантные остроты, но большей частью выражал их стихами. Я с детства писал стихи и на первом курсе сочинил целый цикл «Анатомия любимой». В нем я воспевал прелести разных частей женского тела. И с гордостью читал их нашим девушкам. Вот одно из них:
Ножки
Скрыты юбкой по колено
Ножки стройные у вас,
С них украдкой, неизменно
Не свожу я жадных глаз;
И скользя наверх за ними,
Потерял совсем покой —
Только ножками одними
Вечно занят разум мой.
Как умеете вы скрыто
Приманить, потом спугнуть,
Топнуть об пол так сердито
И кокетливо чуть-чуть.
Как, играя, незаметно
Все вы можете сказать,
Неужели, ножки, тщетно
Суждено мне вас желать.
Я прошу совсем немножко —
Каплю вашего огня:
Девушки слушали с интересом, а я делал паузу и заканчивал:
Ах, придите, прелесть-ножки,
Ах, раздвиньтесь для меня.
– Володька, какой противный! – взвизгивали они после неожиданного конца.
Но поэтическое мое самолюбие было вознаграждено их заинтересованным вниманием.
Много раз я робко пытался привлечь внимание блондинки Лены (впрочем, не решаясь начинать с чтения таких стихов). Но она никак не реагировала на мои старания. Девушки из группы заметили это и сказали:
– Напрасно стараешься, Ленка уже встречается с другим – с Гришкой со второго курса.
Все-то они замечали и все знали!
В мое поле зрения попала полная шатенка из соседней группы – Роза. Я размышлял, с чего начать заигрывание, но она сама проявила инициативу:
– Помоги мне разрезать ногу этого трупа – мне страшно одной, – сказала она.
Мы встали рядом и рассекали ткани. Роза несколько раз как бы невзначай прижималась ко мне все сильней и кокетливо улыбалась большими серыми глазами. Вот ситуация! – любовное заигрывание при вскрытии покойника. Я резал кожу и мышцы, а меня обдавало жаром от ее прикосновений – вспыхивали юные гормоны. От близости живого женского тела я готов был рассекать то, мертвое, целый день. Только бы она стояла рядом.