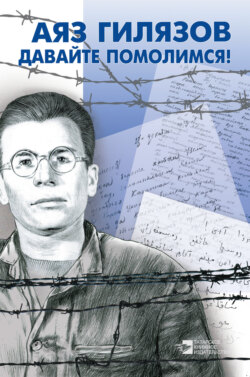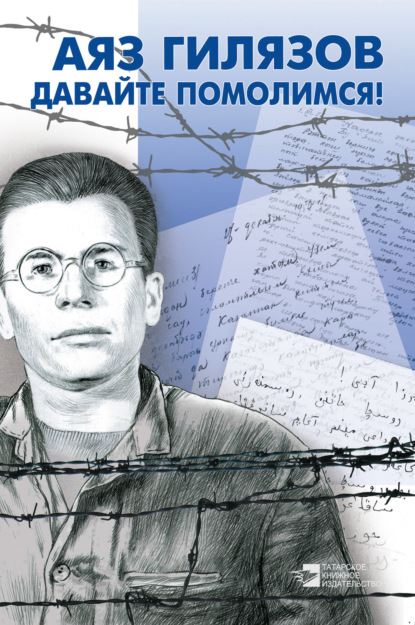© Татарское книжное издательство, 2017
© Гилязов А. М., насл., 2017
© Ишмухаметов Н. Р., пер. с татар., 2017
© Хабутдинова М. М., сост., подг. текстов, коммент., 2017
* * *

Великий сын татарского народа
Аяз Гилязов (1928–2002) – писатель, внёсший неоценимый вклад в татарское литературное наследие. Первые шаги на писательском поприще он сделал в годы, когда сталкивались порой самые противоречивые представления. И даже в таком водовороте мнений Аяз Гилязов сумел выработать свою позицию, сформировать свою точку зрения, так как искренне верил в то, что путь, избранный им, единственно правильный. Воистину, какое его произведение ни возьми – «Три аршина земли», «В пятницу, вечером…», «Весенние караваны», «Сказание о любви и ненависти», «За околицами луга зелёные», «Рана» или «Давайте помолимся!» – это настоящие шедевры, вышедшие из-под пера настоящего мастера, который искренне был озабочен судьбой своего народа и своей страны. Его публицистические заметки, философские мысли, изложенные в дневниках и письмах, не потеряют своего значения и в будущем.
Исключительно важна воспитательная составляющая произведений Аяза Гилязова. Это сочинения, которые являются духовным богатством татарского народа, отражают самые тонкие национальные черты и важнейшие явления нашей эпохи. Они доносят и до современного читателя, и до будущих поколений особенности жизни человека середины ХХ века.
Спектакли по пьесам Аяза Гилязова в 1960–1990-х годах один за другим появлялись на сценах многих театров. Особенно врезался в память спектакль «Осенние ветры», поставленный татарскими актёрами-«щепкинцами». В этом спектакле они не только обрели бесценный опыт, но и по-настоящему поверили в себя. После этого на протяжении практически полувека «щепкинцы» стали ведущей творческой силой Камаловского театра и до сих пор находятся в эпицентре нашей театральной жизни.
Аяз Гилязов стал считаться профессиональным писателем с 1963 года. Понятно, что мы, его современники, можем только догадываться, с какими трудностями встретился на своём творческом пути человек такой сложной судьбы. Он не занимал руководящих постов в Союзе писателей, но собратья по перу всегда прислушивались к его советам и замечаниям и были внимательны к ним.
Можно полагать, что ему было непросто, являясь главой большой семьи, доверяться только своему перу. И как бы то ни было, он стал не только художником-мыслителем, добившимся заслуженного признания и как прозаик, и как драматург, но и настоящим семьянином. Мудрость Аяза Гилязова проявилась и в том, что он со своей супругой Накиёй Ильгамовной, подавая своим трём сыновьям – Искандеру, Мансуру и Рашату – пример благородства, справедливости, доброты, рассудительности и трудолюбия, вырастили их настоящими людьми, приверженными делу отца, который беззаветно служил родной республике и её народу. Достойные дети достойных родителей – я бы так сказал. Всем нам известны историк, учёный, писатель, общественный деятель Искандер Гилязов, писатель, драматург, сценарист Мансур Гилязов, они вносят большой вклад в развитие современной татарской литературы, науки и искусства, пользуясь заслуженным авторитетом в творческой и научной среде.
Глубокую признательность и огромную благодарность заслуживает Накия-ханум Гилязова, чьей преданностью памяти мужа и ответственностью за его литературное наследие можно только восхищаться! По сей день она кропотливо трудится над тем, чтобы произведения Аяза Гилязова стали достоянием российской и мировой литературы. Знаю не понаслышке, книга «Давайте помолимся!» на русском языке издаётся во многом благодаря инициативе, настойчивости и стараниям Накии Ильгамовны. Большое спасибо всем, кто работал над книгой, это прекрасный подарок нашим читателям.
Нет сомнения в том, что и в будущем творчество народного писателя Татарстана Аяза Гилязова будет пользоваться неизменной популярностью у всех благодарных поколений.
Минтимер Шаймиев, Первый Президент Республики Татарстан, Государственный Советник Республики Татарстан
Вместо предисловия
Милый, дорогой старый друг Аяз!
В один из дней начала августа 2016 года меня посетила огромная радость: после многолетних безуспешных поисков твои соотечественники всё-таки разыскали меня и поиск этот увенчался редкой эйфорической радостью: благодаря достижениям современной техники я оказался счастливым владельцем двух ценных для меня карандашных зарисовок. Под рисунками стоят даты – 1953 и 1954, рядом подпись: Галгоци. Оба портрета изображают Тебя, мой друг. На одном из них Ты изображён в ушанке и телогрейке таким, каким Ты был в то время, когда вместе со мной дробил камень под Карагандой в Волынском лагере, а на другом портрете – Ты с безупречной причёской в модном костюме, в белой рубашке с галстуком – изображён таким, каким бы Ты был, если бы бесчеловечный режим так жестоко не прошёлся в ранней молодости по Твоей судьбе.
Сколько мы разговаривали с Тобой в наступающих поздних сумерках об угнетающем, унижающем достоинство человека, об уничтожающем наши народы режиме! Я помню, как в один из дней мы отправились на работы в каменный карьер без Тебя. У кого бы я ни спрашивал, никто не знал, почему Тебя сегодня нет с нами, ведь Ты не был болен. Вечером, возвратясь с работы, я нашёл Тебя сидящим на краю нар, и Ты по секрету, доверительно, стараясь, чтобы никто не услышал, рассказал мне, что Кум, ведущий дело следователь, потребовал Тебя к себе и призывал к сотрудничеству, то есть к доносительству, и что Ты его предложение решительно отверг. Когда я напомнил о том, что отказ от подобного рода предложения может иметь очень серьёзные последствия, Ты глубоким взглядом посмотрел мне в глаза и сказал: «Арпад, честь для меня дороже свободы».
Тогда я действительно восхищался Тобой.
Наши вечерние и ночные разговоры становились всё более частыми и откровенными. Ты был единственным татарином в нашем многонациональном коллективе. Вначале мы тебя называли Чингизом, потом – Батыем. У меня сохранились самые светлые воспоминания о тебе. В тюрьме мы познакомились с интересными людьми, которые помогли нам сформироваться как личность. ГУЛАГ для нас стал настоящей школой жизни.
Вскоре судьба нас развела, я освободился из лагеря, и, очевидно, Тебе тоже удалось выйти на свободу, но тогда мы потеряли друг друга из виду. Мне пришлось ждать шесть лет, прежде чем я попал на родину, к Тебе судьба оказалась благосклоннее.
Потом режим пал. Начался период, о котором мы тогда не смели и мечтать. Мне известно, с какой радостью Ты воспринял нашу великую революцию 1956 года и борьбу за свободу, к сожалению, мы потерпели поражение, но пробили такую дыру в корабле ленинизма-сталинизма, которую в дальнейшем уже невозможно было заделать.
После смены режима человек стал человечнее. Тебе удалось добраться до самых высоких литературных вершин, Ты стал гордостью нации. Судьба не предоставила нам такой возможности, чтобы мы встретились как успешные свободные люди, Ты оставил этот мир, но перехитрил судьбу и через 65 лет обращаешься ко мне, и сейчас я пишу предисловие к новому изданию Твоих произведений.
Скоро и мне исполнится 90 лет, и в своё время я тоже поплыву в туманной мгле за Тобой. А какие вечные разговоры предстоит нам с Тобой вести! А пока, прошу, запасись немного терпением, жди меня, и я обещаю, что непременно найду Тебя.
Аяз, дорогой друг, до встречи на другой стороне бытия!
Арпад Галгоци, переводчик русской литературы на венгерский язык, кавалер ордена Дружбы Российской ФедерацииПеревод с венгерского Риты Хасановой
Давайте помолимся!
(Роман-воспоминание)
Всё, что я видел и пережил, вошло в эту книгу.
Первый год я писал её чернилами – но чернила кончились.
Второй год – слезами, но и слёзы высохли.
Третий год – кровью, но и её не хватило.
Гаяз Исхаки. «Лукман Хаким»1
Первая часть
1
Какую власть всё-таки имеют над нами воспоминания!
Юрий Казаков2
Если начну свой рассказ словами: «Эх-х, нечаянные радости тюрьмы!», не торопись укорять да ругать меня, дорогой читатель, мол, автор-то, похоже, рассудком помутился, и не спеши, пожалуйста, закрывать книгу! Если бы скрытая от многих глаз тюремная жизнь состояла из одних только бед, горестей и печалей, то никто бы оттуда живым не вышел!
В тюремных застенках – в этом тёмном мире, куда отовсюду собирают и заставляют вариться в одном котле преступников всех мастей, всё же выпадают небольшие, не больше кончика мизинца, радостные минутки. Следом за каждым узником в душные и тесные камеры входит Надежда. Ну и что же, что жизнь искалечена и разрублена на «до» и «после», отнять у человека Надежду не может даже самый беспощадный палач. Пока голова на плечах – Надежда жива. У каждой тюрьмы свои законы и традиции, свой цвет и запах, своё меню. Однако во всех тюрьмах у заключённых, при всех их различиях, общие утешения и чаяния: кто-то попал сюда недавно, кто-то не первый год чахнет в неволе, а кто-то и умирает, так и не дождавшись свободы. Из собравшихся в камере судеб, кажущихся на первый взгляд обрывочными и несвязными, складывается непрерывная цепочка Памяти, никогда не бывающая пустой тюрьма, словно каменная чаша, из года в год пополняется надеждами и чаяниями заключённых, они бережно передают их из рук в руки, от одного поколения к другому, стараясь не расплескать ни капли. В самые первые дни пребывания в камере, когда на душе тошно, когда подавлена воля и сломлен дух, тебя начинают знакомить с туманной историей этого заведения. А в конце рассказа добавят: «Архитектора-то этой тюрьмы самого посадили!» «Ага! – радуешься ты, – так и надо этому ироду!» «Да, – говорят твои товарищи, – выродок, придумавший адский погреб, не должен уйти от наказания!» Взявшиеся поведать тебе историю этой тюрьмы заключённые поднимут твоё настроение бессчётными примерами о других арестантах: когда-то верховодивших тюремных начальниках и, конечно же, о незадачливых следователях.
И что удивительно! На второе же утро твоего пребывания в 24-й камере «гостиницы» на Чёрном озере из коридора доносится глухой стук шагов! Деревянная нога! Слышно, как конвоируемый грязно ругает надзирателя! Сокамерники – казанец Нигмат Габитович Халитов и парень из Подберезья Кабир Мухаметшин расплываются в улыбке: «Ба, неужто прокурора загребли?! Только на прошлой неделе ещё ходил с проверкой по камерам».
Позже стало известно: арестовали заместителя прокурора. Такие радостные вести могут пробить насквозь не то что толстые тюремные стены, но и земной шар!
Быстро выйти на свободу из нашей тюрьмы, дурная слава о которой распространилась далеко за пределы Чёрного озера и одно упоминание заставляет содрогаться сотни невинных сердец, пустая затея, истории подобные случаи не известны, в цепочке Памяти такого звена нет. О том, чтобы сбежать, обманув охрану, и думать не смей! Смешно! Недавно оказавшиеся в заключении неопытные арестанты поначалу ещё тешат себя мечтами: «Это ошибка! Меня скоро выпустят!» – Напрасно! Сменив пару камер, вкусив все прелести тюрьмы, на собственной шкуре испытав, как работает российская исправительная система, арестанты быстро избавляются от несбыточных мечтаний. Все светлые надежды, с которыми они входили в мрачные камеры, одна за другой гаснут. В конце концов остаётся единственное – «Амнистия!» – незыблемая надежда всех сидельцев. Приближаются Октябрьские праздники – арестанты полны надежд. Подует весенний ветерок, на носу Первомай и День Победы, – угасшие осенью надежды разгораются с новой силой. Со временем арестант начинает от самого себя прятать чаяния и мечты, успокаивается, становится невозмутимым. Полгода пробарахтавшийся на грани утопления в Чёрном озере зэк – доктор юридических наук, год похлебавшие тюремной баланды – профессоры, а если встретишь среди них того, кто три года продержался на глади озёрной бездны – знай, перед тобой академик! По уровню и скорости приобретения знаний равных школе тюремной нет. Переходящий из одного «класса» в другой, отчётливо понимающий, куда ведут все «науки», заматеревший зэк уже не верит ни в амнистию, ни в хорошие сны, смотрит свысока на набрасывающихся на любой мелкий корм сокамерников, замыкается в себе. Повернувшись спиной к железной двери, он подолгу глядит на заколоченное крепкими досками слепое окно, прозрачное стекло которого со временем стало иссиня-чёрным. Силой воображения он размыкает все замки и сквозь двери и окна устремляется в одному ему известный, бережно хранимый, спрятанный от чужих глаз в глубинах сердца вольный край. На дверь он и не думает оборачиваться в минуты высокого полёта, потому что знает, она открывается лишь для того, чтобы впускать арестованных, и никогда – чтобы выпустить.
«Радости» я сказал. Есть они. Вы, наверное, скажете, что радостью было получить передачу с воли? Да, если принесут немного домашней еды – радуешься. Но как подумаешь, что в тяжёлые советские времена родным и знакомым приходилось обделять себя куском хлеба, чтобы ублажить ненасытную тюремную глотку… то вся радость от передачи гаснет, как свеча на ветру. А времени-то для раздумий в тюрьме предостаточно!.. И всё же… Если никто к тебе не приходит, не скучает по тебе – пропадёшь. Ты даже не жучок, загнанный и застрявший в расщелине каменной стены, ты – нуль, нет тебя, ты – чека, выпавшая из колёсного крепления заезженной, расхлябанной телеги, плетущейся на свалку, оставшийся лежать в непролазных зарослях полыни, мажущий всё и вся дёгтем, разлетевшийся на куски, бесполезный клин.
Нигмат Халитов, среднего роста, коренастый татарин, получает передачи регулярно. И дом его неподалёку от тюрьмы, на улице Чернышевского, по соседству с химическим корпусом нашего университета. Это – первое. Во-вторых, самое главное – Нигмат-ага не политический преступник. Он главный бухгалтер фабрики «Динамо», что на улице Ташаяк. Фабричное начальство, их помощники, помощники помощников, занижая сорта выпускаемой спортивной одежды и сырья, наворовали огромные деньги, но в один из дней эта злокачественная опухоль прорвалась! Теперь и директор фабрики Бибишева, и главный инженер Клейнерман, и последнее звено преступной цепочки, реализовывавший через маленький киоск выведенную из учёта продукцию тихий, покорный, близорукий Исаак Горлицкий оказались здесь. (Чуть позже мы ещё встретимся с Горлицким!) Похоже, что миллионы, прошедшие через руки Халитова, повлияли и на уровень его благосостояния: жена всячески ублажает, тюремная прислуга беспрестанно заботится о здоровье и настроении, из казённого фонда ему перепадает и белый калач, а гречневая каша, щедро сдобренная маслом, дымящиеся оладьи по нескольку раз на дню доставляются в нашу камеру из его дома. Частенько в масляном озерце лежит, бесстыже дразня наши голодные глаза толстыми ляжками, курица! А чай бухгалтер пьёт с шоколадными конфетами в золотистой обёртке, мы такое счастье даже и во снах не надкусывали!
Мне тоже приходят гостинцы. Их мне приносит мой одногруппник и сосед по комнате в университетском общежитии Нил Юзеев3. Расписываясь в графе «Передачу получил», я был изумлён его ответом на вопрос: «Кем вы приходитесь арестованному?» – Нил написал: «Друг». Ах ты боже мой! Надо было ответить: «Знакомый», не знает Нил тюремных тайн. Неведомо ему, что тех, кто пишет «Друг», самих вскоре ждёт тёмная дорожка! Ответил так ответил Нил, святая простота, чистая душа, один из самых искренних парней. Приносимые им две-три буханки чёрного хлеба о-очень кстати. В то время я пристрастился к курению. Достану, бывало, папиросу «Норд», от одной затяжки дым из ушей валит, слёзы полчаса текут. Но такая радость от этой отравы! Когда злобный полковник Катерли, который 22 марта 1950 года, прихватив своих безмозглых понятых, пришёл меня арестовывать, он и Нила заставил поставить подпись в ордере на обыск: больше Нил никаким образом к моему делу не причастен. Спасибо ему, пока я в ясном уме и светлой памяти, поблагодарю его за всё добро, что он для меня сделал! Не верьте тому, кто вздумает из каких-либо соображений очернять Нила! В тяжёлое, полное противоречий и непонимания время, когда вершились наши неокрепшие судьбы, когда мы ещё не понимали всей глубины и всех причин возникающих противостояний, Нил сумел сохранить достоинство, прямоту и искренность суждений. А ведь это очень и очень непросто – говорить, а тем более написать правду, когда две трети населения в той или иной степени связаны с Чёрным озером. Хотел бы я посмотреть на тех задир и забияк, которые пытаются сегодня бить себя в тщедушную грудь: «Мы такие!.. Мы смогли это!», как бы они повели себя в ту смутную, шаткую пору. Не дай Бог, конечно!
Кабир Мухаметшин – деревенский парень, плечистый, несмотря на высокий рост и сухощавость, с лопатообразными руками, достающими почти до колен. узколобый, с плотно сжатым ртом. Я не помню, чтобы он улыбнулся или рассмеялся. Легионер4. Судьбы татарских легионеров складывались одинаково: их за шкирку оттаскивали от межи и, вручив на троих одну винтовку и десять патронов, отправляли на войну, выдав коммунистическое напутствие: «Винтовку возьмёте у убитого товарища». Никто не знает, сколько сгублено татарских душ, сколько солдат-татар, втоптанных в глину, омытых кровью, похоронено от Белого до Чёрного моря. Белы косточки татарские разбросаны по глухим березнякам, по непересыхающим болотам-трясинам. А драгоценные души до сих пор витают где-то между небом и землёй, измождённые и неприкаянные, они так и не услышали заупокойной дуа[1] и слов прощания. «А те из вас, кто останется в живых, позавидуют мёртвым», – сказано в одной книге. О жестокой судьбе выживших военнопленных мы долго хранили полное молчание, боялись. Сейчас многое открылось, стало известно о примерном количестве заключённых, об их судьбах. С российской стороны пять миллионов семьсот тысяч человек оказалось в немецком плену. Это больше, чем численность Советской Армии в июне 1941 года, на момент начала войны! Три миллиона триста тысяч умерло или казнено в плену (Известия. – 1991, 4 апреля). Эти ужасающие цифры по крупицам вывели немецкие военные историки. Мы в этом направлении пока ничего не исследовали, вся информация – под замком. Всё ждём чего-то, кого-то боимся. Каждый пленный – живая душа. У неповторимой судьбы каждого узника есть начало и конец.
Кабир – один из этой многомиллионной армии. Выживший. И вся его вина лишь в том, что он выжил. Деревенский паренёк, татарин, до войны не выезжавший дальше околицы родной деревни, в промежутках между работой окончивший с грехом пополам четыре класса, попадает в плен. Голодный и изнурённый, избитый и подавленный, он лежал и ждал смерти, но кто-то пришёл в их концлагерь, в этот ад на земле, и, собрав военнопленных-татар, на родном языке по-человечески поговорил с ними. Подберезьевский парень с такими же, сломленными тяжёлой лагерной жизнью, солдатами записывается в легион, попадает в Берлин, где работает на конюшне. Кроме этого он ничего, можно сказать, и не знает. Погоняют – идёт, приказывают – останавливается. «Бывало, тяпну немного немецкой водки – шнапса, заткну немецкую пилотку за ремень и иду по Берлину, горланя на всю улицу «Галиябану», – рассказывал Кабир, то ли грустя по тем временам, то ли горько сожалея. А сейчас следователь впился ему в глотку, шнапсом попрекает. Всё, что ему нужно узнать: как и почему Кабир выжил в плену, шпионом какого государства является, с каким заданием заслан в Татарстан?
Пузатый, через слово вспоминающий свою язву желудка Нигмат-ага тюремную баланду почти не ест, иногда только, преодолевая брезгливость и отвращение, проглотит пару ложек. Выскребать дно кастрюли, когда каши вдоволь, а курица жирная, достаётся Кабиру, телосложение у парня богатырское, аппетит завидный. Мне казалось, что после немецких концлагерей и долгого сидения в камере Чёрного озера Кабир превратился в какого-то полудурка, с которым и поговорить-то не о чем. Но однажды он меня удивил… В деревне у него остались родители и жена. Были ли дети, не помню. И деревня-то совсем недалеко, поезда до Казани ходят непрерывно. Но, к сожалению, никто к Кабиру Мухаметшину не приезжает. Меню Чёрного озера простое и скудное: с утра на кончике чайной ложки сахарный песок, кипяток с брошенными для отвода глаз считанными чаинками и пятьсот граммов хлеба. В обед баланда, отвратительно пахнущая лоханкой, на ужин кусочек рыбы размером с детский мизинец. Чего больше в этой рыбе – мяса или соли, сразу и не определишь. В один из дней наш Кабир, приоткрыв свою душу, долго плакал, утирая тыльной стороной ладони безудержные слёзы. И плач-то у него своеобразный: не то проклинает кого Кабир, не то воет, от этого рёва всем стало не по себе! Это испытал и надзиратель, ходивший туда-сюда по коридору, заподозрив неладное, он повернул «волчок», обвёл пристальным взглядом камеру и долго ещё так стоял за нашей дверью. Выяснилось, что, потеряв последнюю надежду, Кабир затосковал по первой жене. Оттого и плакал. В лютый мороз она пошла за водой к колодцу, подходы к которому превратились в ледяную горку. Наполнив вёдра, зашагала, поскользнулась, упала и сильно ударилась об лёд затылком. Там же испустила дух, бедняжка. Теперь у Кабира самое последнее желание, самое заветное: «Все меня забыли, бросили, никому я не нужен… Если Всевышний позволит, если когда-нибудь я выйду отсюда, вернусь домой, прибегу к могиле жены, рухну рядом и умру!»
Признаюсь, тяжело было наблюдать, как страдает и убивается этот угрюмый, недалёкий, в общем-то, человек – легионер Кабир Мухаметшин, как рушатся его надежды, как им овладевает отчаяние. Получив двадцать пять лет лагерей и клеймо шпиона неизвестно какой страны, Кабир распрощался с Чёрным озером и бесследно исчез…
Простите меня за многословность, конечно, многовато я рассказал о двадцать четвёртой камере, где просидел с марта по апрель. Ведь Нигмат-ага и Кабир – два разных мира, два разных опыта, первыми встретили меня в тюрьме, постарались преподать мне первые уроки на новом месте. От Кабира я получил первую информацию о татарском легионе.
Заключённому не дают застаиваться на одном месте, он постоянно в движении, переселяется из одной камеры в другую. Кабира отселили, остались мы вдвоём с Нигмат-ага. Оказывается, он отец двух взрослых дочерей. Одна из них учится в химико-технологическом институте. Теперь, когда мы остались вдвоём, мне хочется ещё сильнее сблизиться с Нигмат-ага, я жду, что этот человек, всю жизнь проработавший в системе МВД, вселит в меня толику надежды, не даст впасть в уныние. Но что может сказать этот несчастный заключённый? Все его слова крутятся вокруг одного: «Вот выйдешь ты в один из дней на свободу, сразу же отдам за тебя свою старшую дочь, самую красивую девушку в мире!» Он рассказывает, а я, наивный дурачок, душа нараспашку, не способный даже на два шага предвидеть ситуацию, развесив уши, верю каждому его слову!.. Нигмат-ага ведёт себя по-свойски, при каждом удобном случае расспрашивает меня о причине моего здесь пребывания, о моих друзьях-приятелях, о наших с ними разговорах и суждениях. После сытного обеда, с масляной кашей и куриным бёдрышком, его каждый день уводят на допрос к следователям.
Однажды возвратился я на рассвете с трудного, муторного допроса, длившегося всю ночь. Пока меня не было, между накрепко приделанными к стене кроватями поставили два табурета и настелили топчан. На голых досках съёжилось неприглядное тело в латанном-перелатанном бешмете. Двери камеры с жутким скрипом открываются, с грохотом закрываются, но тот мужик лежит, не шелохнётся, даже головы не поднимет. Человека в старом бешмете вселили к нам спешно, даже место не успели приготовить. Но он тоже хорош – как можно дрыхнуть в первую же ночь в тюрьме?! Рассвело. Промучившись всю ночь без сна, мы встретили новый день, начавшийся с крика «Подъём!» и лязга дверного «волчка». Молча пили утренний чай. Нигмата Халитова сразу же увели наверх. Как специалиста, державшего в кулаке скрытую от глаз экономику своего предприятия, его часто вызывают на допросы, устраивают очные ставки с главным инженером Клейнерманом и другими причастными к делу. Допросы эти проходят вроде бы безо всяких неприятностей и подвохов, во всяком случае я не помню, чтобы Халитов, попадая «из огня в полымя», кому-то на что-то жаловался. «Молчание – золото, но это не про нас! Покайся, расскажи обо всём, что знаешь, облегчи душу!» – такими словами Нигмат-ага частенько подзуживал и меня, простофилю…
Сразу после того как Халитова увели из камеры, ко мне приблизился оборванец-татарин и полушёпотом сказал: «Ты, парень, остерегайся этого сытого индюка! Его специально к тебе подсадили, чтобы всю подноготную выведать. О-очень подозрительный тип!» «Откуда знаешь?» – спросил я, растяпа, заикаясь от неожиданности. «Мы – политические, идейные. А он человек ЧК… У меня за спиной десять лет тюрем. Оставшихся в живых из тех, кого арестовывали в тридцатых годах, в сорок восьмом снова начали собирать. Эх, сбежать мне надо было, затеряться среди киргизов да казахов, ни одна собака не нашла бы… да здоровье подорвано. В Магадане да Колыме осталось здоровье. Душу всю вынули из меня, под рёбра залезли и сердце в клочья истерзали». Не успел я разузнать, кто он, откуда родом этот татарин, заработавший чахотку за десять лет каторжных работ на лесоповале и в сырых шахтах, сосланный туда по обвинению в подстрекательстве населения против коллективизации. Рассказывая о себе, он зашёлся долгим сильным кашлем, а когда приступ унялся, сидел, крепко стиснув грудь руками. Потом он долго умолял охранника дать ему ковшик кипятка – не дали.
2
Память моя, память, что ты делаешь со мной?!
Виктор Астафьев5
Я не внял советам татарина в потрёпанном бешмете, хотя он, добрая душа, набравшийся жизненной мудрости в перипетиях нелёгкой судьбы, пытался уберечь меня, упрямого барана, от ошибок. Только сегодня, с высоты прожитых лет, понимаю, что он хотел своей мудростью помочь моим бестолковым мозгам. Я уже тогда догадался, что Нигмат-ага неспроста сватает красавицу-дочь за пропащего студента, однако мой язык был неуёмен, вместо того чтобы не болтать лишнего, я резал Халитову правду-матку о несправедливости советской власти, порой преувеличивая свою антипатию к Сталину, мне так хотелось поделиться пережитым в юности, мыслями, накопившимися в душе. Эх, молодо-зелено, никуда не денешься, были просчёты, совершались и ошибки. Я этого никогда и не скрывал. Однако у меня хватает сил и мужества, чтобы найти оправдания своей молодости: хоть я порой и неоправданно близко доверялся окружающим людям, но к оценке глубинных процессов, происходящих в обществе, подходил взвешенно, понимал их правильно, трезвый разум предпочитал эмоциям!
Итак, снова начали сажать заключённых, получивших первые сроки в тридцатые-сороковые годы. Мужик в потрёпанном бешмете знал об этом, ещё живя на воле. Значит, они – бывшие политзаключённые, не прятались всё время по норам, делились друг с другом новостями, обсуждали очередную несправедливую инициативу властей. Путешествуя из камеры в камеру, я начал понимать тюремную жизнь, научился распознавать людей и распределять по группам. Самая многочисленная группа арестантов Чёрного озера – легионеры. Ага, – ворохнулась мысль в начинавшем проясняться сознании, – легионеры сидят за совершённые в годы войны преступления. Но почему-то их начали сажать не сразу после окончания войны, а в конце сороковых – начале пятидесятых годов. Даже вернувшихся в сорок третьем году привлекли только в пятидесятом! Почему так произошло? Почему легионеров начали сажать только в сорок восьмом? Что изменилось в политике государства в сорок восьмом году?
Из заключённых, взятых под стражу вторично, наиболее сильное влияние на меня оказал инженер Кулешов. За давностью лет его имя-отчество позабылось. Чему здесь удивляться, ведь прошло более сорока лет! Кулешов вошёл к нам в камеру с невозмутимым видом, с маленьким мешочком в руках, словно отпускник, отправившийся в гости к бабушке. Терпеливо дождался, пока за ним громыхнёт дверь, и только после этого, отвесив поклон, поздоровался. Я принял его за человека, давно мотающего срок, пережившего первую волну арестов, однако его, как оказалось, арестовали совсем недавно. Хотя он действительно имел срок за плечами! В этом человеке, уже пережившем один раз тюремный ад, меня восхитили спокойствие, достоинство, раскованность, зрелость и самоуважение. Заключённого под стражу Кулешова в годы войны вернули работать по специальности на крупный военный завод. «На заводе у меня был персональный конвоир, вооружённый солдат». У русских, бывает, встречается благородный тип мужчин богатырской внешности, принадлежащих к древнему знатному роду! У них величественная стать, гордая осанка, высокий лоб, чуть выступающий, словно отлитый из металла, крепкий подбородок, ровные, твёрдые как камень зубы. Движения их неторопливы, полны внутреннего достоинства. А Кулешов вдобавок к профессии инженера-химика ещё и большой знаток и любитель литературы и искусства, деликатный, образованный и воспитанный человек! «На Колыме и в Магадане очень много заключённых погибло от непосильных условий. Я с первого дня ареста боролся за выживание. Если попадёшь к ворам и бандитам, не имей с ними ничего общего… Говоришь, ничего не умеешь делать? И профессии у тебя нет. Это плохо, конечно. Но отчаиваться не следует! Гордо объяви, что у тебя есть профессия – каменщик! Ты же студент! Подключи свою смекалку». Когда я спросил: «Какой способ вы нашли, чтобы выжить?», Кулешов рассмеялся. «Гюго с Бальзаком6 спасли меня, – ответил он. – Я смолоду занимался в самодеятельном театре. Сначала работал суфлёром. Сорок три пьесы наизусть знаю! У воров есть странная особенность, они любят, когда им книги вслух читают или пересказывают по памяти. Вот я и взялся им каждый вечер романы «читать»! На самом интересном месте останавливаюсь, как Шахерезада7, на следующий вечер опять продолжаю. Кого-то по этапу уводят, на их место других селят. А я знай себе мелю языком. Если истории кончаются, свои придумываю!» Кулешов, рассказав без утайки, с какими трудностями предстоит мне столкнуться впереди, стал обучать меня профессии каменщика с помощью хлебных остатков. Не спеша, с толком и расстановкой он показывал, как соединять кирпичи в кладке, как класть раствор, как поднимать углы.
Я спросил у этого мудрого и великодушного человека: «Почему опять начали арестовывать тех, кто прежде уже отбыл один срок?» Впервые на моих глазах инженер смешался, чему я был немало удивлён. Сегодняшним умом понимаю, нельзя было так в лоб спрашивать, но моё любопытство тогда было безграничным. «Почему за одно и то же преступление пытаются дважды наказать?» – несколько сгладил я, любопытный, но потихоньку начинающий усваивать тюремные уроки простофиля, прямой вопрос… Ничего не ответил мне инженер, но однажды, предчувствуя скорое расставание, крепко пожал мне руку и сказал: «Тут есть какая-то причина, студент! Должен быть во всём этом какой-то глубинный смысл!» При мне Кулешова ни разу не вызывали на верхний этаж. Хотя и он, и я надеялись, что там, наверху, для нас что-нибудь да прояснилось бы.