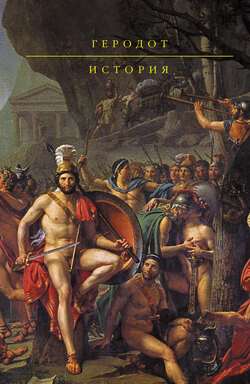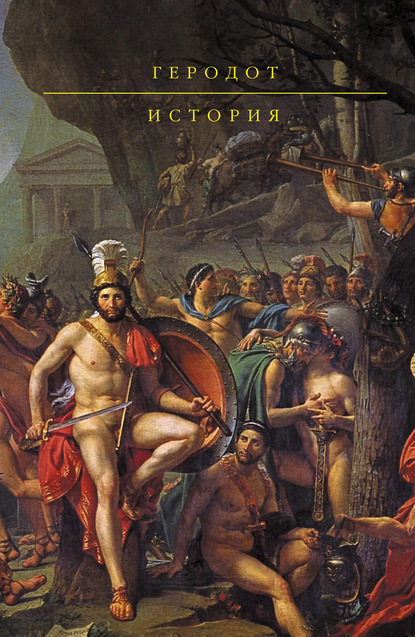Наставнику своему, Андрею Даниловичу Юркевичу,
учителю гимназии, с признательностью посвящает
автор и переводчик
Геродот и место его в древнеэллинской образованности
Современная наука может смело гордиться тем, между прочим, что ей удалось открыть истину там, где почтенный эллинский исследователь вынужден был довольствоваться лишь ловким опросом сомнительных свидетелей и сличением их небрежных и невежественных показаний.
Дж. Магаффи. История классического периода греческой литературы
I
В истории не одной только эллинской, но вообще европейской образованности Геродот занимает выдающееся место. Он стоит на перепутье двух настроений общественной мысли: скептицизма, свободной критики, деятельной любознательности, с одной стороны, легковерия и благоговейного отношения к унаследованному от предков достоянию – с другой. Кроме того, в труде Геродота отразились ярко и в изобилии те свойства эллинского ума и характера, благодаря которым древняя Эллада сделалась на многие века наставницей человечества как в области искусства и науки, так и в сфере общественных и политических отношений. По всей справедливости Геродота можно считать одним из наиболее типичных представителей не только историографии, но известного периода умственного развития вообще. В настоящем предисловии мы желали бы выяснить для читателя положение Геродота в истории древнеэллинской литературы в связи с другими сторонами жизни его современников.
Прежде всего заметим, что почетное звание «отца истории», присвоенное Геродоту Цицероном и сохраняемое за ним до наших дней, может быть удерживаемо лишь с значительными оговорками. Во – первых, в последовательном развитии эллинской историографии ему принадлежит скорее серединное, центральное, а ни в каком случае не передовое положение. Действительно, историки, по времени следовавшие за ним в различных направлениях, могли находить у него и исходные пункты, и отчасти руководящие приемы для собственной литературной деятельности, но вместе с тем труд его представлял собою лишь наиболее выдающееся, почти единовременное явление в целом ряде более или менее удачных и талантливых опытов истории. В числе этих последних были и географико – этнографические, и исторические сочинения милетянина Гекатея*, человека обширной учености и с несомненной наклонностью к критике народных преданий и действительных житейских отношений. Вот почему известный дублинский профессор Магаффи* полагает, что Гекатей Милетский имеет гораздо больше права, нежели кто‑нибудь, называться отцом эллинской истории. Другой английский ученый Мьюр* замечает, что с Геродотом из‑за титула «отец истории» мог бы с успехом поспорить более ранний историк Харон из Лампсака*. Во всяком случае, без риска ошибиться можно сказать, что появлению Геродота на литературном поприще не только предшествовала, но и содействовала целая школа историков, главным местом действия которых был Милет, первенствовавший в эллинском мире во всех отношениях до начала V века до Р. X.
Во – вторых, наименование «отцом истории» эллинского писателя второй половины V века до Р. X., если принимать наименование это безусловно, как бы закрепляет и освящает не совсем точное представление об эллинской историографии, то представление, согласно которому исторический вид литературы начался для эллинов лишь в весьма позднее время, примерно не раньше половины VI века до Р. X. Подобное представление резко противоречит всем нашим сведениям о патриотизме древнего эллина, о той ревности, какую он всегда обнаруживал к прославлению родины и к достойному чествованию выдающихся услугами личностей с одной стороны, к примерам предков и к предстоящему отношению потомков – с другой. Достаточно напомнить, как нередко уже Гомер внушал своим героям заботливость о доброй славе или страх позора у потомков[1] и как часто в позднейшее время внимание к оценке будущих поколений служило для эллина одним из сильнейших стимулов деятельности на пользу и во славу родины. При наличии подобного настроения древний эллин должен был живо интересоваться и прошлыми судьбами своего маленького отечества, и сохранением важнейших событий в памяти современников и потомства.
Действительно, у эллина и для эллина история существовала искони; только в разные периоды его развития она облекалась в различные формы, в каждом из таких периодов отличалась особыми характеристическими чертами, верно отражая на себе современное состояние общества, данный в нем уровень понимания окружающего.
Не следует при этом упускать из виду, что именно те части эллинского племени, которые оказались для культуры наиболее производительными, каковы ионийские общины и более всех афинская, отличались обыкновенно широкими демократическими стремлениями и обладали соответствующим общественным устройством. Успехи литературы и смена литературных направлений определялись поэтому, по крайней мере весьма долгое время, поступательным движением огромного большинства свободного населения, а не вкусами и потребностями отдельных личностей, кружков или классов. По тому же самому простота, общедоступность и драматизм изложения составляли неотъемлемые свойства древнеэллинской литературной речи. Эта исконная особенность литературного творчества выгодно отразилась и на произведениях позднейшего времени, когда имелось уже налицо раздробление общества на группы по степени понимания задач и явлений художественных, научных и общественных. Диалогическая форма Платоновых сочинений, частые диалоги и речи от первого лица в сочинениях Геродота и Фукидида*, ясность построения речи у Исократа, Исея, Демосфена*, не говоря уже о более ранних ораторах, были последствием демократизма или общенародности древнеэллинской и прежде всего афинской образованности. Отсюда же объясняется долговременное исключительное господство поэтической формы в литературе.
Древнейшей эллинской историей, одинаково понятной, интересной и достоверной для всех классов населения, были те песни, которые составлялись в гомеровское и догомеровское время: все великое и достопримечательное, по свидетельству того же Гомера, находило себе выражение в песне[2]. Добродетели Пенелопы, пороки и преступления Клитемнестры* в равной мере становились предметом песни, причем одна из этих женщин должна была возбуждать к себе в потомках любовь и восхищение, а другая отвращение[3]. Песни составлялись в большом числе, потому что слушатели всегда с наибольшим интересом относились к новой песне[4].
Отдельные короткие песни и созданные на основе их целые поэмы выслушивались не только с эстетическим наслаждением, но и с полною верою в историческую действительность Гераклов, Ясонов, Агамемнонов, Ахиллов, Несторов и других героев, самих Зевсов, Аполлонов, Афродит. Даже в сравнительно позднее время спорившие между собою государства считали возможным ссылаться на гомеровские поэмы как на авторитетные общепризнанные документы. Непрестанное участие богов и богинь в судьбах героев и простых смертных казалось древнему верующему эллину столь же неизбежным и, так сказать, естественным, как нам кажется выдуманным и невероятным. Тем же авторитетом пользовались и поэмы Гесиода, вместе с Гомером* считавшегося составителем греческой теогонии[5].
Только спустя века четыре или и того более замечаются в литературе признаки недоверия к повествованиям Гомера, Гесиода и других древних поэтов. Не только философы, как Ксенофан, Пифагор, Гераклит*, порицают творцов греческой теогонии за возведение на богов разных преступлений, но и такой глубоко верующий поэт, как Пиндар*, осмеливается открывать глаза публики на некоторые несообразности в творениях древних учителей. Впрочем рядом с этим Персей, Горгона, стоголовый Тифон, кентавр Хирон, великаны Алкионей, Антей и т. п. для Пиндара действительные существа, только отделенные временем и пространством от воспеваемых им олимпийских или истмийских победителей. Чудесное и сверхъестественное, по мере накопления и распространения точных знаний, все больше и больше возбуждало сомнения и недоверие к прежним авторитетам; многие подробности в произведениях древних поэтов отвергались как преувеличения и выдумки; тем не менее в основе своей они не переставали рассматриваться как исторические свидетельства о конкретных лицах и событиях. В этом отношении особенно поучителен Фукидид. Враг чудовищного и чудесного в истории, он смело прилагает к доисторической старине мерку современности, уничтожая всякую грань между ранними продуктами народной веры и фантазии с одной стороны, и современными историческими ему деятелями – с другой. Существования мифических личностей и событий он не отвергает, принимая их от поэтов на веру, он старается только очистить рассказы о них от всего того, что кажется ему искажением и вымыслом, руководствуясь при этом не чем другим, как данными самих же поэтов да субъективным чувством вероятности.
В этом и в подобных случаях вероятность ошибочно принималась за достоверность, а место научной критики заступал субъективный рационализм.
Как долго Гомер и Гесиод сохраняли для эллина значение историков, лучше всего показывает пример Страбона, одного из просвещеннейших людей Эллады I века по Р. X. «Илиада» и «Одиссея» имеют, по его мнению, историческую основу, которую географ и пытается многократно восстанавливать с помощью приемов древнейших эллинских историков. Вопреки Эратосфену*, Страбон не допускает оценки Гомера с художественной только точки зрения и в одном месте «Географии» замечает, что скорее можно доверять героическим поэтам Гесиоду и Гомеру, нежели Ктесию, Геродоту, Гелланику* и другим подобным.
Ввиду сказанного ясно, что для массы эллинского народа Гомер, Гесиод и вообще древние поэты были настоящими историками и что присутствие в их трудах чудесного элемента скорее укрепляло, а не ослабляло доверчивое отношение к ним наивного эллина.
Таким же значением, только, быть может, в большей еще степени, пользовались следовавшие за Гомером и Гесиодом киклики*, деятельность которых помещается приблизительно между началом олимпиад и концом VI века до Р. X. Киклики черпали материал для своих произведений из того же источника, что и Гомер, подобно ему верили в историческую действительность мифических и легендарных личностей и событий, но обладали меньшим художественным дарованием и преследовали несколько иные задачи. Они стремились обнять мифическую старину во всей полноте ее, начиная от сотворения земли и первого человека и кончая историческим временем; несравненно больше Гомера они были заинтересованы в последовательной передаче длинного ряда событий, наполнявших известный период времени. Киклики или продолжают гомеровские поэмы, или рассказывают о событиях, предшествовавших подвигам и испытаниям гомеровских героев, или отправляются, как от исходных пунктов, от кратких указаний или намеков, содержащихся в «Илиаде» и «Одиссее», и затем развивают их дальше в ряде картин со множеством подробностей и действующих лиц. Художественный интерес боролся у кикликов с стремлением к фактической обстоятельности и хронологической последовательности, благодаря этому позднейшая древность обязана была главным образом кикликам сохранением большинства мифов и героических сказаний; при этом несравненно точнее, нежели у Гомера, басни были приурочиваемы к определенным местностям.
Таким образом, хронология, хотя и весьма несовершенная, и топография, во множестве случаев мифологическая, составляющие необходимые элементы истории, заметно входили в план киклических произведений и приближали их к историческому виду сочинений в позднейшем смысле слова. За такие свойства киклики удостаивались названия «исторических поэтов», и творчество их обозначалось тем же термином, что и составление исторического труда (suggraўfein), а по свидетельству Прокла*, большинство ценило и сохраняло произведения эпического цикла не столько за их поэтические достоинства, сколько за последовательность изложения. С другой стороны, прозаический историк Дионисий из Милета или из Митилены* носил название киклического писателя (kuklograўfoj). Конечно, с точки зрения собственно художественной приемы кикликов не были удовлетворительны, что и отмечает Аристотель в своем рассуждении о поэзии; но тем в большей степени отвечали произведения их интересу публики к истории.
Если от кикликов мы обратимся к элегии, лирике и драме, то и здесь в огромном числе случаев заметим особенное внимание поэтов к историческим фактам, современным и прошлым. Каллип, Феогнид, Солон, Пиндар и другие лирики отводят в своих произведениях видное место историческим событиям, намекам и критическим о них замечаниям. Эсхил, «отец трагедии», ставит на сцену вполне историческую драму «Персы» в трилогической связи с «Финеем» и «Главком»[6] и, по всей вероятности, низводит историческое, близкое ему событие к началам мифическим. Эсхилова трагедия представляет много общего с изображением тех же событий и с освещением их у Геродота. Обрабатывая для сцены мифологические сюжеты, афинские трагики не раз пользовались мифическими именами и положениями для того, чтобы высказываться в том или ином смысле о событиях и личностях современных.
Наконец, всякий знает, что в истории эллинской литературы был особый вид драмы, так называемая древняя аттическая комедия с Аристофаном во главе, вся посвященная наблюдению и оценке современных исторических явлений, между прочим, по сравнению с фактами прошлого, и несомненно свидетельствующая о живейшем интересе афинского народа к отечественной истории.
Как бы в противоречии с этим, так сказать, историографическим настроением и поэтов, и публики стоит общеизвестный факт сравнительно позднего появления в Элладе историографии прозаической, посвященной собственно записыванию или восстановлению исторических данных и распределению их в смысле хронологической и прагматической последовательности. Дальше этого эллинская историография и не пошла; она никогда не поднималась до задачи выяснить тот порядок, или закон, по какому следуют одна за другой группы общественных явлений, объединяемые в данный период господствующим настроением мысли и чувства и обнаруживающие в своей последовательности постепенное совершенствование.
Дело в том, что во всех поименованных выше случаях изложение и задачи истории находятся в подчинении у поэзии, в зависимости от поэтической или художественной тенденции автора, подобно тому как в той же поэзии находили себе выражение религиозные потребности древнего эллина, стремление его к точному знанию, вопросы личной и общественной морали и т. п. Правда, такая совместность в разработке задач дала в результате неподражаемые гомеровские поэмы и немного лишь уступающие им аттические трагедии, обеспечивая в то же время силу, продолжительность и всесторонность воздействия на публику. Тем не менее дальнейшие успехи умственной производительности древнего эллина достигнуты были при посредстве дифференцирования предметов и тенденций и образования отдельных дисциплин на месте первоначально общей творческой деятельности поэтов. Единовременно с этим совершалось в обществе расчленение на группы по свойству стремлений каждой из них, по степени разумения ими теоретических и практических вопросов, причем органом нового движения являлась литературная прозаическая речь, которой пользуются для различных целей историки, географы, ученые, философы, ораторы. Задачей поэзии становилось не изображение внешних событий, но все более и более детальное воспроизведение душевных состояний типических личностей. Потребность в истории искала более соответствующего удовлетворения. Правда, вскоре не замедлила обнаружиться и отрицательная сторона процесса дифференцирования: первый великий прозаик Гераклит имеет в виду только отборную публику и пишет темной речью; за ним следуют в том же направлении несколько других философов; изысканностью и относительной неясностью речи отличаются Эсхил и Фукидид, но в общинах демократических, особенно в Афинах, это значительно умерялось противоположным общественным настроением[7].
Условия, благоприятные для дальнейшего преуспеяния, сложились еще раньше в колониях, преимущественно малоазийских. Географические удобства, благодатные свойства климата, отсутствие стеснительных привилегий и предрассудков, покинутых в метрополии, быстро создавали на новых местах материальный достаток и будили дух предприимчивости и исследования; необходимость устраиваться сызнова в новой обстановке и рассчитывать во всем на собственные силы, многоразличные сношения с иноземцами воспитывали в колонистах чувства независимости, терпимости и равенства, возбуждая вместе с тем сознательное, критическое отношение к окружающему. Торговля и знакомство с отдаленными странами и народами расширяли географический кругозор колонистов и исправляли некоторые мифологические представления, заменяя их точным знанием местностей и обитателей. Наконец, правильные сношения с Египтом, установившиеся с конца VII века до Р. X. – Навкратис был основан в ол. 37, 3*, – открывали древнему эллину чудесный оригинальный мир с культурой, во многом опередившей эллинскую образованность, с неизвестным еще для эллинов запасом точных знаний по математике и астрономии; с этого времени посещение Египта становилось чуть ли не обязательным для образованных или ученых людей Эллады. В частности, сношения с Египтом обеспечивали для эллинов более или менее правильное получение папируса, сравнительно удобного и дешевого писчего материала; употребление его было необходимым условием прозаической письменности и в то же время облегчало распространение знаний в массе.
Во главе умственного и экономического движения стоял до начала V века Милет, хотя о какой‑нибудь централизации в то время не может быть и речи. Каждая область, каждый островок, каждый город, находившиеся в благоприятных условиях для деятельности, развивали собственные силы, привнося что‑либо свое, оригинальное, в общую сокровищницу древнеэллинской образованности. Благодетельные последствия этой независимости и многочисленности культурных центров в древней Элладе настойчиво и многократно отмечает один из недавно умерших знатоков эллинской древности Т. Бергк*[8], .
Вот те условия, при которых вступила в литературу прозаическая речь в древней Элладе, возникла и окрепла эллинская историография как особый вид литературы с собственными задачами и приемами изложения.
II
По словам Страбона, проза развилась постепенно из поэзии. «Прежде, – говорит он, – появилось на свет и приобрело славу поэтическое изложение; потом, подражая ему, разрешая стих, но сохраняя прочие поэтические особенности, писали свои произведения Кадмы, Ферекиды, Гекатеи; затем позднейшие писатели, постоянно отнимая что‑либо из поэтических свойств, низвели речь до ее настоящего вида, как бы с какого‑нибудь возвышенного положения»[9]. Мнение Страбона, до последнего времени господствовавшее в филологической литературе, имело под собой, между прочим, видимую хронологическую последовательность поэтических и прозаических произведений, источник его – тот же самый, что и другого, еще более распространенного и не менее ошибочного представления о возникновении аттической драмы из эпоса и лирики. На самом деле каждый вид эллинской литературы, равно как и прозаический отдел ее, имел свое собственное начало, которое может быть прослежено до незапамятной древности.
Подлинный источник прозы – обыденная разговорная речь, а подлинно первоначальный опыт ее – та запись или надпись, которая впервые понадобилась древнему эллину для сохранения на память какого‑либо события из личной, семейной или общественной жизни.
Уцелевшие до нашего времени обломки древнейшей прозаической письменности, принадлежащие далеко не первым шагам на этом поле, отличаются такой краткостью, отрывочностью, примитивностью изложения, что не позволяют и думать о влиянии поэзии на первые опыты прозы или о преемственной зависимости последней от первой. Отрывки эти неопровержимо свидетельствуют, что с самого начала эллинская проза шла своей дорогой и первыми успехами обязана была собственным усилиям, а не услугам поэтической речи. В этом именно смысле высказывается и упомянутый выше немецкий ученый. «Уже в самом начале, – замечает Бергк, – старательно соблюдалась пограничная линия между поэтической и прозаической речью. Изложение прозаическое было просто и безыскусственно; предложения и мысли располагались в нем в ряд, слабо связанные между собой. Достойно внимания, как поэзия, задолго до того достигшая соединения предложений в периоды и мастерски ими пользовавшаяся, как она мало воздействовала на прозу древнейшего времени. Прозаическая речь, движущаяся по гладкой поверхности, представляла с самого начала отдельный вид, умышленно (?) отрекавшийся от искусственных средств поэзии».
Прежде всего трудно допустить, чтобы древний эллин, по усвоении финикийского алфавита и по применении его к фонетике родного языка, долго воздерживался от употребления прозаического письма для различных ближайших целей. Дошедшие до нас надписи не восходят дальше VIII века до Р. X., но это не значит еще, что более древних надписей вовсе не было. Для позднейших историков, не исключая и Геродота, важнейшим источником достоверных сведений о старине служили краткие документы, хранившиеся в храмах и на публичных местах городов. Это были главным образом списки имен государственных чиновников – в Спарте царей и эфоров, в Афинах архонтов – или же жрецов, жриц и победителей на народных состязаниях. Так, известны перечни жриц Геры Аргосской и жрецов Посейдона в Галикарнассе, списки победителей на Олимпийских играх, с начала III века до Р. X. легшие в основу счисления по олимпиадам, и на других общеэллинских празднествах; наконец, существовали списки победителей на Карнейском празднестве в Спарте. Подобные документы содержали в себе рядом с именами и краткие заметки о выдающихся современных событиях. Сверх того было немало надписей на пограничных столбах, на пожертвованных в храмы предметах: треножниках, статуях и т. п. Святилищем, богатейшим подобными приношениями, было, несомненно, дельфийское. Гробницы также часто украшались надписями. В этих случаях в надписи входили более или менее определенные хронологические даты и краткие повествования о подвигах отдельных граждан или целых государств.
По мере развития городов памятники письма умножались и увеличивались в объеме; колонии шли, разумеется, впереди метрополии. Отдельные распоряжения властей или постановления Народных собраний, коммерческие сделки и политические договоры, наконец, собрания законов – все это требовало прозаического письма и подготовляло вкусы публики к чисто литературным произведениям в прозе. Древнейшее писанное законодательство Залевка* появилось в Локрах Эпизефирских около 660 года до Р. X., а вскоре после того для Катаны и других халкидских колоний в Великой Элладе обнародованы были так называемые законы Харонда*. В 621 году появилось в Афинах записанное обычное право Аттики под именем законов Дракона*, а в 694–м выставлены на афинской площади Солоновы законы*.
Лет двадцать – тридцать спустя появляется в Милете (около ол. 50) первый опыт прозы для целей литературных, именно историко – географический труд Кадма*, первого прозаического писателя, по свидетельству Плиния, Порфирия* и других. За ним следовал целый ряд историков – прозаиков, обозначаемых обыкновенно по почину Фукидида именем логографов. Памятниками этого периода историографии, не включая сюда Геродота, служат для нас сравнительно немногочисленные и ничтожные отрывки нескольких логографов[10]: Гекатея из Милета, Акусилая из Аргоса беотийского, Харона из Лампсака, Ксанфа из Лидии, Гелланика из Митилены и Ферекида из Лера*. От прочих уцелели одни имена, да разве названия сочинений: Кадм и Дионисий из Милета, Гиппий из Регия, Деиох и Бион из Проконнеса, Дамаст из Сигея*, Евгеон из Самоса, Демокл из Фигел, Евдем из Пароса, Амелесагор из Халкедона «и многие другие», заключает Дионисий. Все это были предшественники или старшие современники Геродота; каждый из них прибавлял что‑либо к эллинской историографии и в смысле материала, и в смысле усовершенствования прозы и выработки соответствующих приемов. Усиленная деятельность логографов свидетельствовала, что в обществе возрастал живой интерес к предметам географии, этнографии, хронологии, истории самим по себе, независимо от художественного изложения.
То самое, что прежде составляло задачу и давало мотивы для поэтической разработки, излагалось теперь простой разговорной речью без поэтического воссоздания душевных состояний героев, с единственным намерением закрепить факты письмом. Сходство с прежними поэтами обнаруживалось в миросозерцании, отчасти в материале, в неизменной вере в мифические события, но тем очевиднее становилась разница между поэтами и историками в обращении с материалом. И у историков немногие достоверные данные мешались со всякого рода мифами и баснями, документальные хронологические показания заносились в один ряд с вычислениями по мифологическим родословным. Но само обнажение письма от красот поэтического вымысла способно было возбуждать сомнение в достоверности или возможности некоторых, по крайней мере наиболее чудовищных, образов и положений, призывало читателя к критике.
Источниками для логографов, как историков прошлого, служили, кроме скудных документальных свидетельств, те же самые устные предания, из которых черпали поэты, рассказы жрецов и, наконец, произведения этих самых поэтов. Таким образом значительная доля труда логографов в этой области сводилась к прозаическому переложению известий о лицах и событиях, воспетых ранее Гомером, Гесиодом, кикликами и другими поэтами. Акусилай перекладывает в прозу, не без некоторых отступлений впрочем, поэмы Гесиода, Дионисий из Милета называется «киклическим писателем», а иные киклики цитировались в древности как «поэтические историки». Только в таком смысле можно и доўлжно допускать влияние поэзии на прозаическую историографию и некоторую преемственность последней от первой. Влияние другого рода, более прямое и действительное, поэзии на прозу принадлежит позднейшей поре историографии, обнаруживаясь впервые на Геродоте. И в этом отношении аналогия прозы с драмою очевидна: о влиянии эпоса на драматургов доэсхиловских мы не знаем ничего, тогда как Эсхил, по преданию, называл свои трагедии крохами от гомеровской трапезы. Достаточно вспомнить здесь, как ближайший наставник Геродота Паниасис обработал Геракловы легенды* в четырнадцати песнях и в значительной поэме изложил странствования ионян и судьбу их колоний и как наш историк под влиянием родственника – поэта обращал особенное внимание на те же предметы. Потом зависимость Геродота от эпической поэзии не подлежит сомнению. «Один только Геродот был вполне гомеристом», – замечает о нем Лонгин*. Близость к Гомеру видна на каждой странице Геродотова текста, доказана учеными давно и состоит не в тождестве отдельных только слов и оборотов, но также во всем плане труда и в общем его характере.
При некоторых индивидуальных особенностях древнейших историков в соединении с последовательным преуспеванием историографии, труды логографов имели многие общие черты. Согласно господствовавшему в обществе интересу к судьбе колоний и их метрополий, к древним эллинским родам и племенам, к посещаемым народам и странам, сочинения логографов распадались по содержанию, говоря вообще, на историко – генеалогические и географико – этнографические. Первые состояли главным образом в последовательном изложении судеб героев местных и общих, с прибавлением в начале космогонии и теогонии и с переходом в конце к историческим личностям и событиям, вторые – в перечислении географических пунктов с упоминанием относящихся к ним предметов: обитателей, животных, растений, храмов и т. д. и т. д. Истории городов (ktiўseij poўlewn) приурочивались к судьбам племен или родов и излагались по мифологическим родословным.
Для характеристики сочинений первой категории мы ограничимся немногими примерами. От одного из логографов, Ферекида, осталось около 120 отрывков его «Истории», уже в древности делившихся на десять книг. Это – ряды легенд, приуроченных к Фессалии, Беотии, Арголиде и другим частям Эллады и расположенных в хронологической последовательности. «Героегонии»* предшествовала, должно быть, вкратце, теогония, а заключение составляли, по всей вероятности, еще более краткие упоминания об исторических деятелях с относящимися к ним историческими событиями: так, род Филаидов доведен до марафонского победителя, упоминается скифский царь Иданфура, очевидно, Геродотов Иданфирс, относящийся к концу VI века до Р. X. Потомство Аполлона, Посейдона, Геракла, Персея, Агенора, Инаха и других, начиная от божественных родоначальников их и кончая человеческими представителями, излагались на основании народных сказаний и поэтических произведений, с большими или меньшими подробностями, в порядке смены одного поколения другим. Во многих случаях историк отступал от общераспространенной редакции различных сказаний. Одно это обстоятельство способно было поколебать веру читателей в священную неприкосновенность традиций.
Так, по Гесиоду, Тифон низвергнут в Тартар, а у Ферекида он погребен живым под островом Питекуса; у него особые варианты генеалогии Ехидны, сказания об Электрионе и Амфитрионе, о задушении Гераклом змей и пр.
От «генеалогий» другого историка, Гекатея, уцелело 37 отрывков, составляющих ничтожный обломок героической истории Эллады. Это был перечень поколений Девкалиона и других эллинских героев, родоначальников отдельных частей эллинского племени, и этот историк в изложении судеб героев не раз уклонялся от общепринятых редакций. Если нет никаких следов того, чтобы Гекатей связывал героогонию с теогонией, все же несомненно, что человеческий род он ставил в преемственную связь с мифическим поколением героев и богов. Так, свою собственную родословную он возводил в шестнадцатом колене к божеству[11].
По тому же плану построена была историческая хроника Гелланика, охватывавшая собою мифическую старину Арголиды, Фессалии, Аттики и Троянскую войну под видом повествований о потомстве Форонея, Девкалиона, Кекропа и Атланта; в истории Аттики он спускается до Пелопоннесской войны включительно.
Насколько можно судить по Диодору Сицилийскому*, Дионисий из Милета пытался составить нечто вроде цельной истории Эллады, начиная от времен мифических и кончая событиями, современными писателю. О плане сочинения можно составить себе понятие по тому же Диодору, неоднократно заявлявшему, что в изложении он следует за Дионисием Милетским. Не без основания Крейцер* приписывает труду логографа единство плана не хронологическое только, но и прагматическое; ряды и группы мифов о героях следуют одни за другими не столько в порядке хронологической последовательности и не по отдельным местностям, сколько по внутренней связи между ними со стороны содержания.