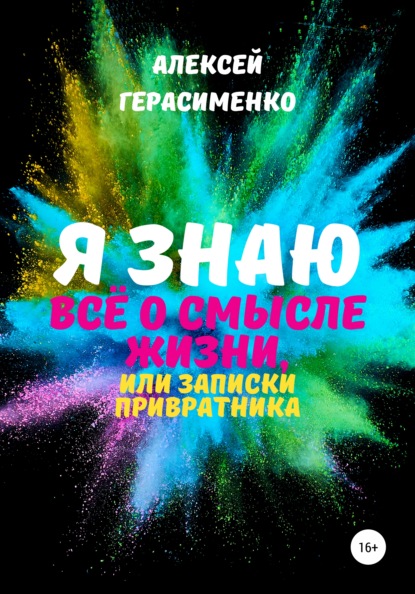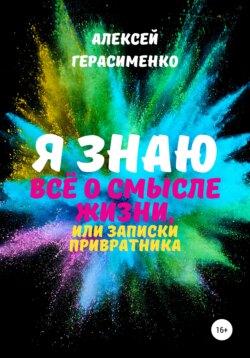
000
ОтложитьЧитал
Друзьям моим, туристам, посвящаю.
Благодарности
Подражая всем писателям – маститым и успешным, а так же некоторым начинающим и не совсем успешным – с неподражаемой искренностью выражаю благодарности всем своим друзьям по жизни, своим одногруппникам по детскому саду, одноклассникам, однокурсниками и сотрудникам по работе кого помню и кого забыл, но которые сделали меня таким, какой я есть.
Благодарю своих воспитателей, учителей и преподавателей, а также все книги, которые успел прочитать; выражаю благодарность серому веществу в лице клеток головного мозга, помогавшим мне думать.
Отдельно – благодарность жене, детям и внукам за поддержку и терпимость.
Особо – родителям (пусть будет земля им пухом) за толерантность в вопросе моей успеваемости в школе по предмету «русский и литература».
Предупреждение
Предупреждаю сразу: это сочинение вредно читать тем, кто подобно шпиону, добывшему в стане врага секрет его силы – "Нет в жизни счастья" – выколол словно догмат веры секрет этот на скрижали своей груди. Вредно будет читать, ибо придется по прочтении раскаяться и секрет этот уничтожить как улику в грехе ревизионизма. А хорошего в этом мало: письменные улики в шпионских романах принято съедать; либо, на худой конец, придется вырезать слово «нет», вставив – «есть». А это больно.
И, да! Не читать дальше с серьезным видом. Как говорит мой друг Андрюша: «Принять неуставное выражение лица!».
Предисловие
«Никогда такого не было, и вот опять».
В. Ф. Черномырдин
Очень хотелось бы мне поделиться с друзьями своими чем-либо полезным, что было бы и им и мне «гоже». Пересмотрел все свои излишки нажитого и, не найдя другого чего-нибудь нужного, думаю поделиться мыслями.
Не имея писательского опыта, решил, что писать буду так, чтобы по возможности самому было интересно, а поскольку я такой же как все, то, надеюсь, и вам будет интересно читать. В быту такой стиль называется: "что в голову взбредет", а в литературе – более изящно: "эссе".
Целью моих измышлений было желание разобраться в чем Смысл жизни (Сж), и получить его формулу, которая имела бы и смысл и пользу в повседневной жизни.
Можно, конечно, показать результат и конечную цель этого процесса сразу, здесь и сейчас, но часто сам процесс движения к цели бывает не менее интересен, чем его результат. Восхождения в горах много раз убеждали меня в справедливости этого. И друзья мои согласятся, что вершина – это цель, но и всего лишь краткий миг между подходом к вершине и спуском. И не факт, что стояние на вершине через время будет помниться ярче, чем само движение вверх, к цели. Особенно, если на подходе рядом с тропой попадаются всякие вкусности. Я никогда не пропускал заросли малины, либо черники с земляникой. А кто бы устоял? Особенно с голодухи…
Так и здесь я позволю себе отступления от торной тропы к цели, особенно если в зарослях попутных мыслей будут попадаться зрелые плоды размышлений или воспоминаний.
Я не эгоист: вкушать будем вместе. А предложить в этом путешествии я могу и чистую водицу, и ароматную чернику, и сладкую клубнику, и развесистую клюкву.
Итак:
В какой-то момент жизни наступает время, когда приходит ощущение, что память моего компьютера, называемого головой, переполнена и ее надо либо почистить, выбросив ненужное, либо разложить по папкам и, заархивировав, отправить на хранение.
К тому же самоизоляция нашего свободного времени, устроенная коронавирусом, позволяет переосмыслить «все, что нажито непосильным трудом» моего мозга.
Помню, когда-то давно мы разбирали мешки с фотографиями. Что-то выбрасывали, а что-то любовно расклеивали по фотоальбомам, надеясь в глубине души на их непреходящую ценность и надеясь передать их потом своим внукам в зачет наследства.
Так же и мысли, сваленные в одну кучу и пылившиеся в беспорядке до сих пор по уголкам моей памяти, пора было привести в порядок и отделить полезные от бесценных.
Чтобы отделить зерна от плевел, надо как минимум просеять ворох. Пропустить его через сита. А затем провеять, обдув свежим ветром.
Чтобы отделить зерна истины от плевел банальности, надо провеять ворох мыслей, пропустив его через веялку опыта, а затем эти зерна откалибровать на решетах разума и отшлифовать нормами русского языка. И только потом можно будет упаковать их в надежную и красивую форму, представив на витрину читательского интереса.
Задача моя, помимо прочего, дать рецепты приготовления блюд из этих зерен. И чем разнообразнее рецепты – тем полезнее будут блюда.
Желание разобрать и разложить мысли по полкам вызвано, по-видимому, моей новой работой. А звучит она как «дежурный у ворот» или «вахтер». Но мне больше нравится называть ее старинным словом «привратник». Слово это точно отражает то, чем занимаюсь я в рабочее время. Как ни крути: возьмёшь корень слова – получишь «ворота», возьмёшь основу – получишь смысл «приврать». Истинная правда и то и другое. И то и другое достаточно правильно отражает то, чем я сейчас занимаюсь. Когда работаешь привратником и скромная функция твоего тела – стоять у ворот, то, поневоле, зона оптимального комфорта смещается в сторону духа, то есть в сторону игры мыслей. Их сочетания и вычитания.
Эта функция тела полностью освобождает мое сознание для свободного полета мысли. Безотходное производство, так сказать. Все в дело. И мысли, и тело.
В процессе такого порхания моих мыслей пришло осознание, что некоторые из них имеют практическую ценность и пригодны для сбраживания в шипучий продукт под маркой «Я знаю в чем смысл жизни».
Это удивило, но заставило задуматься: а не изложить ли их публично, разлив в посуду типа книга. А что? Крафтовое зелье для подарков друзьям на все случаи жизни.
Правда, сказать, проблема в том, что никогда такого не было. В последний десяток лет я если и писал что-то, то это были SMS длиной в три предложения максимум, а чаще – в три слова; иногда хватало и трех букв…
Из публичных сочинений вспоминаются только школьные. Мучительные школьные сочинения. Я и сейчас напрягаюсь, когда внук говорит: «нам задали на дом сочинение». Сочинить сочинение для меня было так же трудно, как для штрафника работать работу. Поэтому и выходило корявенько.
Это сейчас я уже могу без напряжения написать пару-тройку строк без напряжения, учитывая свой опыт мудрости 65-летней выдержки. А тогда – сколько бы ни бился с нами наш одноногий учитель литературы Скибин Михаил Иванович, (а бился он обычно либо линейкой, либо своим костылем), вливая в головы наши свежие знания – знания мои никак не могли наполнить эту чашу до краев, намертво как в силикагеле оседая где-то в глубине памяти. Это похоже на чашу оз. Псенодах, воды которого кристальными ручьями стекают со склонов плато Лагонаки (кто не знаком с этим местом – описание в приложении) и водоворотом в центре озера исчезают где-то в подземных резервуарах гор, никогда не переполняя его чашу.
Видимо поэтому мои школьные сочинения отличались спартанской краткостью; однако, и талантливость их оценивалась обычно на 3 с плюсом не более. И это, помню, сильно огорчало Михаила Ивановича, поскольку, рядом с пятерками по остальным предметам, эта тройка по литературе выглядела – литературно выражаясь – диссонансом. Ну, что ж… «Всякая голова подобна желудку: одна переваривает входящую в оную пищу, а другая от неё засоряется». (Это не я сказал – это глубокие мысли Козьмы Пруткова).
Кажется, я начал «растекаться мыслию по древам», а ведь хотел лишь написать, что сомнения мои – записать ли свои мысли или выбросить их из головы – долго меня одолевали, пока не развеял их пример Владимира Мономаха. Помню: он воевал, строил, правил; а потом, под вечер своей жизни, взял и написал «Поучение детям». И ведь не зря писал! Вон какие потомки умные получились: спасибо, Юрий, за Москву. (Ну, конечно, я имею ввиду не Лужкова, а Юрия Долгорукого).
Вот и я решил прилепиться к его славе и написать свое поучение. А чего мелочиться? Как говаривал Виктор Федорович (Черномырдин): «Если уж делать, так по-большому».
Итак, взялся за гуж – и поехали…
Вступление
«Где начало того конца, которым оканчивается начало?»
К. Прутков
Да простят и не поймут меня неправильно друзья мои, кои сподобятся читать это эссе, но если я собираюсь ответить на вопрос в чем смысл жизни, то начать лучше с… нет, не с конца, а с себя. (Тексту полезно, а мне приятно).
Итак, как и у любого другого человека, основной параметр личности – возраст. В моем случае его можно смело измерить песочными часами в том самом смысле, как он был отражен в 90-м афоризме К. Пруткова, то есть содержимым этих часов.
Вообще, ни одна вещь в мире, пожалуй, не содержит такого противоречия между своей формой и содержанием, как песочные часы. Если форма их – это молодость, экспрессия, вызывающая в воображении узкую талию и высокую грудь, то содержание – песок – вызывает в памяти лишь афоризм: «Иного прогуливающегося старца смело уподоблю песочным часам».
Сколько себя помню в возрасте совершеннолетнем – лучшие воспоминания того времени связаны с горами. Попав под их очарование однажды, получаешь зависимость на всю жизнь. И ты беззащитен; ты подхватишь бациллу стадного образа жизни, называемого горным туризмом, и станешь источником заражения для других. (Немногих, болезнь которых не успела стать хронической, правда, удалось излечить. Но это были жертвы обвиняемых по «делу жён-врачей – специалистов по «горной болезни»).
Мои первые походы были в Краснодарских предгорьях. Потом – дальше и выше. И руководил всем этим безобразием – живая легенда для тех, кто с ним знаком – Петр Иванович Быковский. Но не буду здесь поминать его всуе, ибо он заслуживает отдельного рукописного памятника.
Но только добравшись до Эльбруса, попав при этом под влияние лучшего в мире знатока бесконечного числа анекдотов – В. В. Подтелкова, для которого ежегодные паломничества в горы – ритуал (его бабушка-казачка говорила: «Васыль на Эльбрус ходэ як я до церкви»); добравшись до вечных снегов Эльбруса я стал искателем ответов на вечные вопросы типа: «а на хрена мне это надо?» или по-другому: «а в чем, собственно, смысл жизни?». Но не потому, что кристально чистый разреженный воздух очищает ауру и раскрывает чакры, и не потому, что ты на много километров ближе к богу, чем все земные – а тем более глубоководные – животные. Хотя и это истинная правда. Дело в другом и все проще.
Восхождение немного отличается от того, что мы делаем в повседневности.
В обычной нашей домашней жизни голова вынуждена заниматься решением рутинных житейских задач: заплатить налоги; забрать жену с работы домой; вынести ведро с мусором, наоборот, из дома. Или, например, когда едешь на машине на работу, то голова постоянно занята ямами на дороге, сигналами светофоров, дорожными знаками, узкими талиями и другими искусственными препятствиями. И нет места для полета воображения.
Другое дело – восхождение. Это неспешное и несуетное занятие, длящееся иногда весь день, (бывает и с малой долей ночи). Часто оно совершается на автопилоте, когда идёшь в связке, закрыв глаза, а то и дремая на ходу. Ну, а если не спится, или ты идешь в полудреме, то при такой скорости, когда каждый шаг равен длине ступни и трем вдохам, ты невольно станешь философом, ибо мозги за невостребованностью станут сами по себе искать на этих неведомых дорожках мелькающих мыслей следы невиданных вопросов. В этом состоянии не всегда «сон разума рождает чудовищ». Иногда совсем наоборот. Это состояние похоже на детский калейдоскоп: некоторое скудное количество цветных камней создает при вращении бесконечное количество прекрасных мозаик. Так и некоторое количество скудных мыслей при достаточном их перетряхивании создают иногда любопытные вопросы. Вопрос о смысле жизни показался мне хотя и таинственным в своей неопределенности, но достаточно светлым и красивым и часто всплывал потом в повседневности. Много времени спустя я нашел на него ответ. Но постановка вопроса состоялась именно на восхождениях.
Беспокойное свойство человеческой натуры заключается в том, что однажды возникший вопрос будет цепляться потом словно кроха к отцу с вопросом «что такое хорошо, и что такое плохо…». И есть одна возможность отмазаться от него – это придумать ответ, по возможности похожий на научный.
И я его придумал.
С учетом моего технического образования ожидать от меня высокофилософских мыслей, а тем более открытий, не приходится. Не став успешным изучателем философии, я стал чистым прагматиком, когда в перерывах между походами стал осваивать утренние пробежки не только как повод для радости, но и как удобный инструмент познания, которым я пользуюсь, когда надо «отмазаться» от назойливых проблем или вопросов. Бег стал тем инструментом, который тасует мысли словно шулер колоду карт, пока, наконец, не выскочит джокер. Ему благодаря я могу теперь смело побазарить на тему практической пользы от знания цели и смысла жизни.
Вообще, бег – это очень благотворная штука, оказывается. Почти панацея. Но не буду говорить о нем вскользь. Лучше чуть позже спою ему осанну, если будет кому слушать мое пение. Ибо он заслуживает отдельного разговора.
Но об этом в следующей части. А сейчас – время позднее и пора вернуться к нашим баранам, пересчитать их – и спать.