Зверь есть зверь.
© Джек Гельб, 2023
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2023
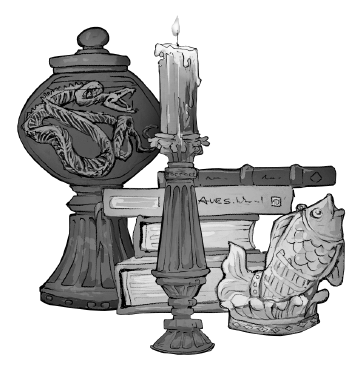
Часть 1. Nigredo[1]
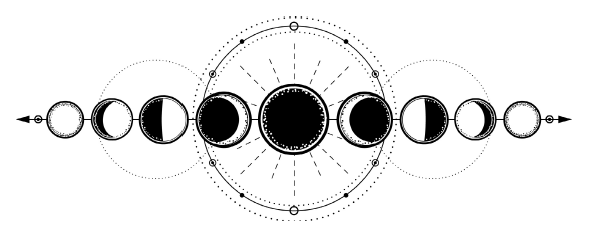
Глава 1.1
1751 г.
Близ алжирского порта.
Корабль несли лазурные волны, а наполненные тугие паруса охотно расправили свои тела, подставляя себя ослепительным лучам. У нас другое солнце, и мои северные глаза не были готовы к такой щедрости – они щурились от избытка света. Стоя у самого борта, вглядываясь в белеющий вдалеке берег, я вспоминал рассказы о своих предках, которые когда-то давно бесстрашно пересекали океан, покоряя Новый Свет. Эта жажда, эта погоня за горизонтом текла в моих жилах. Оттого моя кровь закипала сейчас, как закипала два века назад у моих праотцов.
По мере того как корабль продолжал свой ход, от скалы будто бы отделился крутой утес. Наверху росла роща кипарисов, укрывая своей тенью побережье дикой бухты. Та враждебно скалилась крутыми камнями, по которым прыгали и горланили крупные вороны. Птицы выискивали, чем поживиться, пожирая падаль, выброшенную морем.
В нетерпении я рвался углядеть больше, чем мне дано видеть от природы, до боли напрягая глаза.
Город уже стал различим и рассыпался множеством белых домиков с плоскими крышами. Моей радости не было предела, что казалось в общем-то не очень приличным и не сочеталось с моим траурным облачением.
Я распустил шнуровку на груди своей рубахи из черного льна, а европейские кальсоны заменил столь расхожими на юге широкими шароварами.
На ноги я надевал мягкие бархатные башмаки, чтобы пройтись, как сейчас, по палубе.
Меня распирала радость от скорого прибытия в чарующий Алжир, и я поспешил спуститься с палубы в каюту.
Мой отец, граф Оноре Готье, сидел с капитаном и пил горький кофе. Они сразу подняли взор. Их разительная непохожесть друг на друга даже заставила улыбнуться. Еще с первого дня мне понравился наш капитан – бронзовый от загара здоровяк с космами жестких усов и бакенбард. В целом капитан был действительно красивым и славным мужчиной, хоть его лицо уже получило отметины в виде темных пятен на лице. За все наше знакомство мне не давали покоя эти пятна, однако воспитание и приличия все же брали верх: пришлось удержаться от подробных расспросов о природе их происхождения. Подобная осторожность позволила мне сделаться его хорошим другом. Сейчас лицо капитана, отмеченное столь причудливо, не теряло своего добродушия, и он приветственно взмахнул рукой.
– Скоро уже прибудем, – торжественно произнес капитан, совершенно верно угадывая причину моего визита.
В ответ я радостно улыбнулся и кивнул, будто без моего заверения сейчас было никак не обойтись. Едва я перевел взгляд на отца, то сразу заметил, что он, в отличие от капитана, выглядел довольно изможденным и отнюдь не таким бодрым. Мое воодушевление скорым прибытием несколько остыло, когда я увидел настрой отца. Он напоминал настоящего проповедника. Блуза из темного льна была застегнута наглухо у самого горла, удушливо обхвативши его шею.
Волосы у него, как и у меня, как и у всех Готье, о которых мне довелось знать, были настолько светлы, что не было приметно даже прядей седины, которые уже проступили к его сорока трем годам. Он собирал волосы на затылке в низкий хвост и туго схватывал их бархатной лентой. Наша северная бледная кожа еще до высадки в Алжире перенесла солнечные ожоги. По зеленым глазам я быстро догадался – он в дороге так и не смог толком отдохнуть. Тяжелый взгляд опустился к часам, которые лежали между ним и капитаном. Излюбленная памятная вещь была настолько дорога отцовскому сердцу, что он носил их, несмотря на крупную трещину посередине стекла.
– Ты не спал все это время? – спросил я.
– Высплюсь во дворце месье Шафака. Сходи пока, проведай кузена. Если он не спит, выходите на палубу, – сказал мне отец.
Он закрыл крышку часов и провел рукой по лицу. Коротким кивком я распрощался с ними и поспешил к каюте своего двоюродного брата.
* * *
Моя рука уже занеслась, чтобы постучать, но, видно, порыв ветра заставил корабль качнуться, и дверь сама приотворилась.
Я вошел легко и тихо – мягкая восточная обувь позволяла мне ступать бесшумно, как кошкам, – ни одна доска не скрипнула подо мной. Мой кузен Франсуа крепко спал в гамаке, который покачивался с тихим тугим скрипом.
Франсуа был старше меня на два года – ему было восемнадцать лет. Я уже видел, как кузен спит, свернувшись, будто бы прижимая к сердцу какую-то ценность, которую у него непременно должен кто-то отнять. Темные брови нахмурились. На корабле было довольно душно, так что ничего удивительного в том, что кузен спал с голым торсом, не было. Я даже мог заметить, как там, под кожей, перекатываются мускулы.
Каждый раз, когда я вижу людей, хорошо сложенных, на ум приходят воспоминания о посещениях анатомических театров. Среди таких же отчаянных маргиналов мира науки я видел достаточно свежеваний. Холодные тела вскрывали прямо на наших глазах, демонстрируя истинное нутро человеческой природы. Возвращаясь с тайных отлучек домой, в поместье, я рисовал по памяти увиденное, чем лучше закреплял эти образы. Теперь мое воображение в точности изображало все то, что скрыто под кожей.
Пока я стоял, скрестив руки на груди и предаваясь раздумьям – будить его или оставить в покое, кузен сам дернулся во сне и бросил на меня быстрый, еще совсем неосознанный взгляд.
– А, Этьен, это ты… – пробормотал Франсуа, потягиваясь и садясь в гамаке, и, чуть коснувшись ногами пола, слегка-слегка покачивался, потирая глаза и ероша свои каштановые кудри.
Подняв на меня зеленые глаза, он последний раз зевнул и мотнул головой.
– Сколько времени? – спросил Франсуа.
Я порядком успел заскучать за плавание. Беспощадно одинаковый горизонт, к какому борту ни подойди, довольно скверно сказался на мне и на восприятии того самого времени, о котором справлялся кузен.
Не будь он таким сонным и потерянным после недавнего пробуждения: кто знает? Быть может, я бы и задался вопросом о ходе времени, о том, как его восприятие смещается. Однако все же я отдавал себе отчет о состоянии своего спутника и понимал, что за такую тираду, которая у меня уже давно бьется запертым зверем, я в лучшем случае просто потеряю собеседника. Так что я попросту усмехнулся и пожал плечами.
– Город уже виден с корабля, – радостно сообщил я, обойдя сам вопрос, но не его суть.
Кузен резко перевел на меня взгляд, и его глаза широко раскрылись.
– Да? – оживился он и вновь сел в гамаке.
Я закивал, и Франсуа, встав на ноги, быстро накинул рубашку на шнуровке, распущенную, как и у меня.
Корабль уже миновал приглянувшийся мне дикий утес и уверенно шел к порту.
– Как граф Готье? – спросил Франсуа, опираясь о борт, заглядываясь на светлеющий вдалеке город.
Я пожал плечами.
– С каких пор ты так называешь родного дядю? – спросил я.
Франсуа свел брови, глядя на меня, а я сделал вид, что не понимаю причину его внезапного смущения.
– Он с тобой не говорил? О тете Арабель? – спросил кузен.
Меньше всего на свете я хотел не то что говорить, но даже вспоминать о покойной тете Арабель. Моей силы воли не хватало, чтобы сдержать мурашки, которые выступали на моей коже от одного только воспоминания об этой женщине, с которой я имел несчастье быть в родственной связи.
Невольно обхватив себя поперек туловища, я глубоко вдохнул морской воздух, несущийся буйными ветрами со всех сторон. Это чуть помогло совладать с воспоминаниями об этой Арабель.
– Упокой Господь ее душу, – произнес я, перекрестившись, как полагается католику, и помотал головой, как будто бы не был в курсе ни о каких секретах своего кузена.
Франсуа поджал губы, явно не желая продолжать этот разговор без моего отца.
А меж тем на корабле началась суета, лучше всего предвещающая скорое прибытие в порт. Матросы шныряли из стороны в сторону, грязно ругаясь, каждый по-своему, но понимая товарища по команде.
Франсуа, будучи крепким юношей с пылким сердцем, исполнился вполне себе своевременным, но неприличным порывом для своего положения. А именно – он уже вознамерился помочь матросам, которые тянули на себя тугие скрипучие тросы, но я пресек этот порыв, положив руку на плечо кузену.
– Не стоит им мешать, братец, – произнес я.
– Мешать? – усмехнулся кузен, хотя смирился с моей правотой, пусть и не целиком ее признавая.
– Этьен прав, – кивнул отец. – Не стоит утруждать себя. Побереги силы, у нас будет много дел в городе.
Франсуа вздохнул, встряхнул плечами и продолжал смотреть за потугами матросов.
Вскоре корабль уже причалил. Не успели мы сойти, как пряный запах, разносимый резвыми ветрами, забил мне нос и волшебным дурманом ударил мне в голову.
Усталость, настигшая меня намного меньше, нежели моих спутников, в миг отступила, когда я сошел на сушу и огляделся по сторонам.
Глаза разбегались от чарующей картины, разворачивающейся прямо передо мной. Солнце уже лениво тянулось к горизонту, и тени становились длиннее.
Плеск волн в вечереющем солнце разливался певучим золотом, и этот звон смешивался с местным гулким наречием.
Нас встретили с десяток слуг из местных, чей внешний облик так сильно разнился от европейцев, что вверг меня в шок. Их темная кожа лоснилась в янтарных ласках вечереющего солнца.
Алжирцы вели на привязи трех ослов. На животных быстро погрузили тяжелые баулы, туго схваченные широкими ремнями.
Своими невероятными тягучими голосами местные подгоняли ослов, которые попросту стали посреди оживленной набережной. Погонщики быстро совладали с длинноухими упрямцами, и вскоре мы двинулись по пыльной дороге вверх.
Я глядел на местный народ, на их одеяния, что струились по длинным черным рукам, в которых они держали плетеные корзины или расписную глиняную посуду. В их ношах, что местные несли сами или водружали на ослов, все плескалось, звенело и глухо гремело.
Меня обуял ненасытный голод, неутолимая жажда ощущений, которые не проходили, а лишь усиливались по мере того, как я заглядывался на каждый жест смуглых рук, что были длиннее, нежели у людей на родине. Стоило мне посмотреть в черные влажные глаза, ответом мне были равнодушие, вражда или взаимный интерес.
Моя зачарованность украдкой притупила всякую бдительность и сыграла со мной дурную шутку: я не заметил черного араба, который суматошно несся прямо на меня. Едва ли он придал хоть какое-то значение, задевая буквально каждого во всей этой единой пестрой толпе, но я едва не повалился с ног. Благо мой любезный кузен очень вовремя подоспел.
– Не отставай, Этьен! – раздался беспокойный окрик отца, чей голос сейчас тонул, бледнел и будто бы растерял любую силу в здешнем дрожащем от угасающего зноя воздухе.
– Не отстаю! – отозвался я, потирая плечо и стараясь держаться своих, что было для меня вовсе нетрудно.
Хоть сердце мое уже начало тревожно колотиться, никак не радуясь беготне сквозь толпу, сейчас выбора особо и не было. Собрав волю в кулак, я продолжил проходить это тяжкое восхождение, обильно обливаясь потом.
Мы пробирались по пыльному городу, полному чарующего дурмана и манящих южных напевов. Я прекрасно знал, что ни один из этих звучных окликов не обращается ко мне, и все же каждый раз мне слышалось, будто бы какой-то алжирец звал меня по имени.
Какому-то неведомому и бесконечно подлому демону удавалось обмануть мой уставший разум снова и снова. В висках гудело от тяжелой дороги и духоты, и мои ребра едва-едва шевелились, как будто придавленные тяжелой плитой.
Наконец мы пришли к белокаменному забору с большими воротами. Несмотря на недомогание, я отдал должное этим стенам, и в особенности четырем нишам с остроконечными арками. Внутри каждой рябили рисунки из причудливых орнаментов, выложенных мозаикой. Ворота со скрипом двинулись, подбирая под собой иссушенную пыль, и перед нами предстала зеленеющая кипарисовая роща.
Прохладная тень стала истинной панацеей для нас, ну, во всяком случае, для меня так точно. Я уже предвкушал, как моя северная кожа обратится сухой змеиной чешуей, которую можно отслаивать прямо руками, – и ждать, судя по ощущениям, оставалось недолго. С предвкушением расплаты за посягательство на проклятое золото коварного восточного солнца, я смотрел сквозь ветки деревьев, любуясь урывками лазурного неба.
Тенистая роща милосердно берегла нас, пока мы совершали свой путь до белого каменного дворца. Здесь царил одурманивающий аромат трав, такой богатый и изысканный, и такой неведомый, что он кружил мою раскалывающуюся от зноя голову.
Великолепное здание вырастало предо мной, гордо вознося свои резные украшения вокруг входа, в то время как высокие стены стояли будто бы равнодушно. Лучи уходящего солнца косо скользили по неровным стенам.
Слуги проводили нас до покоев, где находились кувшин с чистой холодной водой, тарелка пряностей и чистая одежда. Я охотно умыл лицо от пыли. Прохлада приятно коснулась моих пылающих щек. Переводя дыхание, я рухнул на постель, застеленную пестрым покрывалом, в ткани которого сплетались темно-бордовые и белоснежные нити.
Стены были выложены мелкой плиткой, затем шла белая стена с утопленными в нее нишами, а на сводчатом потолке пестрила россыпь мелкой мозаики.
Я лежал на спине, переживая то потрясение, которое на меня произвел Алжир. Перед глазами проносились кирпично-красные деревянные двери, на пороге которых сидели чернокожие мужчины, выглядывая из-под пестрых тюрбанов своими черными глазами.
Коснувшись своего лба, я не на шутку обеспокоился, нет ли у меня жара, зная за собой особую склонность болеть в самое неподходящее время.
Сев в кровати, я на всякий случай вновь умылся прохладной водой из тяжелого кувшина. К моему собственному удивлению, я почувствовал себя намного лучше, хотя, может, я просто обманывал себя.
Уже более спокойным взором я обвел свою комнату, и приятным сюрпризом для меня оказался выход на балкон с тенистым навесом. Только-только унявшееся воодушевление вновь вспыхнуло в моем сердце, и я вышел осмотреться.
Следующим приятным сюрпризом было то, что этим чудесным балконом соединялись наши с Франсуа комнаты. Не преминув воспользоваться случаем, я зашел к кузену и уже хотел было подкрасться к нему со спины, как моя задумка не увенчалась успехом.
Меня выдал серебряный кувшин, стоявший напротив Франсуа. Кузен почти сразу же обернулся, завидев, хоть и искривленное, но вполне ясное отражение.
– На этот раз не вышло, – довольно заявил он.
Я пожал плечами и в качестве награды и утешения за проваленную засаду стянул горсть пряных засахаренных драже. Они стояли на низком столике в расписной эмалевой миске.
– В следующий раз, значит, – ответил я, пожав плечами, хрустя сахаром, который мягко таял на моих зубах.
– Дядя Оноре сказал, что до вечера мы предоставлены сами себе, – сказал Франсуа.
– А вечером? – удивился я.
– А вечером он представит нас месье Шафаку, – ответил кузен. – У тебя снова взгляд, как будто бы ты пьян, но я знаю, что это не так. Но все же, братец, ты не забыл, что прибыли мы сюда по делу?
Я внимательно слушал, хотя, наверное, по мне нельзя было сказать, так как я грыз драже за драже, блуждая взглядом по комнате. Прямой вопрос заставил меня кивнуть, все же дав хоть какой-то ответ.
– Разумеется, серьезный разговор, как будто отец ведет иные? – пожал я плечами.
– И он хочет, чтобы мы оба присутствовали при этом разговоре, – как будто бы было необходимо об этом напомнить, произнес Франсуа.
– Столько слышал от отца про этого месье Шафака… – потянувшись, произнес я, прохаживаясь по комнате кузена и пытаясь определить, кому из нас все же выделили покои попросторнее. – Ты думаешь, он к этому причастен?
Кузен вскинул брови и бросил взгляд на приотворенную дверь. Вполне благоразумно опасаясь лишних ушей, Франсуа прикрыл ее, догадываясь, к чему я клоню.
– К исчезновениям наших людей? Да, вполне, – кивнул Франсуа, говоря четко и уверенно, хоть и понизив голос.
Самодовольно пожав плечами, я лишь удостоверился в собственной догадке, и мне было приятно слышать, что мы с кузеном одного мнения.
– Неужели ему выгодно ссориться с людьми, вроде моего отца? – Я прошелся по комнате, направляясь к тому злосчастному кувшину, отражение в котором меня выдало.
– Скорее всего, он нашел более щедрого покровителя, – ответил кузен.
– И менее белого, – добавил я, касаясь кончиками пальцев холодного металла. – Знаешь, а тогда ведь совсем скверная картинка складывается.
Я слегка постучал ногтями по кувшину, и он отозвался сладким распевным звоном.
Франсуа перевел на меня взгляд.
– Тогда выходит, этот месье Шафак в лучшем случае смотрит сквозь пальцы на эти исчезновения, – протянул я. – А в худшем…
– Ты ужасного мнения о людях, братец, – вздохнул Франсуа.
Я пожал плечами, не имея что возразить.
* * *
Очень скоро терновый венец мигрени ослаб и спал, и я ощутил долгожданную свободу. Новый прилив сил благотворно прояснил рассудок и оживил притупленные чувства. Первым делом, как и подобает пылкому уму исследователя, пробудилась жажда познания.
Было решено провести остаток длинного дня в изучении волшебного дворца, который столь радушно нас принял в качестве гостей.
Внутреннее убранство поражало, пленило с впечатляющим размахом и щедростью. Мы проходили вдоль арок, выложенных мелкой мозаикой. Их хитрые узоры обманывали мое зрение до такой степени, что отпечаток их, извратив все цвета и переменившись на противоположный, стоял пред моим взором, даже если я смотрел на белоснежную стену или пустой потолок.
Пекло остыло, и меня манил свежий воздух, который присущ жарким приморским городам: мягкий и ласковый. Если я закрывал глаза и вспоминал Марсель, в котором часто бывал, терпкие ароматы быстро уверяли меня, что мы на коварном востоке, вдали от родины, и глаза стоит держать открытыми.
Душистые ароматы расплывались незримым облаком, крадясь в прохладных сгущающихся тенях. Прогуливаясь по крытым балкончикам, мы с Франсуа зашли во внутренний сад с алжирскими пихтами и раскидистыми оливковыми деревьями. Сам дворец окружал нас по периметру и состоял из четырех ярусов, которые стояли друг на друге ровными арками. Перила и перегородки, умело вырезанные из дерева, вились искусными решетками. Белые арки окрашивались в бледно-розовый цвет вечереющего солнца, а над каждой капителью колонн тянулась полоса яркой плитки. Нежное благоухание доносилось с тихим ветерком, который трепал гибкие ветви с узкими сочными листьями.
Рядом со мной сидел Франсуа и чиркал в своем альбоме твердым карандашом. Лишь краем глаза я заметил пару набросков раскидистых оливковых деревьев, что стояли чуть поодаль от нас.
Изначально мы хотели лишь пройтись по саду, но жара уже спала, и мы нашли большее удовольствие, находясь здесь, на свежем воздухе.
– Как думаешь, нам разрешат и тут постелить под открытым небом? – спросил я.
– Думаю, это будет не совсем вежливо, – отозвался Франсуа. – Месье Шафак приготовил для нас прекрасные покои, но в первый же день мы просим гамаки, чтобы ночевать под звездами. Как-то некрасиво получается, не находишь? Я сам отнюдь не против самой затеи и при других бы обстоятельствах попросту не стал бы ждать никакого дозволения – взяли бы сами и натянули гамаки, делов-то?
Я улыбнулся, предаваясь приятным воспоминаниям о наших ночевках на тенистых опушках леса. Кроны ласковым шелестом скрывали наши с кузеном беседы. Сейчас оливковые деревья и кипарисы отнюдь не спешили заглушить наши разговоры. Кажется, деревья напротив притаились, слушая гостей с далекого севера.
– Ты смог бы тут остаться жить? – спросил я кузена.
– Мы едва приехали, – ответил он и пожал плечами.
Альбомный лист перевернулся с сухим шелестом, каким наполняются леса нашей родной Франции поздней осенью.
– А ты бы хотел? – спросил кузен, поднимаясь в полный рост и пересаживаясь на другое место, на этот раз обращая свой взор на низкие кусты с маленькими благоухающими белоснежными розами.
– Я же тебя не об этом спрашивал… – вздохнул я, закатывая глаза.
– Вот как? – спросил Франсуа.
Чирканье карандаша по бумаге не стихало.
– Мой вопрос был не о твоем желании, – протянул я. – Смог бы ты жить здесь? Про себя думаю, что вряд ли. Хотя бы по вине этого беспощадного солнца. Не люблю состязаться, но я, кажется, обгорел сильнее вас обоих.
Я коснулся своих щек и лишний раз убедился, что Алжир в самом деле принял меня и беспощадно заклеймил, и, скорее всего, этим вечером я буду походить на ящерицу во время линьки.
– Я думал, – произнес кузен, – тебе нравится город. Ты так завороженно пялился на местных, на эти улочки, и едва ли проходил мимо миски со здешним угощением, чтобы не стянуть неведомое лакомство и сразу же пробовал его на вкус. В целом Алжир вполне в твоем духе, разве я не прав?
На моих губах сама собой занялась мягкая улыбка, и я чуть заметно кивнул.
– Мне нравится Алжир, но боюсь, он мне не по зубам, – произнес я, на самом деле польстившись на внимание кузена.
Не знаю, что мне понравилось больше: сама фраза, которая так легко и к месту сорвалась с моих губ или тихое бормотание кузена, которое сошло вместе со вздохом, вроде «О боже мой…» или что-то в этом духе – пересмешка оливковой рощицы не дала мне расслышать как следует.
– Только таким соперникам и стоит бросать вызов, как говорит профессор Алье, – произнес кузен. – Иначе…
– …какой вкус от победы над слабейшим? – закончил я.
Мы с Франсуа усмехнулись, и повисла тишина, шелестящая тихим вечерним ветерком.
– А ты хотел бы умереть здесь? – спросил я, краем глаза поглядывая на кузена.
– Боже, – глухо усмехнулся Франсуа, отложив рисование. – Ты позер, Этьен.
Я пожал плечами.
– Вы все задумываетесь о красивой смерти, когда уже поздно, – продолжил я. – Когда вы уже скучный обрюзгший старик, окруженный сердобольными сиделками. Уже слишком поздно, время истекло, и шанс уйти красиво выпадает лишь раз, и то не всем. Я презираю осторожность, которая губит вкус жизни. Нет, Франс, не смотри на меня так! Я совершенно серьезно! Именно смерть и дает нам вкус жизни. Уходить надо на высокой ноте. Клеймите меня безумцем или романтиком, если вам так угодно. Я не мог бы жить здесь – ласковый запах чарующих дурманов и пряностей лишь усыпляет, прежде чем Алжир покажет свои клыки. Нет, я точно не смог бы здесь жить, но с удовольствием умер бы тут.
– По-моему, ты перегрелся, Этьен, – вздохнул Франсуа.
Я презрительно прищурился, что отдалось неприятной болью на моем обгоревшем лице, и отмахнулся.
– Ну, если отбросить поэзию, мы толком не видели город, а завтра отец точно заставит нас заниматься его делами, и там уже праздно не послоняешься, – произнес я и решительно встал в полный рост, о чем скоро пожалел.
Чернота заволокла мне глаза, и понадобилась пара мгновений, чтобы прийти в себя.
– По дороге сюда я видел рынок, чуть выше от порта, – наконец, очнувшись от мрачного плена, произнес я.
* * *
На пыльных душных улицах, окутанных пряными благовониями и морскими жаркими ветрами, царила стихийная суета. Такого я не видел ни до, ни после. Толпа была не просто единым существом, она вобрала в себя всю пестроту нарядов, многоголосие окриков и зазываний, тысячи лиц, лоснящихся от влаги в вечереющем янтарном солнце. Смуглые руки алжирцев пересчитывали брошенные на прилавок монеты, и благородный коварный металл пел манящим перезвоном. Слышалась речь, чем-то напоминающая наш родной французский, но притом здешний акцент звучал намного громче, так что ни я, ни кузен не могли разобрать ни слова.
Я сидел на каменных ступенях и облизывал большой палец, который я порезал, желая проверить добросовестность заточки сабли. Франсуа воротился от прилавка, знатно закупившись розовым маслом. Такого глубокого и величественного благоухания не слышали у нас дома. Насыщенный аромат дамасской розы неторопливо и мягко стелился в этом удушливом вечернем воздухе. Неспешно и царственно плыл он по воздуху, стелился и ублажал горячий рассудок. Пленительное очарование еще долго не рассеивалось, даже когда я закрыл стеклянный флакон и отдал кузену, пряный шлейф был добрым спутником, покуда мы брели дальше, вглубь рынка.
Ароматы спелых фруктов расцветали, когда мы приближались к лавочникам с маслянисто лоснящимися смуглыми лицами, и отступали, стоило нам продолжить свой путь. Зачарованный великолепием, я не глядел даже, куда ведет меня Франсуа, и очнулся от грез, лишь когда запахи масел, фруктов и цветов иссякли и перебились откровенной вонью. Я поморщился от этого гнусного смрада, который удушливо воцарился в этом месте. Перед нами развернулся мясной ряд.
Мы переглянулись с кузеном и, не обмолвившись ни словом, зареклись покупать здесь хоть что-то. Мухи гудели, садясь на разделанные туши и потроха. Сочившийся сок, смешанный с кровью, густыми липкими каплями проникал сквозь доски и ящики. Мясники разделывали туши своими тяжелыми ножами на пнях, пропитанных насквозь кровью. Лица свирепели, когда они наносили удары.
Мы уже прибавили шаг, стараясь поскорее покинуть мясной ряд. Кузен ушел немного вперед. Когда он скрылся за поворотом, сердце тревожно забилось. Почему мы не могли разминуться среди благоухающих масел, спелых сочившихся фруктов или столов, уставленных сладостями с золотистыми корочками сладкой карамели? Нет, мы разминулись посреди мерзостного удушливого смрада плоти и липкой крови и сока, которым насквозь пропитался песок под ногами.
Вдруг внимание мое привлек такой рев, который просто не мог исторгаться из человеческих уст. По крайней мере, мне так показалось, и я, щуря уставшие от яркого солнца глаза, обернулся на звук. Тогда я хотел посмотреть, что же за зверское создание так пронзительно вскрикнуло, пересилив весь гул и гомон алжирского базара.
Около уступа собралось так много народа, что я точно понял – если я хочу узреть все своими глазами, я должен протиснуться в этой толпе. Будучи тем еще щуплым пронырой, я ловко подгадал момент и, проскользнув сквозь пыльные одежды, я добился своего. Внизу открылось плато. Драка была в самом разгаре. Притом бой казался неравным.
Четверо алжирцев явно были в свойстве между собой против одного-единственного высокого сутулого голодранца в красно-бордовом тюрбане. Его взгляд исподлобья пронизывал алжирцев, которые явно не спешили с расправой, пользуясь очевидным своим превосходством. Голодранец оглядел толпу, и мне хватило той пары мгновений, чтобы увидеть в его загорелом лице европейца.
– Из-за чего потасовка? – спросил я, уповая, что среди зрителей найдется тот, кто поймет меня.
– Из-за чего, месье? – отозвался смуглолицый мужчина рядом со мной. – Пройдоха Жан решил украсть у мясника кость.
– Кость? – переспросил я, думая, что попросту не расслышал в царящем вокруг оре.
– Кость, месье, кость, – закивал алжирец. – Вот и думай теперь, стоило оно того!
– Кто из них мясник? – спросил я, указывая вниз.
– Кто, месье? Так все пятеро, включая пройдоху Жана, – ответил алжирец. – Как знали, не к добру этот оборванец прибрел к нам с восточного утеса. Дикарь, как есть, да еще и вороватый.
Я закатил глаза, довольно утомившись этим разговором, равно как и шумом. Достав пару монет, я сунул их в руку своему собеседнику.
– Прикрикните, чтобы поутихло, мой добрый друг, – попросил я, махнув на разгоряченных зрителей рукой.
Влажный взгляд черных глаз вспыхнул. Видно, получив много больше, чем стоил этот простенький труд, алжирец охотно присмирил толпу, гаркнув, вероятно, какую-то здешнюю брань. Как только толпа поутихла, я набрал воздуха в грудь и воззвал так громко, сколько у меня было силы:
– Я заплачу за него!
Все пятеро обратили на меня внимание, и я мог разглядеть лицо пройдохи Жана. Нескладный и резкий, со слишком длинными ступнями, обутыми в пыльные потертые сапоги, он сутулился и опирался рукой об огромный валун, где на привязи стояли ослы. Длинноухие упрямцы сторонились всей драки, а может, и именно этого пройдохи Жана. Его опаленные светло-русые волосы грубо свалялись неряшливыми прядями, но когда голодранец поднял взгляд, волосы ниспали назад. Мне открылся взгляд, который я вижу перед собой до сих пор. На его опаленном лице с резкими чертами и сломанным носом один глаз горел светло-серым цветом, который сразу же напомнил мне об одном датском принце, моем близком друге детства. Второй же глаз чуть щурился, и он был черен, под стать алжирским очам.
Думаю, что он старше меня лет так на пять точно, а может, и больше. Вспоминаю его пыльные измятые лохмотья, которые обнажали его обгоревшие плечи, и не идет никакого более подходящего слова, но тогда он показался мне и впрямь конченым пройдохой. Эта ошибка мне много стоила, но сейчас, оглядываясь назад, я ничуть не жалею об этом.
До чего же мне было неожиданно увидеть соотечественника! Растерявшись, я стоял в оцепенении, но шевеление одного из алжирцев заставило меня вновь напомнить, что я не прочь подкинуть им денег.
– Сколько? – вопрошал я, наконец переведя взгляд на окруживших Жана.
Громко харкнув, он сплюнул с кровью на пыльную землю, после чего выпрямился в полный рост. Теперь он был еще выше, чем мне показалось вначале.
– Три пистоля, – ответил один из алжирцев.
– Что же это за кость такая? Рог единорога, не меньше, – пробормотал я себе под нос.
Видимо, на то и был расчет лукавого чернокожего алжирца, но у меня не нашлось монеты ни в один, ни в пол-луидора. К большой радости мясников, я бросил им четыре пистоля одной монетой. Они ругнулись на прощание Жану, сплюнули наземь и оставили долговязого пройдоху, по крайней мере до поры до времени.
Не теряя ни минуты, я ринулся по ступеням сквозь разбредающуюся толпу вниз, к своему соотечественнику. Жан заметил, что его заступник столь охотно ищет его общества, и посему не спешил. Он присел на валун с привязанными ослами и, пощурив свой диковинный взор, обратился лицом к морю.
– Ты же здесь недавно? – спросил меня Жан, вместо приветствия или слов благодарности.
– Недавно, – согласно кивнул я.
Злиться на диковатую грубость мне не было никакого толку. Его простецкое отношение могло сыграть на руку. Этикет, расшаркивание ножкой, обутой в бархатные туфли с большими пряжками и бантами остались там, за морем, в далеком и мною ненавистном Версале. Воздух тут стоял морской, разгоряченный ужасающе щедрым южным солнцем, совсем никак не походил на затхлые болота Версаля, полные комарья и мошек.
– Если и воровать, то отчего кости, а не мясо? – спросил я.
Жан улыбнулся, почесывая затылок, и посмотрел на море.
– Ты скоро обгоришь под этим солнцем. И вообще, тебе тут не место, – ответил Жан, вставая с валуна.
Вот примерно чем-то таким выливается любое христианское деяние на моей памяти.
– Береги себя, – ответил я и собирался было уйти, как Жан резко вцепился мне в плечо.

